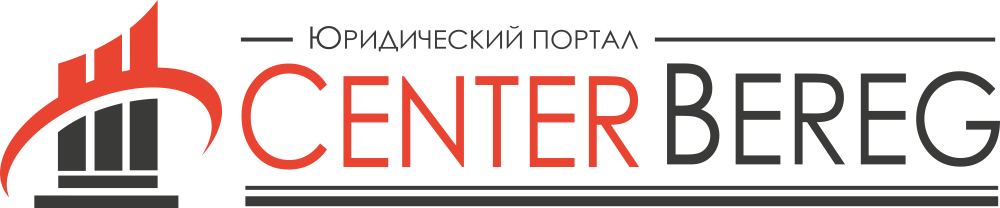Пацифизм, необходимая война и террор. Три доктрины русской философско-правовой мысли
(Кашников Б. Н.) («Военно-юридический журнал», 2012, N 12)
ПАЦИФИЗМ, НЕОБХОДИМАЯ ВОЙНА И ТЕРРОР. ТРИ ДОКТРИНЫ РУССКОЙ ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ <*>, <1>
Б. Н. КАШНИКОВ
——————————— <*> Kashnikov B. N. Pacifism, necessary war and terror. Three doctrines of the Russian philosophical and legal thought. В работе использованы результаты, полученные в ходе выполнения исследовательского проекта «Доктрина необходимой войны», поддержанного факультетом философии НИУ — ВШЭ. ТЗ. N 20. 2012. <1> Работа выполнена при поддержке индивидуального исследовательского гранта 2010 года Научного фонда НИИ — ВШЭ N 10-01-0167 «Этика и Война».
Кашников Борис Николаевич, профессор кафедры практической философии Научно-исследовательского университета — Высшая школа экономики, доктор философских наук.
В статье приводятся воззрения русских философов, затрагивающие проблемы войны и террора. Автор исследует основные доктрины, посвященные этим вопросам.
Ключевые слова: пацифизм, война, террор, русская философия.
The article cites views of the Russian philosophers affecting the problems of war and terror. The author examines the main doctrines devoted to these issues.
Key words: pacifism, war, terror, Russian philosophy.
Задача настоящей статьи заключается не в реконструкции известных философско-юридических текстов, принадлежащих перу Л. Н. Толстого, И. А. Ильина и Н. А. Морозова, а скорее в их деконструкции. История русской философии трагична. Русская философия прекратила свое существование на родине в 1922 году, когда большинство русских философов были изгнаны из страны, а те, кто остались, подверглись преследованиям. Русская философская мысль еще некоторое время продолжала свое существование в изгнании, но никогда уже более не достигла былого состояния расцвета и могущества. Философия может существовать только в условиях дискурса, но не музейного историко-философского дискурса, а дискурса прагматического, при котором идеи востребованы для решения насущных нормативных проблем. Проблемы войны и насилия, которые составляли существо известного философского дискурса русской философии конца 19-го — начала 20-го века, являются сейчас насущными как никогда. Между тем идеи русской философии остаются невостребованными. Дискурс недавнего прошлого и современный дискурс войны и насилия разделяет пропасть. В этой статье я попытаюсь перебросить небольшой мост над этой пропастью. Для этого понадобится не текстуальное археологическое воспроизведение текстов, но их аналитическое прочтение и интерпретация, возможно, даже «перевод» на язык современных проблем, именно это я и называю деконструкцией. Мы не испытываем недостатка в историко-философских трудах по русской философии. Мы испытываем трудности в решении нормативных проблем войны, причем не только в России, но и во всем мире. Я уверен, что идеи русской философско-правовой мысли сохраняют свою актуальность при условии их соответствующей интерпретации. Я хочу вернуть этих авторов в лоно современного дискурса морально оправданной войны Bellum Justum.
Пацифизм
Замечательной особенностью этого дискурса было то, что он начался с пацифизма. Пацифизм, о котором я говорю, был представлен философской мыслью Л. Н. Толстого (1828 — 1910 гг.). Его основная идея проста — насилие, следовательно, и война есть зло. Насилие не просто зло инструментальное, как негодное средство для решения практических задач. Скорее это метафизическое зло и источник всех прочих моральных бед. Толстому нельзя отказать в последовательности. Обнаружив подлинное существо зла и источник всех моральных проблем, Толстой довел эту идею до логического завершения — насилия быть не должно. Его не должно быть ни на уровне индивидуальной, ни на уровне общественной морали. Не должно быть и институтов, которые по существу своему основаны на насилии, то есть армии и государстве. Если целью человека является искоренение зла, то использование насилия в качестве средства в борьбе со злом «может только увеличить, а не уменьшить зло». Проследим теперь более подробно эту логическую цепь от приписывания насилию признаков зла и до нормативного вывода о его незамедлительном искоренении. Само по себе утверждение, что насилие составляет зло, не содержит в себе ничего нового. Это одно из самых общих и бесспорных суждений в философии и религии. Но, приписав насилию признаки зла, далее, в результате некоторых уточнений, философ приходит к его оправданию «в данных конкретных условиях» или для решения «этой задачи». Августин, например, приходит к оправданию крестового похода. Различие между различными способами осуждения насилия становится очевидным посредством целого ряда уточняющих суждений. Одно из них: что именно мы понимаем под насилием. Одна из особенностей философии Толстого — это то, что его понимание насилия не уводит нас в метафизические дебри. Его понимание совпадает с определениями нашего обыденного языка, в этом смысле Толстой — современный философ. Речь идет о физическом страдании, вреде и смерти другого человека. Всякое иное понимание насилия, как то душевное или моральное насилие, означало бы невозможность сопротивления злу. Это сделало бы философию Толстого разновидностью мистического учения о непротивлении и недеянии, хотя такие интерпретации существуют. У Л. Н. Толстого речь идет о «непротивлении злу силою». Душевные страдания злодея, если они вызваны нашим сопротивлением, хотя и ненасильственным, не могут быть исключены. У писателя есть еще одно уточнение, позволяющее провести грань между насилием и очевидными случаями применения силы, которые позволяют спасти жизнь, когда мы, например, силой отталкиваем человека и тем самым спасаем его от падающего сверху камня. В качестве такого уточнения применяется золотое правило морали: «Мы не должны делать другим, чего для себя не желаем». Следующее уточняющее суждение: откуда именно мы можем знать, что насилие — зло. Ответ на этот вопрос представляет собой философский водораздел. Религия дает очень простой ответ на этот вопрос, потому что всякое насилие запрещено создателем. Полагаю, что Толстой не отвергает возможность такого ответа. Более того, он уверен, что это именно так. И именно в этом смысл всего Нового Завета: «Меня часто поражает та уверенность, с которой люди, желающие считаться христианами, отрицают закон непротивления злу насилием, тогда как без этого закона все христианство рассыпается, как машинка, из которой вынута пружина, державшая все вместе», а потому «христианство без закона непротивления не есть религия, а самое грубое подобие религии» <2>. ——————————— <2> Толстой Л. Н. Философский дневник. 1901 — 1910. М.: Известия, 2003. С. 168, 341.
Но у философа есть и другой ответ. В противном случае у графа Толстого не было бы философии, но была бы исключительно религия, которую пришлось бы дополнить обрядами, культом и принуждением, вплоть до насилия <3>. То, как отвечает на этот вопрос философия, позволяет с точностью ее идентифицировать. Например, для Канта насилие является злом, потому что ему не может быть места в трансцендентальном царстве целей, но насилие минимальное и сообразующееся с законом для него оправданно. Для утилитариста насилие вообще является оросительным злом, поскольку может быть полезно. Насилие является злом для Толстого как философа, потому что именно это подсказывают нам наши глубинные моральные интуиции, смысл которых — успешное социальное действие и расцвет индивида. Это обстоятельство делает философию Толстого разновидностью философского прагматизма. Речь идет об универсальной и общечеловеческой интуиции, которая заглушается архаическими религиями, идеологиями, общественной моралью и институтами. Задача заключается только в том, чтобы расчистить эту интуицию от вековых завалов и дать ей возможность говорить на языке понятий, столь же простых, как и сама интуиция. В прагматизме этот метод называется методом «рефлективного равновесия». Нормативная философия совершает движения от интуиции к концептам и концепциям и обратно через практическое действие. Я полагаю, что и критика философии Л. Н. Толстого может быть только прагматическая — невозможность достижения рефлективного равновесия на предложенных им условиях. На этом заканчивается метафизика Толстого. Далее мы переходим к его социальной философии. ——————————— <3> У писателя были весьма напряженные отношения с официальным православием. Он был даже отлучен от церкви.
Если отказ от насилия дает человеку возможность наиболее полной, счастливой и продуктивной жизни, что же мешает отказаться от насилия раз и навсегда? Ответ, который дает на этот вопрос писатель, представляет собой один из вариантов современной дилеммы узников, хорошо знакомой в теории игр. Мы не можем это сделать потому, что не уверены, что это сделают другие. Неуверенность заставляет нас воздерживаться от рискованных предприятий в условиях неопределенности. То, что предлагает Толстой, требует обратного движения от политического состояния к природному состоянию, иначе говоря, его логика прямо противоположна логике Т. Гоббса. По Гоббсу, то хаотическое насилие, которое неизбежно торжествует в природном состоянии, заставляет нас признать необходимость государства и тем самым утвердить предсказуемое, регулярное и систематическое насилие в качестве общей нормы. Толстой полагает, что эта логика безнадежно устарела: «Если прежде человеку говорили, что он без подчинения власти государства будет подвержен нападениям злых людей, внутренних и внешних врагов, будет вынужден сам бороться с ними, подвергаться убийству, что поэтому ему выгодно нести некоторые лишения для избавления себя от этих бед, то человек мог верить этому, так как жертвы, которые он приносил государству, были только жертвы частные и давали ему надежду на спокойную жизнь в неуничтожающемся государстве, во имя которого он принес свои жертвы. Но теперь, когда жертвы эти не только возросли в десять раз, а обещанные ему выгоды отсутствуют, естественно каждому подумать, что подчинение его власти совершенно бесполезно» <4>. А самое главное, что «теперь уже нет тех особенных насильников, от которых государство могло защищать нас, так что объяснение необходимости государственного насилия ограждением людей от насильников, если и имело основание три, четыре века тому назад, теперь не имеет никакого. Теперь скорее можно сказать обратное, а именно то, что деятельность правительств со своими, отставшими от общего уровня нравственности, жестокими приемами наказаний, тюрем, каторг, виселиц, гильотин скорее содействует огрубению народов, чем смягчению их, и потому скорее увеличению, чем уменьшению числа насильников» <5>. ——————————— <4> Толстой Л. Н. Царство божие внутри вас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание // Толстой Л. Н. Избранные философские произведения. М.: Просвещение, 1992. С. 299. <5> Там же. С. 300 — 301.
Именно здесь и обнаруживается первая слабость логики Толстого. Он почему-то уверен, что время возвращения к идеалу природного состояния Руссо уже настало, причем настало благодаря цивилизующему влиянию государства. Теперь мы можем свой билет в рай безопасности почтеннейшее вернуть государству. Но даже если мы вдруг разом обретем наши утраченные интуиции ненасилия, обратимся к ненасилию и отбросим государство, это совсем не означает, что процесс реверсивного движения от природного состояния к государству не повторится вновь. Толстой ничего не может нам гарантировать. Следующий вопрос уже принадлежит этике. Предположим, что мы решили не придаваться скепсису социальной философии. Какие моральные нормы может предложить нам теоретическая философия Толстого? Это собственно и есть отказ от насилия. Сама по себе эта моральная норма ничуть не хуже, чем категорический императив Канта или утилитарное требование максимального счастья для максимального числа людей. Ни то, ни другое не является более реалистичным с прагматической точки зрения. В начале 20-го века толстовские коммуны существовали по всей стране, и именно они стали объектом наиболее ожесточенного преследования со стороны большевистского режима. Естественно, что Толстой очень мало может предложить для социальной этики, кроме создания коммун, и ничего не мог предложить для политической философии, в отличие от кантианства и утилитаризма. Видимо, последнее является решающим, что делает его философию неактуальной в прагматическом смысле. Сам Толстой наивно полагал, что уровень социального насилия в стране и во всем мире идет на убыль. Он, очевидно, ошибался. Почти сразу после его смерти мир захлебнулся в насилии, так что зло потеряло вид «лубочной страшилки», а стало, по выражению Ханны Арендт, «банальным». Полагаю, что Толстой, доживи он до времени мировых войн и концлагерей, был бы вынужден изменить, хотя бы минимально, свою прагматическую философию. Сделать это было бы для него тем более легко, так как по своему собственному душевному складу он был весьма склонен к насилию, да и, собственно, его философия содержит не только однозначное учение о ненасилии. Философия, представленная в «Войне и мире», несколько отличается от более позднего учения о ненасилии. Возможно, Толстой был бы вынужден вернуться к какому-то варианту своего учения о «дубине народной войны». Можно только предполагать, что случилось бы с миром, если бы Гитлер, вторгшись в нашу страну, с радостным удивлением обнаружил бы в ней сплошь «непротивленцев». С учетом всех этих логических поправок пацифизм Толстого сохраняет свою актуальность. Общая установка на минимизацию насилия могла бы благотворно влиять на современный мир. К сожалению, обстановка в стране сейчас более напоминает природное состояние Гоббса, так что возвращение к идеалу Толстого потребует школу Левиафана в смысле жестких и твердых государственных законов, прежде чем мы снова сможем подумать о возвратном движении. Что касается международных дел, то расцвет террора, появление частных военных компаний, разгул международной организованной преступности, разрушение системы международного права и многое другое вряд ли сулит большие надежды на актуализацию лозунга ненасилия в его толстовском смысле в ближайшее время.
Необходимая война
Следующая доктрина, о которой пойдет речь, была разработана И. А. Ильиным (1883 — 1954 гг.) в книге «О сопротивлении злу силою» (1925). Наша задача облегчается здесь тем обстоятельством, что Ильин был последовательным и непримиримым критиком учения о непротивлении. Критика Ильиным философии Толстого положила начало дискурсу Bellum Justum в России, о возрождении которого приходится только мечтать. Главным объектом критики Ильина стало учение о непротивлении злу насилием. Ильин начинает свою критику со сложной и совершенно излишней классификации, которая позволяет ему проводить различие между насилием и «заставлением», причем второе оказывается возможным и необходимым. Возможно, что и иезуиты, возводя еретика на костер, называли это «заставлением». Куда проще и ближе к законам языка было бы просто постулировать, что насилие возможно, если оно во благо, и определить далее условия. Я буду исходить именно из этого различия, так как словесная казуистика не представляется мне интересной. Провозгласив возможность оправдания насилия, Ильин тем не менее сохраняет негативную к нему оценку: «Физическое воздействие должно при всех условиях беречь духовную очевидность человека, не подавляя в нем чувства его собственного духовного достоинства и не колебля доверия человека к самому себе. Вот почему должны быть осуждены и отвергнуты все формы физического понуждения, разрушающие душевное здоровье и духовную силу человека: лишение пищи, сна; непосильные работы; пытки, заключение в обществе злодеев; унизительное обхождение и т. д.» <6>. Крайние формы насилия, даже и во благо, все же зло, хотя, возможно, относительно меньшее и вынужденное. Насилие, о котором вел речь Ильин, представляло собой войну Белого движения против большевиков и созданного ими противозаконного государства. В отличие от Толстого, Ильин не считает государство злом, поскольку правовое государство применяет насилие во благо, во имя духа и не является апофеозом насилия, напротив, только оно и может противостоять насилию. ——————————— <6> Ильин И. А. О сопротивлении злу силою // Ильин И. А. Путь к очевидности. М.: Республика, 1993. С. 70.
Но война все же являет собой зло, хотя и направленное на благую цель. Это противоречие и его разрешение составляет существо нормативной философии войны И. Н. Ильина. Вопреки господствующему мнению мне представляется, что Ильин в действительности во многом соглашается с Толстым. Он согласен, что насилие, которое он понимает точно так же, как и Толстой, — это зло, но зло не абсолютное. Следует различать насилие как самоцель, упоение насилием, то к чему ведет большевизм и насилие инструментальное, которое выступает не только как зло вынужденное, но и как единственный способ преодоления зла, то есть окончательной победы режима бесправия и насилия. Это примерно то же самое, как если бы нам пришлось совершить хирургическую операцию и удалить поврежденный орган для спасения жизни. Насилие выступает в двух ипостасях: насилие как зло метафизическое — полное торжество режима насилия и зло инструментальное, которое в разумных дозах может быть использовано для борьбы со злом метафизическим. Ильин понимает всю опасность такого пути. Начавшись как инструмент, зло вполне может утвердить себя в качестве положительной всеобщности: «Война предъявляет к человеку почти сверхчеловеческие требования; и если народ порывом поднимается на надлежащую высоту, то по окончанию порыва, обыкновенно выдыхающегося задолго до окончания войны, уровень народной нравственности всегда оказывается падшим» <7>. По этой причине он предлагает принципы, которые могли бы этому помешать. Некоторые из этих принципов повторяют известные принципы теории справедливой войны Jus ad Bellum, хотя в целом доктрина необходимой войны принципиально отличается от теории справедливых войн хотя бы по той причине, что война ни при каких обстоятельствах не может быть справедливой. ——————————— <7> Там же. С. 108.
А о каких же принципах идет речь? Центральным принципом является принцип легитимной власти, а не правого дела, как в теории справедливой войны. Только легитимная, законная власть, которая опирается на доверие всего народа, вправе решать при каких обстоятельствах следует обращаться к насилию. «Понуждающий и пресекающий представитель такого общественного союза делает свое дело не от себя, не по личной прихоти, не по произволу; нет, он выступает как слуга общей святыни, призванный и обязанный к понуждению и пресечению от ее лица» <8>. Другим принципом является принцип крайнего средства, то есть обращаться к насилию следует лишь в том случае, когда все другие средства уже невозможны. Третьим является принцип пропорциональности, в соответствии с которым насилие должно быть строго соразмерно угрозе. ——————————— <8> Там же. С. 92 — 93.
В этом списке не нашлось места принципу правого дела, добрых намерений и разумной вероятности успеха по понятным причинам. Как последователь Канта, Ильин не может думать о последствиях выполнения долга. Никаких иных намерений, кроме добрых, законная власть иметь не может. Наконец, в принципе правого дела нет никакой необходимости по той простой причине, что война обусловлена не досужими рассуждениями власть имущих, а фактом вопиющего и полного нарушения прав, которые очевидны всем и, в первую очередь, представителям законной власти. Такая война во многом напоминает войну Толстого в «Войне и мире», она тоже «не спрашивает ничьих вкусов и правил». Это не есть война по Клаузевицу, как осуществление политики иными средствами. Это война за пределами политики и в этом смысле абсолютная. Вероятно, в силу этой причины необходимая война Ильина не знает и принципов Jus in Bello и соответствующих гуманитарных норм международного права. Тем не менее это не есть война совершенно без всяких ограничений, хотя и абсолютная. Ограничения заложены в самой природе войны, а не в ее принципах. Она не ведется и не может вестись против народа или населения. Гражданское население ни при каких обстоятельствах не может использоваться как объект шантажа или давления. Не может оно быть объектом прямого и умышленного нападения. Это исключает что-либо подобное атомной бомбардировке Хиросимы или гражданских объектов Германии союзной авиацией во время Второй мировой войны. Ильин нечего не пишет и о доктрине «сопутствующего вреда», которая позволяет безнаказанно наносить удары по некомбатантам или гражданским объектам, если это не делается преднамеренно. Философ, по всей вероятности, полагал, что всякий вред, нанесенный невинным людям, должен быть наказан, хотя степень наказания может быть меньше, учитывая мотивы, как это имеет место в случае гибели невинных людей в ходе полицейской операции. Вообще, война Ильина более напоминает полицейскую операцию, нежели подавление воли политического противника. В этом смысле она ассиметричная, хотя и не в стратегическом, а в моральном смысле. В этой войне нет места рыцарству и нет места моральному равенству комбатантов воющих сторон. Можно предположить, что Ильин не имел бы ничего против использовании дронов или того что, американцы назвали «targeted killing» <9> и широко использовали в Афганистане. И то и другое противоречит нормам справедливой войны и потому вызывает неоднозначную реакцию с точки зрения норм и правил ведения войны. ——————————— <9> Я не знаю перевода этого термина на русский язык. Можно перевести это как «выборочное убийство» отдельных, наиболее опасных, представителей противника. По сути, это возвращение к практике индивидуального террора русских террористов. Клаузевиц не мог представить ничего подобного даже в кошмарном сне. Для него это означало бы полную деградацию войны. Действительно, с точки зрения норм и обычаев войны это совершенно недопустимо, но очень эффективно с точки зрения практической.
Необходимая война Ильина не является войной справедливой по двум причинам. Во-первых, необходимость — это более сильная форма нравственного обоснования. Справедливая война не обязательно необходима. Во-вторых, строго говоря, война вообще не может быть справедливой, если только гибнут невинные люди. Она в принципе может стать таковой при соответствующем развитии военной техники, широком использовании все тех же дронов, кибернетики, нелетального оружия, информационной войны и выборочного убийства, но это маловероятно и вопрос отдаленного будущего. Необходимая война Ильина накладывает свой отпечаток и на статус воина, обнажившего меч. Толстой, как известно, просто презирал военных, считая их никчемными пьяницами и ничтожествами. В доктрине необходимой войны Ильина отношение к военным двойственное. Война — это трагическая необходимость, но все же несправедливое и злое дело, особенно если действительно происходят убийства. Во всяком случае военный человек должен сознавать трагизм и ответственность своего положения. Ильин, как православно верующий человек, рекомендовал военным, заканчивать свою жизнь в монастырях в неустанных молитвах во спасение души подобно тому, как это делали православные воины прошлого и казаки: «Активная, героическая борьба со злом отнюдь не является прямой и непосредственной дорогой к личной святости; напротив, этот путь наитруднейший, ибо он заставляет брать на свои плечи, помимо собственного, недопреодоленного зла, еще и бремя чужих пресекаемых злодеяний; он не позволяет «творить благо», «отходя от зла», но заставляет идти ко злу и вступать с ним в напряженное, активное взаимодействие» <10>. ——————————— <10> Ильин И. А. О сопротивлении злу силою. С. 109.
Всякого рода милитаристские манифестации, призванные подогреть увядающий общественный энтузиазм и доверие к власти, вроде бесконечных парадов, награждений и прочего военного ажиотажа он рекомендовать не мог. Отношение к военному чем-то могло напоминать отношение к палачу в Средние века — смесь уважения и ужаса. Трагизм военного человека в том, что он жертвует большим, чем жизнь во имя отечества — своей совестью и бессмертной душой: «Он принимает не только бремя смерти, но и бремя убийства; и в бремени убийства не только тягость самого акта, но и тягость решения, ответственности и, может быть, вины» <11>. Воин — это фигура трагическая. Очевидно, что нелепая фигура современного российского офицера, облаченного в громадную фуражку наподобие кавалерийского седла и увешанного с ног до головы орденами, была бы ему смешной: «Однако нельзя возносить силу и меч на высоту совершенства и святости, ибо обращение к ним выводит душу из любовной плеромы и возлагает на нее бремя несовершенного делания» <12>. ——————————— <11> Там же. С. 123. <12> Там же. С. 115.
Можно только предполагать, какие дополнения потребовались бы Ильину, чтобы применить эту доктрину к войнам между государствами. Думаю, что эти дополнения были бы минимальными. И. Ильин не мог допустить иной войны, кроме той, что вызывается агрессией со стороны враждебного государства, а потому общая логика и нормативные установки остались бы прежними.
Террор
Есть еще одна форма войны, которую вряд ли можно обойти молчанием. Это война вызывается необходимостью борьбы с несправедливым и тираническим режимом. Живя в России, мы не можем исключать такую возможность. Тем более не исключали ее российские революционеры. Я не буду здесь рассказывать о марксизме. Официально его стратегия основывалась на широком восстании народных масс, хотя в действительности это был скорее заговор. Но марксизм избегал языка морали и справедливости, а потому не создавал нормативных концепций войны. Такую концепцию создали предшественники марксизма на стезе революционных битв — эсэры. Н. А. Морозов (1854 — 1946 гг.) разработал любопытную теорию справедливой террористической борьбы, которая, по всей вероятности, испытала влияние бессмертного труда К. Клаузевица «О войне». Хотя труд Морозова «О террористической борьбе» (1880 г.) и написан много раньше книги Ильина, некоторые их мысли перекликаются, видимо, по причине того, что идеи в то бурное время носились в воздухе. Морозов разделяет многие из установок Ильина, возможно, по причине того, что тоже был последователем Канта, прежде чем стал последователем Маркса, и еще меньше, чем Ильин, мог бы быть согласен с Толстым. Он разделяет уважение Ильина и Канта к человеческой личности, которая не может быть использована лишь в качестве средства, а потому и не может быть принесена в жертву революции. Но у Канта есть противоречие, которое Морозов не замедлил обнаружить. Государство имеет ценность в том случае, если дает простор свободе и автономии личности. Российское государство этого не дает, потому не заслуживает права на существование. Но оно не оставляет также и средств по своему устранению. В нем нет свободы и демократии, нет свободной прессы, нет общественного мнения, народ подавлен и забит, нет даже беспристрастного права. Есть тотальный произвол, подтасовка результатов голосования, беззаконие и разграбление всеобщего достояния кучкой олигархов. В этих условиях немногие критические личности не могут надеяться ни на реформирование этого государства, ни на просвещение народа, ни на восстание. Решение, которое предложил Морозов, может показаться странным для современного человека, но это был террор, причем именно по причине нравственного превосходства террористической борьбы. Морозову нельзя отказать в логике. Поскольку ценность свободы и автономии чрезвычайно велика, насильственные средства в этой борьбе оправданны. Поскольку человек не может быть использован как средство, невинные жертвы недопустимы. Следовательно, выходом из этого затруднения может быть только террористическая борьба: «Массовые революционные движения, где люди нередко встают друг против друга в силу простого недоразумения, где народ убивает своих собственных детей, в то время как их враги из безопасного убежища наблюдают за их гибелью, — она заменяет рядом отдельных, но всегда бьющих прямо в цель политических убийств. Она казнит только тех, кто действительно виновен в совершающемся зле. Террористическая революция представляет поэтому самую справедливую из всех форм революций» <13>. ——————————— <13> Морозов Н. А. Террористическая борьба. Лондон: Русская типография, 1880. С. 7 — 8. Следует иметь в виду, что террор народовольцев действительно стал своего рода крайним средством, а с точки зрения некоторых представлял собой даже законное сопротивление, которое последовало в ответ на царские репрессии в связи с мирным «хождением в народ». В действительности уже это хождение в народ было далеко не мирным, так как социалисты распространяли призывы к бунту. Так или иначе, надежды на народный бунт 70-х годов не оправдались и народники от нетерпения стали переходить к террору.
Такая борьба позволяет убить двух птиц одним камнем. Она устраняет наиболее одиозных защитников режима и позволяет пробудить массы от сна. Террор должен быть постоянным и всеобщим. Никто из слуг режима никогда не должен чувствовать себя в безопасности. Только в этом случае политический режим будет парализован и поставлен перед необходимостью начать реформы. Кроме того, террор выступает лишь как крайнее средство и немедленно будет прекращен, «как только социалисты завоюют для себя фактическую свободу мысли, слова и действительную безопасность личности от насилия — эти необходимые условия для широкой проповеди социальных идей». Эсеры действительно выполнили это свое обещание и даже вошли в состав Временного правительства, как только состоялись свободные выборы. Можно предположить, что избирательность террора была той ценой, которую эсэры были готовы платить за отказ от принципа законной власти, который для И. Ильина был главным. Другой ценой, которую они тоже платили, были собственные страдания и смерть. Террористы отказывали для себя в радостях жизни и не хотели никакой иной судьбы, кроме насильственной смерти. Тем самым они компенсировали то зло, которое принесли в мир <14>. К сожалению, современный терроризм имеет мало общего с героическим русских революционеров. Но он и не ставит героических задач. Есть основания полагать, что современный политический терроризм почти не отличается от организованной преступности. ——————————— <14> Другой вопрос, насколько это у них получалось. Об этом более подробно см.: Кашников Б. Н. Этические содержание и смысл русского терроризма конца 19-го — начала 20-го века // Этика и философия / Под ред. Р. Г. Апресяна. М.: Альфа-М, 2009.
Насилие, в том числе и насилие массовое, организованное, ко торые мы называем войной, по всей вероятности, не скоро сойдет со сцены. Пацифизм наподобие пацифизма графа Толстого должен оставаться отдаленным идеалом. Недостижимость его будет пока еще долго требовать от нас постоянного уточнения и ужесточения норм допустимого применения насилия. Утраченный нами дискурс русской философско-правовой мысли может и должен вернуться на поле борьбы идей.
——————————————————————