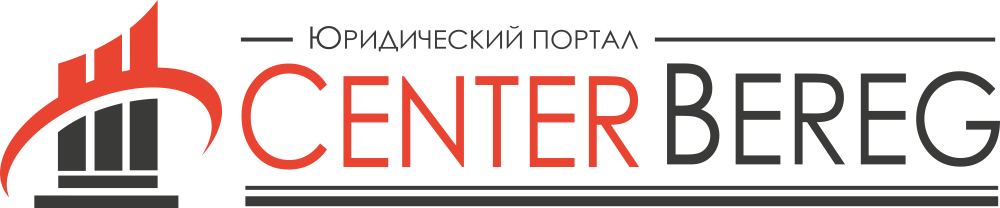Добровольная и безвозмездная деятельность в чужом интересе вне договорного отношения и не по предписанию закона. Выпуск 1. Общественный интерес в гражданском праве
(Гамбаров Ю. С.) («Вестник гражданского права», 2013, NN 1, 2)
ДОБРОВОЛЬНАЯ И БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЧУЖОМ ИНТЕРЕСЕ ВНЕ ДОГОВОРНОГО ОТНОШЕНИЯ И НЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ ЗАКОНА
ВЫПУСК 1. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
/»Вестник гражданского права», 2013, N 1/
Ю. С. ГАМБАРОВ
В настоящем номере журнала публикуется первая часть фундаментальной работы крупного отечественного цивилиста Юрия Степановича Гамбарова, посвященная добровольной деятельности в чужом интересе, не основанной на договоре или положениях закона. Учитывая актуальность данной проблематики в настоящее время, данный материал может быть рекомендован самому широкому кругу читателей.
Ключевые слова: представительство, полномочие, деятельность в чужом интересе без поручения.
This volume of the journal contains the first part of a fundamental study of the famous Russian scholar Yu. S. Gambarov, which is devoted to the civil-law nature of voluntary actions in another’s interest, being based neither on the contract, nor provisions of law. Due to the urgency of this topic at the present time, the study of Yu. S. Gambarov can be recommended for a wide readership.
Key words: representation, delegation, actions in another’s interest without delegation.
(ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)
Предисловие
Выпуская в свет отдельным сочинением ряд статей, помещенных нами в журнал «Юридический вестник» за нынешний год (N 5 — 9), мы обязаны дать читателям некоторые объяснения по поводу предпринимаемого издания. Статьи наши, напечатанные в упомянутом журнале, под заглавиями «Общественный интерес в гражданском праве», «Право собственности с точки зрения общественной теории права» и «Применение общественной теории прав к обязательствам», заключали в себе, несмотря на различие заглавий, изложение и развитие одного общего положения, которое устанавливало новую точку зрения на исследование институтов гражданского права. В противоположность господствующей ныне теории гражданского права, основывающей его на принципе частного интереса и отправляющейся при этом в своих суждениях о гражданских правоотношениях от начала личности, мы старались показать, что в гражданском праве, так же как и во всех других отраслях права, начало личности подчинено началу общественного интереса, которое представляет собою единственное основание и единственный руководящий принцип для всех видов права. Это положение может показаться с первого взгляда до того общепонятным и общепризнанным, что нас, быть может, упрекнут в излишней трате времени на доказательство никем не оспариваемых мыслей и на борьбу с несуществующими противниками. Мы ответим вперед на этот упрек ссылкой на все содержание нашего сочинения, из которого читатель увидит, что юристы признают открыто наше положение в применении только к публичному праву. Относительно же гражданского права они не только не отдают себе отчета в последствиях, которые необходимо вытекают из этого положения, но еще определяют гражданское право и исследуют институты, принадлежащие к этому праву, исходя исключительно из принципа частного интереса и начала личности, что уже совершенно несогласно со взглядом на начало общественного интереса как на основание и критерий всех прав вообще. Противоположность нашего воззрения на право и воззрения на него господствующей теории мы можем охарактеризовать лучше всего, если скажем, что господствующая теория выдвигает в понятии права на первый план начало личности, относится к нему как к началу первичному и руководящему для всей системы права; государство же вместе с представляемыми им началами общежития и общего блага она рассматривает по отношению к праву как второстепенный момент, производный и зависимый от личности. Мы, напротив, отодвигаем начало личности на второй план и считаем основным моментом в понятии права начало общественного интереса — без всякого различия в этом отношении между публичными и гражданскими правами. Это принципиальное различие между нашим и господствующим взглядом на право сопровождается другими, вытекающими из него различиями, которые мы здесь же отметим, для того чтобы противоположность наших исходных пунктов и точек зрения не подвергалась более никакому сомнению. 1. Отправляясь в своем воззрении на право от начала личности, господствующее учение настаивает в понятии права более всего на моменте господства, потенции воли, которую и рассматривает и как основание, и как цель права. Мы, напротив, видим в воле только способ защиты гражданских прав, которым они отличаются от публичных, и приписываем ей, следовательно, исключительно формальное значение, не имеющее никакого отношения к основанию и цели права. Целью права мы считаем удовлетворение тех потребностей и интересов людей, живущих в обществе, которые требуют охраны принудительной властью, принадлежащей государству. Точкой же отправления нам служат отношения, в которых стоят друг к другу люди, соединенные в общество, отношения, являющиеся необходимым и независимым от воли человека результатом потребностей его природы и жизни его в обществе. Таким образом, право представляется нам порядком отношений, в которых находятся люди, соединенные в общество, порядком, урегулированным соображением об общественном интересе и обеспеченным принудительной властью государства. 2. Основывая право на признании воли, господствующий взгляд стоит на точке зрения субъективного права, которая в огромном большинстве сочинений юристов прошлого и настоящего времени преобладает явно над точкой зрения объективного права. При исследовании различных гражданских прав они отправляются исключительно от лица, обладающего каким-нибудь правом, а не от закона, признающего за ним это право, и видят в основании всех прав всегда индивидуальную волю, а не соображения, руководящие законодательной властью при установлении этих прав. Мы, напротив, становимся при рассмотрении всех вопросов права на точку зрения объективного права, вне которого не видим возможности определить основание, цель и меру защиты интересов, составляющих предмет субъективных прав. 3. Неизбежным последствием субъективной точки зрения господствующего взгляда на право является то, что он, с одной стороны, настаивает в гражданских правах исключительно на моменте правомочия, упуская из виду необходимо связанный с ним момент обязанности, а с другой стороны, видит содержание и отправление прав в фактическом пользовании теми благами, которые защищаются объективным правом. Мы, напротив, утверждаем, что всякое право заключает в себе, рядом с моментом правомочия, момент обязанности, имеющей столь же существенное значение в понятии права, как и момент правомочия: последний указывает на отношение права и личности, первый — на отношение его к обществу. Нам могут заметить, что наша мысль не нова, что право соседства, постановление строительных уставов, общинная и государственная собственность, ограничения договорного, наследственного прав и прочие ограничения индивидуальной свободы существовали всегда и не оспаривались господствующей теорией права. В ответе на это замечание мы повторим, что, признавая означенные ограничения индивидуальных прав как существующий факт, господствующая теория видит в нем необходимое зло, исключение из общего принципа абсолютной свободы личности и никогда не отводит ему в понятии права равного по значению места с моментом правомочия. Мы же, считая задачей права регулирование взаимных отношений людей между собою, регулирование, которое может быть произведено лишь ограничением свободы и интересов одного лица в пользу свободы и интересов другого, для достижения возможно большего блага всех составляющих общество лиц, — мы, естественно, видим в ограничении свободы отдельного лица и в налагаемых на него обязанностях главный момент понятия права, без которого последнее изменило бы своему общественному значению и было бы не правом, а несправедливой привилегией. Что касается фактического пользования, доставляемого различными правами, то мы не можем считать его ни отправлением, ни содержанием права, так как право регулирует только взаимные отношения людей между собою, а наши отношения к благам, которыми мы пользуемся, не суть юридические отношения уже потому, что эти блага не могут иметь относительно нас никаких обязанностей. Пользование и связанные с ним интересы мы рассматриваем как цель права, а содержание его видим в защите этих интересов и определяем таким образом право в субъективном смысле как средство защиты и обеспечения определенного интереса, устанавливаемое объективным правом ввиду и в пределах соответствия этой защиты охраняемым им интересам общежития. 4. Приведенные выше положения господствующей теории права обусловливают и отношение ее к вопросам законодательной политики. Она стоит твердо на точке зрения существующего юридического порядка, образовавшегося под влиянием ее же учений, и восстает против всякого вмешательства государства в существующие юридические отношения, если только это вмешательство не оправдывается какими-нибудь исключительными обстоятельствами, угрожающими целостности государства. Во всех же других случаях, составляющих общее правило, вмешательство государства в порядок существующих прав считается несправедливым вторжением государства в чуждую ему область частных отношений, в которых господство должно принадлежать суверенной личности, а не государству, призванному только охранять данные юридические нормы, а не изменять их самовольно. Это положение находится в явном противоречии с историей права, свидетельствующей о процессе постоянного развития и изменения права, совершающегося посредством государства, но оно вытекает логически вместе со всеми предшествующими положениями господствующего взгляда из его исходной точки, по которой личность занимает в понятии права первое и решающее место, а государство — второе и зависимое. Принятие юриспруденцией этой исходной точки объясняется влиянием на нее философского мировоззрения, известного под именем рационализма. Сущность этого миросозерцания, достигшего своего полного развития в прошедшем столетии, заключалась, как известно, в том, что точкой отправления для него служила не вера в установленные авторитеты и не исторический процесс развития с его настоящими результатами, а исключительно разум человеческого индивидуума, критике которого подвергались все существующие учреждения. Отсюда видно, что рационализм в силу своей точки отправления был чисто критическим направлением и должен был главным образом служить оружием оппозиции против общественного порядка, унаследованного Западной Европой от Средних веков, и основанием для отрицания этого порядка. Как скоро же он выходил за пределы чистой критики и формулировал какие-нибудь положительные требования, то исследование посредством разума начиналось с признания какого-нибудь общественного факта, как, например, с предположения о «прирожденных» человеку правах — предположения, на котором строились все дальнейшие выводы. Односторонность и ненаучность этого учения не может подлежать в настоящее время никакому сомнению, так как никто более не оспаривает, что выводы из априористических и недоказанных положений бесплодны и не имеют никакого научного значения. А что основное положение рационализма не только не доказано, но и явно противоречит действительности, это видно уже из того, что изолированный индивидуум, от которого отправляется рационализм, есть не факт, а чистая абстракция, так как действительный индивидуум принадлежит от самого рождения какому-нибудь организованному целому и мы постоянно — в прошедшем и настоящем — встречаемся с индивидуумом не как с отдельной единицей, которую можно бы было мыслить самостоятельно и независимо от других индивидуумов, а как с членом высшего единства — общества. Рационализм не принял в соображение этой общественной стороны жизни индивидуума в общении с себе подобными и перешел вследствие этого к крайне индивидуалистическому миросозерцанию, которое было заимствовано от него и юриспруденцией. Но рационализм и индивидуализм XVIII в. оправдывались историческими обстоятельствами, под влиянием которых они возникли. Эти учения были протестом против абсолютизма, прикрывавшего собою в то же время и все остатки средневекового порядка. Рационализм напомнил людям об их человеческих правах как раз в то время, когда государство относилось к ним как к бесправной массе, подчиненной безусловно стоящей над ней власти, причем основание и деятельность этой власти, поставленной от Бога, считались не подлежащими исследованию. Когда абсолютизм дошел до такого самообоготворения, а его злоупотребления и привилегии сословий стали так сильно стеснять течение общественной жизни, что сделали его наконец нестерпимым, тогда рационализм как отрицание этого порядка вещей путем воззвания к свободе был, конечно, вполне оправдываемым учением. В настоящее же время, когда абсолютизм давно побежден во всей Западной Европе, односторонности индивидуалистического учения не могут быть уже ничем оправданы. Можно только объяснить сохранение веры в это учение и объяснить явлением переживания, которое произвело то, что привычки отрицания и враждебного отношения к государству пережили свою разумную цель: цели не стало, а привычки сохранились. Но дни господства индивидуалистического учения в настоящее время могут считаться уже сочтенными, так как научный метод исследования установлен теперь и в применении к социальным явлениям, сделав для всякого исследователя их обязательным объективное отношение к предмету изучения, раскрытие постоянства отношений между исследуемыми явлениями, формулирование их законов, в которое не должны входить уже никакие посторонние соображения, чуждые самого предмета исследования. С другой стороны, приложение научного метода к исследованию социальных явлений делает теперь невозможным и исхождение от абстрактного индивидуума как от величины несуществующей. Оно требует для получения общих положений, без которых как без необходимой опоры и руководствующей нити не может обойтись ни один исследователь социальных явлений, — оно требует для получения этих общих положений выводов не из априористических посылок, а из фактов, доказанных наведением и обладающих наиболее общими свойствами. Такими фактами являются, например, бытие и признаки общества, государства или природа человека, но человека, мыслимого уже не абстрактно, а как член общества со всеми его физиологическими, психическими и общественными потребностями. Применение новых приемов исследования совершается теперь с большим успехом в некоторых отраслях общественной науки, как, например, в учении о государственном управлении, в политической экономии, и мы не можем не воспользоваться здесь одним из научных выводов новых исследований, имеющих важное значение для юриспруденции. Этот вывод касается отношения государства к вопросу об удовлетворении человеческих потребностей, обнаруживающихся при совместной жизни людей в обществе. Признается, что участие государства в удовлетворении этих потребностей постоянно изменяется и зависит от господствующих в данное время и в данном месте представлений о государственных целях. Поэтому бесполезно и неправильно всякое принципиальное, устанавливаемое раз и навсегда разграничение деятельности государства, других общественных союзов и сферы личной, индивидуальной деятельности. Принцип для такого разграничения не может быть выведен a priori ни из существа государства, ни из существа личности, потому что эти «существа» суть сами продукты истории и изменяются вместе с последней. Можно только a posteriori, наблюдением над действительными государствами, удостоверить правильность нескольких общих положений: а) пределы государственной деятельности в истории культурных народов постепенно расширяются и захватывают с течением времени удовлетворение большего и большего числа общих потребностей народа; б) опыт и наблюдение делают возможным установление общего правила относительно условий, которые должны быть налицо, для того чтобы государственная деятельность заступила место частной или какой-нибудь другой деятельности (правило это гласит: государство совершает для удовлетворения потребностей своих членов такие действия, которые в частном и в других формах негосударственного хозяйства не могут вообще быть произведены или производятся менее удовлетворительно и дороже, чем посредством государства); в) при всем разнообразии условий времени и пространства наблюдение над прошедшим и настоящим различных государств указывает в деятельности их на две главные цели, две основные формы государственной деятельности, представляющие собою в то же время минимум действий, наличность коих есть условие для признания данной формы человеческого общежития государством. Эти две основные цели государственной деятельности суть: 1) цели права и 2) цели культуры и народного благосостояния. Цели права состоят в попечении государства об удовлетворении важнейшей из всех общих потребностей народа — потребности в правопорядке внутри государства и в защите его извне. Удовлетворение этой потребности составляет предположение достижения государством всех других его культурных целей, и оно должно необходимо совершаться посредством государства, так как соединяет в себе поставленные выше условия, которыми вызывается государственная деятельность. О целях культуры и народного благосостояния нужно сказать то же, что они заключают в себе условия, требующие для их достижения деятельности государства. Эти цели состоят в удовлетворении физических, хозяйственных, нравственных и других интересов человека, насколько они являются результатом его общих потребностей и жизни в обществе. Содействие государства удовлетворению этих потребностей необходимо уже потому, что борьба отдельных и противоположных между собою интересов не обеспечивает народного благосостояния и требует для нравственного совершенствования и развития в человеке общественных стремлений энергического участия государства в защите законных интересов всех его членов <1>. ——————————— <1> См.: Wagner. Lehrbuch der polit. Oekonomie. С. 230 — 290.
Все сказанное об отношении государства к удовлетворению потребностей человека выясняет достаточно и наш взгляд на отношение государства к праву. В противоположность с господствующим учением, которое видит в государстве только стража права и отвергает в принципе всякое вмешательство его в порядок существующих юридических отношений, мы думаем, что государство не только заботится об охранении существующего правопорядка, но также устанавливает, изменяет и продолжает его дальнейшее развитие в соответствии с изменяющимися и прогрессирующими потребностями общества. Таким образом, вмешательство государства в юридические отношения мы рассматриваем не как необходимое зло, а как исполнение государством своей задачи, делающее возможным подчинение эгоизма и интересов отдельных лиц интересу целого, интересу общественному. Мы изложили в общих чертах все главные основания отличия нашего взгляда на право от взгляда на него господствующей теории. Это отличие казалось нам таким существенным, что мы были вынуждены остановиться на нем и доказать основания нашего взгляда, прежде чем мы могли приступить к исследованию какого бы то ни было специального института гражданского права. Но критике господствующего и доказательству нашего взгляда мы предполагали сначала посвятить небольшое введение, за которым должно было непосредственно следовать исследование о добровольной и безвозмездной деятельности в чужом интересе. Между тем пределы нашего введения по мере изложения постепенно расширялись, так как точное установление нашего взгляда потребовало проверки его на различных институтах гражданского права, и таким образом введение разрослось в особое сочинение, которое мы решились выпустить в свет отдельно от нашего специального предмета исследования по следующим соображениям. Мы имели в виду прежде всего настоящее переходное состояние науки гражданского права, когда старые учения его начинают постепенно терять под собою почву и когда более чем когда-нибудь чувствуется потребность в руководящих положениях и в общих точках зрения. В этих обстоятельствах предложение новой точки зрения, каковы бы ни были ее достоинства и недостатки, представляет особенный интерес и тем более оправдывает наше издание, что предлагаемая точка зрения изменяет глубоко господствующий взгляд и самый способ отношения к исследованию вопросов права. Что касается внешней стороны нашего введения, то она представляла в наших глазах настолько единства и целостности, что выпуск этого введения отдельным сочинением не возбуждал в нас в этом отношении никаких сомнений. Наконец в состав настоящего издания вошли несколько заключительных страниц и примечания, не помещенные в журнальном издании нашего сочинения. Приписывая этим примечаниям важное значение, так как они подкрепляют изложение текста ссылками на источники, на авторов, а иногда заключают в себе и дальнейшее развитие излагаемых в тексте аргументов, мы полагали придать изложению наших мыслей в настоящем издании более доказательной силы, чем оно имело ее в журнальных статьях. Пользуемся случаем, чтобы исправить важную ошибку, вкравшуюся на с. 77 нашего сочинения <1> в определение различия между нормами гражданского и публичного права. Мы не отступаемся от нашего мнения, что различие между ними есть только формальное, обусловленное способом защиты тех и других норм, но видим большую ошибку в определении норм публичного права — в определении, заимствованном нами без надлежащей критики из цитированного там сочинения Тона. Мы говорим там, что «публичными нормами будут все прочие нормы, нарушение которых или не дает лицам, против которых оно совершается, вовсе никакого права, или дает им публичное право, осуществляемое не иском, а непосредственно государственной властью». Ошибка этого определения состоит в том, что публичными нормами называются в нем и такие нормы, нарушение которых не дает лицам, против коих оно совершается, вовсе никакого права, тогда как выше мы сами считали факт юридической защиты существенным для понятия права вообще и, следовательно, считали его общим для всех видов прав. Поэтому норма, нарушение которой не дает никакого права, будет нормой незащищенной и неспособной служить основанием ни для какого права — ни гражданского, ни публичного. Следовательно, в нашем определении публичных норм должно быть выпущено все предложение, в котором говорится о нормах незащищенных, и оставлен лишь тот признак публичных норм, который характеризует защиту их непосредственно государственной властью. ——————————— <1> См. с. 214 настоящего номера. — Примеч. ред.
В заключение мы не можем не выразить нашей глубокой признательности геттингенскому профессору права и первому юристу нашего времени Р. Иерингу, так как влиянию его лекций и сочинений мы обязаны тем, что оставили точку зрения господствующей теории права и вступили на почву, которой, мы уверены в этом, принадлежит все будущее юридической науки. Второй выпуск нашего сочинения, в котором точка зрения общественной теории права будет применена к исследованию института negotiorum gestio, мы рассчитываем выпустить в течение будущего года.
I. Предварительные замечания и изложение господствующей теории права
Предварительные замечания. Избирая предметом исследования один из самых спорных и наименее выясненных вопросов гражданского права, каким, несомненно, должен быть признан вопрос о юридической деятельности, предпринимаемой бескорыстно одним лицом в пользу другого, когда ни это последнее лицо не просило о такой деятельности, ни какой-либо закон не обязывал интервениента вступаться за интересы чужого для него лица, мы руководствовались в нашем выборе соображениями двух родов. Мы видели, с одной стороны, что общества, законодательства которых придают такой деятельности в чужом интересе форму юридического отношения, известного под именем negotiorum gestio, извлекают громадную пользу от признания за этим отношением юридического характера, а так как русское общество не пользуется выгодами такого признания вследствие отсутствия в нашем законе каких бы то ни было указаний на юридические последствия такой деятельности в чужом интересе, то мы считали небесполезным раскрыть с возможной ясностью эти выгоды и точно установить причины и юридические принципы или основания, определяющие взаимные обязательства из добровольной и безвозмездной деятельности одного лица в пользу другого, тем более что причины и основания этих обязательств далеко не выяснены еще литературой по нашему вопросу, представляющей, несмотря на свою обширность, очень мало пригодного материала <1>. С другой стороны, деятельность в чужом интересе по собственному побуждению и без всякой корыстной цели казалась нам основанной исключительно на общественном мотиве, в противоположность с большинством других юридических действий, объясняемых, по-видимому, просто с точки зрения эгоизма, а эта общественная основа института neg. gestio придавала исследованию его в наших глазах особенное значение, потому что выдвигала в области права, кроме начала личного интереса, деятеля иного порядка, участие которого в других юридических отношениях выступает не так резко и потому обыкновенно игнорируется господствующими теориями гражданского права. Показав значение этого общественного деятеля в учении о neg. gestio и в других учениях гражданского права, мы полагали прийти только в результате нашего исследования к установлению провозглашенной недавно Р. Иерингом <2> общественной теории гражданских прав, в противоположность господствующей ныне индивидуалистической теории. Начинать исследование в этом случае следовало с анализа конкретных случаев деятельности одного лица в пользу другого, соединяя эти случаи по признакам сходства в группы и восходя таким образом от явлений частных и сложных к явлениям общим и более простым. Однако этот путь представлял столько непреодолимых трудностей, что его необходимо было оставить и обратиться к дедукции как к единственному методу, способному пролить свет на исследование социальных явлений, к которым вследствие их сложности и множественности производящих причин нельзя применить с успехом ни одного из способов индуктивного исследования <3>. Мы считаем нужным только оградить себя вперед от упрека в смешении дедуктивного метода, которого мы будем держаться в нашем исследовании, с априористическими умозаключениями, составляющими, как известно, главное оружие современной юриспруденции: последние характеризуются как выводы из произвольных посылок, не проверяемые никаким наблюдением; дедуктивный же метод состоит из умозаключений, из общих предложений, добываемых наведением или допускаемых в виде гипотез, но под непременным условием проверки сделанных заключений посредством опыта и наблюдения. Приложение этого метода к исследованию юридических фактов чрезвычайно важно для получения общих предложений, без которых невозможно вести ни одного исторического или догматического исследования о праве <4>; простое наблюдение юридических фактов без поддержки и согласия их с общими предложениями не приводит ни к каким результатам уже потому, что эти факты порождаются бесчисленным разнообразием причин, отделение которых возможно лишь с помощью общих предложений. Для получения этих-то общих предложений мы и обращаемся теперь к вопросу о сущности гражданского права в смысле особенных целей, которые оно преследует в дисциплине юридических наук, тем более что определение места, занимаемого институтом neg. gestio в системе гражданского права, и юридические свойства вытекающих из него обязательств зависят существенно от того или другого взгляда юриста на задачи гражданского права. ——————————— <1> Обзор и критику этой литературы мы представим в первой главе нашего исследования. Теперь же довольно будет сослаться на литературные указания в учебнике Пандект Виндшейда (4-е изд., § 430, примеч. *). <2> Zweck im Recht I. С. 519. <3> Милль Дж. Ст. Система логики. 2-е изд. Т. 1. С. 488 и сл.; Т. 2. С. 427 — 462. <4> Муромцев С. Очерки общей теории гражданского права. С. 192.
Определение гражданского права. Господствующая доныне теория гражданского права определяет его как систему норм, регулирующих частные отношения между людьми в обществе <1>, как совокупность таких норм, «с помощью которых члены общественного союза достигают своих частных целей, своего частного блага посредством самоопределения чрез себя и для себя» <2>. Не входя в подробный анализ приведенных определений гражданского права, который не соответствовал бы более ограниченной цели нашего исследования, мы отметим только один, но самый существенный момент рассматриваемых определений, характеризующий вместе с тем точку отправления господствующей теории и отношение ее к предмету исследования. Этот существенный момент мы видим в том, что гражданское право как в процессе образования, так и в преследовании своих специальных целей сводится к потребностям и целям чисто индивидуального существования человека и ставится таким образом в прямую противоположность с публичным правом, имеющим дело с интересами не отдельного лица, а целого общества. Такое отграничение области гражданского права от публичного является отграничением по существу, так как оно основано на различии цели, которую имеют в виду нормы, принадлежащие к тому и другому роду прав: нормам гражданского права указывается защита частных интересов, нормам публичного права — защита публичных интересов <3>. Идея этого разграничения принадлежит римской юриспруденции и заимствована новыми юристами из изречения Ульпиана: «Publicum jus est, quo dad statum rei Romanae spectat, privatum, quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia quaedam privatum» (I. 1, § 2 D., 1, 1). Но совпадение новой юриспруденции с римской ограничивается по нашему вопросу только общностью внешней формулы, данной ему римским юристом, тогда как практическое значение этой формулы в юриспруденции и проведение ее в юридической жизни у римлян и у новых народов были совершенно различны. Слова Ульпиана содержат в себе не более как неправильное обобщение римской теории права <4>, не оказавшее никакого влияния ни на теоретическое построение институтов гражданского права, ни на применение их в жизни. В дальнейшем ходе нашего исследования мы будем не раз иметь случай убеждаться в том, как чужды были римские юристы современного нам индивидуалистического воззрения на гражданское право и как часто, напротив, выдвигали они на первый план общественную функцию гражданских прав, нимало не заботясь о противоречии, в которое они вступали при этом с пресловутым определением Ульпиана. ——————————— <1> Savigny. System des heutigen Rom. R. I. С. 22; Unger. System des osterreichischen allg. Privatrechts. I. С. 35. <2> Ahrens в: Encyclopadie der Rechtswissenschaft, von Hol tzendorf, 2-е изд. I. С. 48. <3> Bruns. Das heutige romische Recht, в: Encyclopadie der Rechtswissenschaft, v. Holtzendorf, I. С. 317. <4> Примеров таких неправильных обобщений римских юристов слишком много, и они так известны, что нам можно и не приводить их (см.: Муромцев. Очерки. С. 17 — 24).
Совсем иная судьба постигла это определение в новой юриспруденции. Подчинившись влиянию теоретиков естественного права, приучивших ее противополагать абстрактно государство индивидууму и рассматривать последнего так, как если бы он был совершенно изолирован от всего существующего мира, новая юриспруденция провозгласила в гражданском праве принцип суверенитета и безусловной свободы личности, приняв, таким образом, начало личности за исходную точку и за конечную цель всех гражданских прав. Логическим последствием этого взгляда было признание момента воли самым существенным в определении права как в субъективном, так и в объективном смысле, так как, определяя право из начала личности, нельзя видеть сущности его ни в чем ином, как в том, что составляет атрибут личности, т. е. в воле. Поэтому гражданское право, по господствующей теории, представляется областью, в которой царит исключительно воля, играющая роль vis agens всего гражданского права. «Воля по своему существу абсолютно свободна, — говорит Брунс в своем известном сочинении «О владении» <1>, — а признание и осуществление этой свободы составляет сущность всей системы права». Согласно с этим взглядом, гражданское право как в субъективном, так и в объективном смысле определяется теперь громадным большинством юристов так, что оно совершенно совпадает с понятием воли. Объективным правом называют «общую волю», а субъективным — власть, которую одна воля отправляет над другой <2>, или индивидуальную волю определенного содержания, которую обладатель ее противополагает на основании повеления объективного права воле всех других лиц <3>. Что касается практического значения, т. е. влияния, оказанного приведенными выше определениями гражданского права на разработку отдельных частей его и на формулирование законодателем норм гражданского права, то в противоположность с определением Ульпиана, практическое значение которого в развитии римского права было, как мы уже говорили, ничтожно, точка отправления новой юриспруденции, заключающаяся в признании безусловного права личности на свободу и на самоопределение без всякого соображения об общественном интересе или с указанием последнему в области гражданского права роли второстепенного фактора, ограничивающего личную свободу только в исключительных случаях, — эта индивидуалистическая точка отправления новых юристов не осталась пустой абстракцией, не применяющейся к жизни, а проникла, напротив, во всю систему гражданского права и имела большое влияние на построение институтов, принадлежащих этому праву. Для доказательства действительности этого влияния нам будет достаточно сослаться на несколько крупных примеров, потому что проследить его во всех частях гражданского права было бы задачей особого историко-философского исследования, которое, несмотря на свой чрезвычайный интерес и близкую связь с нашим специальным предметом, отвлекло бы нас от него надолго. Мы остановимся только на двух главных институтах гражданского права: на праве собственности и на обязательственном праве, и в особенности на последнем, так как институт neg. gestio прямо примыкает к нему. ——————————— <1> Recht des Besitzes im Mittelalter u. Gegenwart. § 58. <2> Unger, System des oesterreichischen Privatrechts I. 4-е изд. § 58. С. 489. <3> Виндшейд. Pandectenrecht. 4-е изд. I. § 37; Арндтс. Pandecten. 9-е изд. § 21; Синтенис. Das practische gemeine Civitrecht I. § 11; Пухта. Пандекты. § 22 и пр.
Господствующий взгляд на право собственности. Право собственности определяется в современной юриспруденции как полное, неограниченное и исключительное господство лица над физической вещью или как полное юридическое подчинение вещи воле лица <1>. С подобным же определением собственности как абсолютного и неограниченного права, содержание которого обусловливается исключительно волей собственника <2>, мы встречаемся также во многих законодательных кодексах: в Австрийском (§ 354) <3>, в Прусском (§ 1 тит. 8 ч. 1), в Саксонском (§ 217) и др. <4>, — так что влияние индивидуалистической теории права сказывается в редакции приведенных кодексов совершенно ясно. Между тем все цитированные определения находятся в прямом противоречии с ограничениями права собственности, устанавливаемыми законом помимо воли собственника <5>, которая остается юридическим основанием и принципом всего института собственности только в теории, а на практике уступает силе закона. Признавая эти ограничения, юристы-теоретики и положительные законодательства должны бы были сознаться в несостоятельности своих определений, в которых об ограничениях собственности из каких бы то ни было соображений не упоминалось ни словом; но мы не только не находим нигде этого сознания, но видим еще, что между неограниченностью собственности и допускаемыми из нее ограничениями устанавливается отношение, как между правилом и исключениями, не выдерживающее, очевидно, никакой научной критики <6>. Но кроме научной несостоятельности приведенных выше определений собственности, которой можно бы было еще подсобить соответствующим изменением в формулировании ее (таковым было бы, например, принятие момента ограничений в формулу понятия собственности <7>), независимо от этой, чисто формальной ошибки, господствующая теория собственности ведет еще к последствиям, чрезвычайно вредным в практическом отношении для развития и правильного применения института собственности в жизни. Прежде всего под влиянием абсолютных определений собственности в обществе складывается постепенно соответствующее этим определениям представление о собственности как о неограниченном господстве человека над вещью; образуется твердое убеждение в этой неограниченности, которое постепенно объективируется <8> и вследствие этого связывает деятельность законодательной власти: ей неизбежно приходится считаться с народным убеждением и жертвовать ему иногда самыми настоятельными потребностями общественной жизни. Как иначе, как не объективированием взгляда, заимствованного публикой из положительных законодательств и из изречений юристов-теоретиков, объяснить то явление, что громадное большинство юристов и неюристов всех европейских народов сходится в одном и том же абсолютном взгляде на сущность права собственности и рассматривает всякое ограничение, если оно не исходит из воли собственника, и всякие обязательства, налагаемые на собственника законом, как на посягательство на принцип права собственности, как на противоречие с его основной идеей <9>. Понятно, что при таком влиянии абсолютных определений собственности на общественное правосознание значение их перестает быть исключительно формальным: содействуя образованию и укреплению в обществе воззрения на право собственности, служа источником для такого воззрения, эти определения делаются таким образом одним из факторов правообразования и получают поэтому важное материальное значение. Но влияние абсолютных теорий собственности не ограничивается действием их на общественное правосознание — оно проникает насквозь весь процесс мышления наших юристов и обнаруживается с полной ясностью при разрешении ими различных практических трудностей, вызываемых применением абсолютного понятия собственности к жизни. Основное положение, из которого они исходят при разрешении этих трудностей, нам уже известно: право собственности по своей природе неограниченно, и, если нет специального ограничения закона, оно должно быть осуществлено необходимо, невзирая ни на какие соображения целесообразности. Так, например, если я при постройке дома на своей земле захватил по неосторожности вершок земли, принадлежащей моему соседу, то, по существующей ныне теории собственности, сосед, не заявивший, может быть, умышленно во время постройки о своем праве, может по окончании постройки предъявить ко мне иск о собственности (actio negatoria) и потребовать от меня не только возмещения убытков, но и того, чтобы я восстановил первоначальное состояние, т. е. отодвинул стену или, другими словами, разрушил весь дом <10>. В этом случае мы видим ясно, как принципу индивидуальной собственности, по которому собственность существует только для лица управомоченного и более ни для кого, приносятся в жертву не только интересы всех несобственников, но и интересы общества, которое теряет в доме, приговоренном к разрушению, наличный продукт труда; с разрушением дома, уменьшающим общую сумму производительности общества, разрушается, может быть, экономическое благосостояние лица, построившего дом, так что действием какого-то абстрактного принципа индивидуальной собственности общество принуждается к согласию на метаморфозу лица, обладавшего всей полнотой имущественной способности и имевшего вследствие этого возможность участвовать во всех его тягостях, в нищего, который ложится на него бременем. ——————————— <1> Пухта. Пандекты. § 144; Арндтс. Пандекты. § 130; Савиньи. System I. С. 367; Idem. Obligationenrecht. С. 5; Барон. Пандекты. § 125; Scheurl. Institutionen. § 75. <2> Виндшейд. Пандекты. § 167. Примеч. 5. <3> «Als ein Recht betrachtet ist Eigenthum die Befugniss, mit der Substanz und den Nutzungen einer Sache nach Willkuhr zu schalten und jeden Andern davon auszuschliessen». <4> Таким же абсолютным характером отличается и определение права собственности нашим законом в ст. 420 ч. 1 т. X, потому что ограничительные слова этой статьи «в порядке, гражданскими законами установленном» относятся не к содержанию права собственности, которое наш закон видит в пользовании, владении и распоряжении имуществом, а к формам его приобретения. <5> В доказательство этого противоречия мы сошлемся, кроме изложения в цитированных выше учебниках гражданского права, на Прусское земское уложение (Allgemeines Landrecht f. d. Preussische Staate), которое в § 1 тит. 8 ч. 1 определяет право собственности так же абсолютно и так же индивидуалистически, как и Австрийский кодекс, а в § 26 и 34 не только допускает ограничения этого права законом, но ставит даже такой принцип: «Насколько определенное пользование вещью необходимо для общего блага, государство может предписать такое пользование под страхом наказания в случае неисполнения» (§ 34). В противоположность с определением собственности в § 1, здесь из того же понятия собственности выводится принципиальная обязательность собственника к положительной деятельности для общего блага (ср.: Rau-Wagner. Lehrbuch der politischen Oekonomie I. § 283. Примеч. 9 на с. 502 — 503). <6> Schlossmann. Der Vertrag. С. 100 — 101. <7> Таково было известное римское определение права собственности: «Jus utendi et abutendi rei suae, quatenus juris ratio patitur», — из которого новая юриспруденция, согласно своей индивидуалистической точке отправления, заимствовала только первую часть, оставив вторую без всякого внимания, тогда как эта вторая часть римского определения, позволяя законодателю существенно ограничивать собственность ввиду общественных интересов, этим самым должна бы была подготовить почву для иного взгляда на право собственности, в котором выступала бы на первый план не индивидуалистическая, а общественная сторона его. Так же, как римское право, определяют собственность французский art. 544 («le droit de jouir et disposer des choses de la maniere la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibe par la loi ou les reglements») и баденский art. 544 (представляющий почти буквальный перевод французского определения). Поэтому постановления этих кодексов могли бы, так же как и римское, сделаться исходной точкой для общественной теории собственности, если бы первая часть заключающихся в них определений не была так же абсолютна, как и все другие ходячие определения собственности, а потому как те, так и другие определения должны были повести к одним и тем же вредным последствиям, на которые будет указано в тексте. <8> Об явлениях объективизма и вредном действии его на развитие права см. цитированные уже несколько раз «Очерки» Муромцева (с. 217 и сл.), а также «Der Vertrag» Шлоссманна (с. 273 (примеч. 1)). <9> Как удивляться такому взгляду на собственность, когда почти все юристы (Синтенис. Civilrecht I. § 47; Арндтс. § 130; Вангеров. § 295 и др.) приписывают собственнику право неограниченного разрушения принадлежащей ему на праве собственности вещи, а иные (например, Арндтс в Энциклопедии Гольцендорфа (с. 52, 53)) заходят даже так далеко, что без этого права разрушения считают собственность невозможной. Нечего говорить, что они осуждают при этом начало экспроприации как нарушение и противоречие идее собственности. Серьезные аргументы против этого взгляда см. у Иеринга (Zweck im Recht. С. 506 и сл.; Rau-Wagner, Politische Oekonomie. § 283 (в особенности примеч. 2); Thon. Rechtsnorm und subjectives Recht. 156 — 181, 299 — 300). <10> Таково мнение Виндшейда (I. § 198), Арндтса (§ 169), Бринца (Pandecten I. 2-е изд. § 171), Келлера (Pandecten. § 155), Вангерова (Пандекты I. С. 768, 769), устанавливающих без всякого колебания и в виде общего правила такое положение: actio negatoria (иск о собственности, возникающий вследствие посягательств на нее со стороны несобственника) направляется всегда на полное устранение фактического состояния, возникшего вследствие нарушения чужого права собственности, и, кроме того, еще на вознаграждение причиненных этим нарушением собственнику убытков. Против этого мнимого правила и за экспроприацию в рассматриваемом случае собственника, который должен быть вознагражден только за понесенный им ущерб, высказывается один Иеринг (Jahrbucher fur Dogmatik. Bd. VI. С. 98, 99; Zweck im Recht. С. 516), стоящий в этом вопросе, как и во многих других, совершенно одиноко среди других юристов.
Таковы последствия, к которым приводит абсолютный принцип индивидуальной собственности, не принимающий во внимание ни явной недобросовестности в лице собственника <1>, ни каких бы ни было экономических и общественных соображений, составляющих как будто бы обстоятельства, совершенно посторонние для индивидуального права собственника и не могущие поэтому оказать никакого влияния на его право. ——————————— <1> См. предшествующую сноску.
Господствующее учение об обязательственном праве: определение его. Так же как в учении о собственности, если еще не в большей степени, влияние индивидуалистического миросозерцания чувствуется и в конструкции понятия обязательственного права и отдельных принадлежащих к нему институтов. Связь между обязательствами, собственностью и другими вещными правами Савиньи <1>, а за ним и другие известные юристы <2> устанавливают следующим образом: так как сущность права заключается в независимом господстве индивидуальной воли, то всякое право в конечном результате представляет собой подчинение чужой воле управомоченного лица <3>. Но эта воля бывает не во всех случаях непосредственным предметом права: в вещных правах таким непосредственным предметом господства являются части несвободной природы, физические вещи, а подчинение воли третьих лиц воле управомоченного выступает здесь только отрицательно — в виде обязанности уважать и не нарушать последнюю. В обязательственных правах, напротив, воля одного лица делается непосредственным предметом права для другого, причем подчинение воли здесь не целостное, потому что оно уничтожило бы свободу личности, а частичное, заключающееся в отдельных действиях, которые одно лицо обязано совершить в пользу другого. Отсюда — общепринятое определение понятия обязательства как права на действие другого лица <4>, имеющее своим непосредственным содержанием подчинение чужой воле <5>. Анализируя это определение, отражающее в себе индивидуализм современной юриспруденции, мы сейчас увидим, что оно не только не применяется ко всем видам обязательств, встречающимся в жизни, и поэтому не может быть признано правильным как родовое определение понятия обязательства, но что оно в то же время находится в прямом противоречии с основным принципом господствующей же теории права. Если обязательство есть право на действие другого лица, то, так как в понятии права лежит необходимость принудительного осуществления, без которого оно не было бы правом, понятно, что и право на чужое действие, для того чтобы быть действительным правом, должно заключать в себе возможность принуждения другого лица к обязательному для него действию. Но как вынудить у человека действие, принимаемое за выражение самодеятельности воли, которую господствующая теория считает безусловно свободной и не подлежащей никакому принуждению! Очевидно, что исполнение действия, рассматриваемого как содержание обязательства, должно в силу принципа суверенитета воли или исключительно зависеть от произвола обязанного лица — и тогда обязательство не будет правом, или государственная власть должна постановить принудительное исполнение этого действия — и тогда не станет более суверенной воли и ее продукта — свободного действия <6>. Выйти из этой дилеммы можно только отречением от принципа воли, но современная юриспруденция не расположена к подобному отречению и считает обязательственное право областью, в которой в особенности господствует индивидуальная воля <7>. Для того же, чтобы примирить ее с определением обязательства, она готова прибегнуть к следующему рассуждению: государственная власть охраняет волю, которой одно лицо объявляет себя обязанным в отношении другого, так как в этой воле выражается деятельность субъекта права, защищаемого государством в преследовании его целей. Принуждая должника к исполнению обещанного им действия, которое он не хочет исполнить добровольно, государство может сказать ему: употребляя насилие над тобою, я признаю и уважаю твою же свободную волю, которой ты властен был распоряжаться по собственному произволу. Опровергать такую конструкцию принудительного действия обязательства нет никакой надобности, потому что она содержит в себе скорее иронию над принципом воли, чем подтверждение его могущества, для чего стоит только представить себе образ римского должника, закованного в цепи, не говоря уже о том, что с помощью такой конструкции можно бы было оправдать даже смертную казнь, которую кредитор вздумал бы выговорить себе от должника на случай неисполнения им своего обязательства <8>. Более серьезное значение мы приписываем другой попытке выйти из постановленной выше дилеммы. Чтобы сохранить за действием должника значение предмета обязательства, на который направляется господство кредитора, Пухта, Савиньи и некоторые другие юристы <9> требуют, чтобы действия, служащие предметом обязательств, имели имущественную ценность, оценивались в деньгах и получали вследствие этого такие внешне качества, которые делали бы возможным подчинение их чужой воле наподобие вещей. Тогда обязательство направляется уже не на действие другого лица как таковое, стоящее в неразрывной связи с его волей, на которую никто не должен посягать, а на его имущественную ценность, выступающую во внешний мир так же, как и физическая вещь, и способную поэтому быть предметом господства чужой воли. Не касаясь многочисленных возражений, которые были сделаны этой конструкции понятия обязательства со стороны техники права <10>, мы укажем только на неправильность одной из посылок в аргументации Савиньи и Пухты, которая совершенно уничтожает сделанный ими вывод. Эту неправильную посылку мы видим в утверждении, что предметом обязательств служат исключительно действия, переложимые на деньги, — утверждении, которое может быть признано правильным только относительно римского права классического периода, действительно проводившего в своем процессе во всей строгости начало так называемой денежной кондемнации, т. е. решение всех гражданских споров в форме присуждения или отказа истцу в определенной денежной сумме. Понятно, что к праву, основанному на таком начале денежной кондемнации, положение Пухты и Савиньи вполне применимо, но применимо только под условием признания начала денежной кондемнации, которое между тем было положительно отвергнуто не только правом новых народов, но даже позднейшим римским правом <11>. И теперь, конечно, существует много обязательств, устанавливаемых с исключительной целью денежного исполнения (заем, купля-продажа генерических вещей), но существуют, несомненно, и другие обязательства, направленные на индивидуальные, специально определенные цели (купля-продажа индивидуально-определенной вещи, личный наем, мандат). В обязательствах этого порядка судье предоставляется право приговаривать обязанное лицо при помощи угрозы наказания к натуральному, а не денежному исполнению обязательства, которое во многих случаях совершенно не соответствовало бы цели его установления; денежное исполнение не служит здесь уже эквивалентом выговоренного в обязательстве действия, а отступает на второй план как субсидиарное средство удовлетворения кредитора, допускаемое лишь в случаях крайней необходимости при невозможности иного удовлетворения <12>. Итак, взгляд на способ исполнения обязательств со времени классического периода римской юриспруденции изменился радикально, но, кроме этого изменения во взгляде, мы видим еще, что развитие общественной жизни привело лучших из современных нам юристов к признанию более общего принципа, по которому предметом обязательств могут служить не только такие действия, которые имеют имущественный интерес, но и такие, которые представляют для кредитора какой-нибудь другой разумный интерес — нравственный, умственный или вообще интерес, оправдываемый целями сосуществования людей в обществе <13>. Приведенных соображений, нам кажется, достаточно для того, чтобы объявить попытку Пухты и Савиньи — примирить господствующее определение обязательства с принципом воли, составляющим в теории душу всех гражданских, и в особенности обязательственных, отношений, — совершенно неудачной. ——————————— <1> System I. 338 — 339; Obligationenrecht. С. 4 — 9. <2> Виндшейд. I. § 38, 40, 41; II. § 250, 251; Арндтс. § 22, 201; Пухта. Institutionen II. 8-е изд. С. 62, 298; Idem. Pand. § 219; Kuntze, die Obligation u. Singularsuccession. С. 3 — 6; Brinz. Kritische Blatter III. С. 1 — 7 и др. <3> См. в особенности: Виндшейд. § 38, 251; Унгер. I. § 59, 62. <4> Общепринятым мы называем это определение потому, что оно встречается почти у всех корифеев современной юридической науки, а различные оттенки, вводимые в это определение различными юристами, так несущественны, что едва ли заслуживают упоминания. Так, например, Савиньи называет обязательством «господство над (uber) действием другого лица, выделенным из области свободы последнего». Пухта и Кунце определяют его как «право на (an) чужом действии», но большинство юристов, цитированных и не цитированных в последних примечаниях, определяют понятие обязательства так, как оно было определено у нас в тексте. <5> Виндшейд. Пандекты. § 251. <6> Ср.: Schott. Der obligatorische Vertrag unter Abwesenden. С. 45 и сл.; Ziebarth. Die Realexecution und die Obligation. С. 23 и сл. <7> Hofmann. Die Entstehungsgrunde der Obligation. С. 54 и сл. <8> Ср.: Schlossmann. Der Vertrag. С. 89 — 92. <9> См.: Пухта. Пандекты. § 219; Савиньи. Obligationenrecht. С. 7 — 9. Между другими юристами мы укажем на Koppen (Erbrecht I. С. 248 и сл.). <10> См.: Виндшейд. Пандекты II. § 251. Примеч. 2; Schott. Der obligatorische Vertrag. С. 51 — 54; Hartmann. Die Obligation. С. 40; Brinz. Krit. Blatter III. С. 3 — 11. <11> Доказательства см. у Виндшейда (II. § 251. Примеч. 3). <12> Ziebarth. Die Realexecution u. die Obligation. С. 29 и сл. <13> См.: Ziebarth, в приведенном месте и еще на с. 171 — 173; Виндшейд. II. § 251. Примеч. 3; Брунс в энциклопедии Гольцендорфа. С. 384; Иеринг. Kampf ums Recht. С. 92; Унгер в: Jahrbucher fur dogmatik Иеринга X. С. 58 (примеч. 72).
Помимо указанного нами противоречия, определение обязательства как права на чужое действие страдает еще другим, более существенным недостатком: оно далеко не обнимает всех видов обязательств, встречающихся в действительной жизни, и поэтому, как мы уже говорили, не может быть признано в качестве родового определения их правильным. Для того чтобы момент «действия» включить в общее юридическое понятие обязательства, нужно сначала доказать, что действие должника или представляющего его лица составляет действительно существенную и необходимую принадлежность всякого обязательства, без которой не может существовать ни одно обязательство. Между тем такое существенное значение действие должника имеет лишь в одной группе чисто личных обязательств, в которых оно действительно служит единственным средством для полного удовлетворения интереса, ввиду которого установлено обязательство. Если бы все обязательства исчерпывались этой группой, то, понятно, личное действие должника составляло бы их существенную цель и тогда определение обязательства как права на чужое действие было бы совершенно правильным. Но дело в том, что существуют другие обязательства, несравненно более многочисленные, чем личные: необходимым моментом выступает в них не действие должника, а удовлетворение интереса кредитора, каким бы путем оно ни совершилось. В этих обязательствах важно только то, чтобы кредитор получил определенную вещь или сумму денег, составляющие предмет его требования, но решительно все равно, получит ли он этот предмет посредством действия должника, постороннего лица или каким-нибудь иным способом. Конечно, и в этих случаях исполнение обязательства совершается по преимуществу действием должника, но это действие служит здесь не целью, а обыкновенным средством исполнения, которое может быть заменено другими средствами и потому никак не может считаться необходимым элементом в понятии обязательства. В подтверждение же непригодности определения обязательства как права на чужое действие для большего числа обстоятельств, встречающихся в жизни, мы позволим себе привести несколько примеров. 1. По известному правилу римского права, реципированному почти всеми новыми законодательствами, погашение обязательства посредством платежа может быть произведено не только должником, но также против воли последнего всяким третьим лицом; при этом кредитору ставится в обязанность принять предлагаемое ему исполнение, если только качество его не обусловлено личностью должника <1>. Понятно, что если бы обязательство было только правом на действие должника, то кредитор имел бы полную возможность отвергнуть исполнение его со стороны третьего, не уполномоченного должником лица. Следовательно, принудительное действие исполнения обязательства третьим неуполномоченным лицом, совершенно непонятное с точки зрения обязательства, определяемого как право на действие должника, может быть объяснено только с точки зрения интереса кредитора, удовлетворяемого исполнением обязательства и достижением цели, с которою оно и было установлено, совершенно независимо от употребленных на это средств. ——————————— <1> L. 23, 40, 53 D., 46, 3; I. 39 D., 3, 5.
2. также необъяснимой с точки зрения господствующей теории является и делимость обязательств между наследниками кредитора, наступающая ipso jure после смерти последнего. Действие человека как таковое не может быть мыслимо делимым, так как части его будут всегда отличаться от целого как в количественном, так и в качественном отношении. Делимость обязательств делается понятной лишь тогда, когда в понятие обязательства вместо определенного действия будет введена его практическая цель, которая легко разлагается на части и делает поэтому возможным установление на эти части особенных обязательств. 3. Как объяснить, далее, с точки зрения «права на чужое действие» то, что после смерти должника, не оставившего наследников и когда сам фиск отклонил от себя вступление в наследство его имуществом, права кредиторов из обязательств такого должника продолжают существовать, несмотря на отсутствие какого бы то ни было лица, к которому они могли бы обратиться с требованием обещанных им «действий»? <1> ——————————— <1> См.: Bekker. Die Actionen des romischen Privatrechts II. С. 126 и цитируемые им в примеч. 51 решения римских юристов.
4. То же самое нужно сказать и о случае, когда кредитор вступает в наследство своего должника cum beneficio inventarii и, несмотря на слияние в своем лице права и долга по обязательству умершего должника, сохраняет право требовать удовлетворения по нему наравне с другими кредиторами <1>. Должника здесь опять нет, и чтобы оправдать в этом случае право кредитора на действие первого, господствующая теория могла бы прибегнуть только к одному средству — к фикции юридического лица (hereditas jacens), которая, в свою очередь, опиралась бы на другую фикцию — на признание совершившегося вступления в наследство несовершившимся, и тогда с помощью этой двойной фикции обязательство как право на чужое действие было бы спасено. Бесполезность этого средства так ясна, что может служить новым доказательством против теории, вынужденной оперировать фикциями, т. е. вымыслами, вместо действительных явлений и обходить затруднения, вместо того чтобы разрешать их. ——————————— <1> Виндшейд. Пандекты III. § 606 (N 3 и примеч. 14).
Общий результат критики, которой мы подвергли общепринятый взгляд на сущность понятия обязательства, может быть выражен в следующем виде: в этом взгляде не делается различия между предметом, основанием и целью обязательства; все три момента сливаются в одном понятии чужого действия, которое принимается и за предмет, и за основание, и за цель обязательства. Между тем мы видели, что это действие не может быть признано во всех случаях обязательств даже предметом их и что оно служит лишь средством для осуществления цели обязательства, заключающейся в удовлетворении интереса, для которого оно было установлено; что же касается основания юридической силы обязательств, то оно лежит, как это мы увидим впоследствии, не в индивидуальной воле участвующих в них лиц, а в соображениях совсем иного порядка. Объяснение свое господствующий взгляд находит в той же точке отправления индивидуализма, которую мы констатировали в учении о собственности. Так же как и там, принцип индивидуальной воли возводится и в обязательствах в степень источника и цели права, и этот принцип оказывает еще более решительное влияние на разрешение различных практических вопросов, возникающих в области обязательственного права. Влияние господствующего учения о понятии обязательства на теорию договора. Для доказательства этого влияния мы обратимся к обязательствам из договоров, представляющим, несомненно, самый многочисленный и самый важный вид обязательств. Ежедневный опыт и наблюдение показывают нам, что договор служит самой обыкновенной юридической формой, в которой мы удовлетворяем наши насущные потребности. Посредством договора мы приобретаем вещи, необходимые для поддержания нашего существования, посредством же договора мы пользуемся услугами других лиц и целых учреждений для удовлетворения не только экономических, но также эстетических и чисто нравственных потребностей нашего существования. Европейские законодательства признают также наследственные договоры и основывают на том же начале договора, как известно, и брачный союз. Словом, договор является важнейшей и самой общей из всех юридических форм, которыми устанавливаются, видоизменяются и прекращаются права; мы встречаемся с нею во всех сферах гражданского права и поэтому можем признать предметов договора столько же, сколько существует вообще юридических отношений <1>. Что же такое договор и где искать основания его обязательной силы? ——————————— <1> См.: Савиньи. System III. § 140. С. 312 и сл.; Кох. Das Recht der Forderungen II. § 69. С. 43; Синтенис. Das Civilrecht II. § 95. С. 232.
Общепринятое определение договора. Юристы, опираясь на римское право <1>, отвечают на этот вопрос почти единогласно следующей формулой: договор есть согласное объявление воли двух или нескольких лиц, которым определяются взаимно их юридические отношения <2>. Это определение договора не заключает в себе указания ни на один из его внутренних признаков: ни на основание обязательного действия договора, ни на цель его установления — и потому отличается чисто формальным характером. Тем не менее как определение, основанное на наблюдении одного общего всем договорам внешнего признака — согласного объявления воли участвующих в них лиц, оно может быть, несмотря на свою неполноту, принято за правильное. Если же признать, что согласное выражение воли участвующих в договоре лиц составляет действительно их общий признак, то теория договора должна служить главной опорой господствующему взгляду на право, рассматривающему волю как его последнее основание и цель; в договоре эта воля действительно осуществляется, и потому область договора должна быть именно той областью гражданского права, в которой господствующий взгляд находил бы свое полное оправдание и применение. Если же нам удастся доказать несостоятельность господствующего взгляда даже в этой области, то он будет лишен своего последнего оплота, и тогда мы будем иметь полное право признать его совершенно неудовлетворительным. Но прежде чем возражать против господствующей теории договора, нужно точно установить ее. Основное положение ее следующее: обязательство по договору рождается из воли участвующих в нем лиц, или, вернее, из воли лица, объявляющего себя обязанным, так как принятие этого объявления другой стороною является скорее необходимым условием действительности договора, чем источником его возникновения; во взаимных договорах представляются два таких объявления, из которых каждое содержит в себе основание обязательности давшего его лица <3>. ——————————— <1> L. I, § 2 D. de pact., 2. 14: «pactio est duorum pluriumve in idem placitum consensus». <2> См., кроме цитированных в примеч. 39 сочинений: Виндшейд. II. § 305; Келлер. § 220. С. 430; Безелер. System des gemeinen deutschen Privatrechts I. 3-е изд. § 101. С. 404; см. в особенности: Регельсбергер. Civilrechtliche Erorterungen I. С. 2. <3> См., кроме цитированных выше сочинений: Schott. Der oblig. Vertrag. С. 95 и сл.
Господствующий взгляд на основание обязательной силы договора. Отсюда видно, что основанием обязательной силы договора принимается обязательность данного объявления воли, и довольно просмотреть любой учебник гражданского права или какое-либо сочинение, посвященное договорам в особенности <1>, чтобы убедиться в действительности такого отношения современной теории к обязательной силе воли <2>. Мы сошлемся только для полноты очерка этой теории на Гербера, который в своем учебнике немецкого гражданского права говорит прямо, что «обязательная сила договора заключается в согласном объявлении воли сторон» <3>. Еще более характеристичны слова Гнейста, который в книге «Die formelten Vertrage» (с. 113) говорит: в договорах «все сводится к воле как к единственному юридическому основанию, обязательное действие которого заключается всегда в самой воле, а не в обстоятельствах, лежащих вне ее». На этой же почве стоит одно новое сочинение Зигеля — «Das Verpflichtungsgrund», обратившее на себя внимание всей немецкой юриспруденции вследствие своего протеста против господствующего учения; но этот протест не был направлен против принципа воли как основания обязательности договоров, а стремился, напротив, доказать, что, кроме договора, основанием обязательности для немецкого права должно быть признано и одностороннее объявление воли должника <4>. Ничего не изменяет в господствующей теории и поправка, внесенная в нее Виндшейдом, который говорит, что «если положительное право приписывает договору обязательную силу, то оно достигает этого признанием воли сторон» <5>. Объективное право в представлении Виндшейда только ex post facto санкционирует волю, остающуюся все-таки решающим моментом и последним основанием всех договоров. Итак, обязательное действие договора в силу заключающегося в нем объявления воли составляет такую догму современной юриспруденции, во всеобщем признании которой невозможно сомневаться, и если бы из бесспорного господства какой-нибудь догмы в теории и практике можно было умозаключать к ее внутреннему достоинству и правильности, то во всей юриспруденции не было бы более неоспоримого положения, чем положение об обязательном действии воли. Первое сомнение в его правильности было возбуждено цитированным [в сн. 2 на с. 174] сочинением Либе, появившимся в 1840 г.; потом это сомнение выразилось, но крайне нерешительно в исследованиях двух других юристов <6>; но честь решительного опровержения господствующей теории договора принадлежит бесспорно трудам Иеринга и Шлоссманна. Сначала первый <7>, а потом второй <8> привели против нее такие веские аргументы и показали с такой ясностью несообразность последствий, к которым она ведет, что приходится невольно удивляться, как другие юристы могут до сих пор стоять на старой точке зрения и так всецело игнорировать поражение, нанесенное ей могущественной критикой Иеринга и Шлоссманна. Ввиду важности вопроса и совершенной новизны его в русской юридической литературе мы позволим себе привести важнейшие из их аргументов, дополнив их некоторыми собственными соображениями. ——————————— <1> Исключая сочинения Liebe (die Stipulation u. das einfache Versprechen. С. 71) и Schlossmann (der Vertrag). Первого из этих сочинений у нас нет под рукой, и мы приводим его на основании цитаты Шлоссманна к с. 81. <2> См.: Hofmann. Die Entstehungsgrunde der Oblig. С. 53. <3> Gerber. System des deuschen Privatrechts. § 159. С. 430. <4> Siegel. Das Versprechen als Verpflichtungsgrund. 1873. § 6. С. 45 и сл.; см. рецензии этой книги: Унгер в: Grunhut’s Zeitschrift f. offentl. u. Privatrecht. Bd. I. С. 357; Гарейс в: Zeitschrift f. deutsche Gesetzgebung VIII. С. 180 и пр. <5> Виндшейд. II. § 318. Примеч. 3. <6> Girtanner. Die Stipulation und ihr Verhaltniss zum Wesen der Vertragsobligation, 1859; Hofmann. Die Entstehungsgrunde der Oblig., 1874; см.: Schlossmann. Der Vertrag. С. 81 — 83. <7> Geist des romischen Rechts. Bd. III. Ч. 1. С. 325, 326; Zweck im Recht, 264 и сл. <8> Der Vertrag. С. 1 — 165.
1. «Если последняя цель права лежит в воле, — говорит Иеринг, — юридически обязательную силу должны иметь все соглашения, не содержащие в себе ничего безнравственного или недозволенного, и мы видим действительно, что учение об абстрактно-обязательной силе договоров провозглашалось не раз как юристами, так и философами права. Следовательно, договор, который налагал бы на одну сторону ограничение и не приносил другой никакой пользы, как, например, договор, которым бы кто-нибудь обязывался не отчуждать своей земли или не заниматься известной деятельностью, — такой договор был бы, по этой теории, вполне действительным. Также действительными были бы договоры, в поддержании силы которых промиссар не имел бы ни малейшего интереса, так как на что может служить такой интерес? Цель права состоит во владычестве воли, в господстве, и я пользуюсь этим господством над чужой волей, если имею возможность вынудить у другого какое-нибудь действие — все равно, имеет ли оно для меня интерес или нет. Теория воли довольствуется этим духовным пользованием права: заключает ли в себе право интерес или нет — в обоих случаях оно одинаково удовлетворяет меня как чистая власть, как возможность провести мою волю» (с. 325 — 326). Действительно, во всех учебниках гражданского права мы находим утверждение, что всякое согласное объявление воли сторон, если только оно не невозможно и не противоречит нравственности или закону, непременно производит обязательственное право <1>. Это положение, как показывает приведенный нами отрывок из сочинения Иеринга, стоит в тесной, причинной связи с теорией воли, исповедоваемой современной юриспруденцией, а потому практические последствия, к которым повело бы применение этого положения в жизни, должны быть приписаны теории воли и служить прямым аргументом против нее. Указать на эти последствия нетрудно: если бы все договоры были признаны обязательными независимо от интереса, которому они служат, то такими договорами пришлось бы сильно стеснить свободу личности и стеснить совершенно бесцельными ограничениями, а с другой стороны, признать обязательными и обременить суды спорами по таким договорам, которые, не служа выражением никакого серьезного интереса, возникали бы из пустых прихотей, игры и других побуждений, совершенно чуждых праву, призванному к защите лишь таких интересов, которые обусловлены серьезными целями личного и общественного существования человека. ——————————— <1> См., например: Виндшейд. II. § 312. С. 198. § 314. Если в примеч. 8 к последнему параграфу Виндшейд провозглашает торжественно: «Das Recht dient nicht Launen und frivolen Gelusten», — то эти слова, по закону логических противоречий, или не заключают в себе ровно ничего, или совершенно опровергают содержание текста цитированных параграфов.
2. Как может воля, мыслимая как таковая, т. е. независимо от цели, которую она осуществляет в договоре, служить для него обязательственным основанием, когда эта воля способна измениться во всякую минуту и объявить, что она не желает быть более обязанной? <1> Здесь противоречие, не разрешимое с точки зрения господствующей теории, которая сознательно обходит его и не затрудняется еще утверждать, что «гражданское право, в отличие от публичного, предоставляет сторонам в широких размерах право нормировать свои юридические отношения по собственному произволу путем односторонних распоряжений или свободного соглашения участвующих в них лиц» <2>. Отсюда видно, что односторонние и договорные объявления воли, или, иначе, вся совокупность юридических сделок, рассматриваются господствующим учением как выражение автономии лица в области гражданского права; договор считается автономным установлением самими контрагентами их юридических отношений и получает таким образом относительно последних значение закона, издаваемого ими наподобие законодательных собраний. Оказывается, что договоры и сделки вообще обязаны своими юридическими последствиями не объективному праву, а воле своих установителей, в чем видят обыкновенно отличие сделок от других юридических событий, с которыми право непосредственно связывает известные последствия. В сделках объективное право только одобряет и гарантирует их последствия, но не служит им основанием, которое заключается в индивидуальной воле совершенно независимо от объективного закона. Таким образом, эта воля представляется в сделках не условием, а causa effidens — причиной их юридических последствий <3>. Другими словами, в представлении господствующей теории основание обязательности договора лежит в автономии обязывающего лица. Но как примирить эту автономию с властью, которая должна быть признана за всяким лицом и учреждением, обладающими автономией прекращать действие изданных ими для себя законов, и как помешать тому, чтобы лицо, обязанное в силу своей автономии, не изменило на этом же основании своему обязательству, этого не показал до сих пор ни один из юристов, придерживающихся господствующего учения <4>. ——————————— <1> Ihering. Zweck im Recht. С. 264, 265. <2> См.: Unger. System I. § 9. С. 53; Thibaut. System I. § 22, 23; Savigny. System I. § 16. С. 57, 58. <3> См.: Karlowa. Das Rechtsgeschaft. С. 4; см. в особенности: Toullier. Le droit civil francais. 5 ed. T. XI. Titre IV. С. 3 — 5; contra: Marcade. Explication du Code civil. 5 ed. T. V. С. 235 — 238 (где блистательно опровергается изложенный в тексте взгляд и доказывается, что во всех возможных случаях обязательства возникают и основываются на законе). <4> Ср.: Шлоссманн. С. 90.
3. Еще более, чем приведенные общие соображения, говорит против господствующей теории договора масса противоречий, в которые она впадает при обсуждении частных вопросов договорного права. Здесь она признает часто возникновение обязательства при очевидном отсутствии воли и отступает таким образом от логических последствий своего принципа, сознавая, что последовательное проведение его противоречило бы в некоторых случаях потребностям жизни и чувству справедливости. Несмотря на эти отступления от теории воли, опровергающие очевидно ее пригодность как общего принципа, господствующая теория не перестает считать его, вопреки самым элементарным требованиям научного метода, аксиомой, не нуждающейся в доказательствах. В других случаях, напротив, она проводит этот принцип во всей строгости и приходит вследствие этого к результатам, не допустимым с точки зрения практической жизни. Рассмотрим вкратце тот и другой ряд случаев. Теория притворных и несерьезных сделок. A. Кроме договоров, содержание которых вполне соответствует воле участвующих в них лиц, жизнь представляет еще примеры таких договоров, в которых воля одной из сторон объявляется притворно (simulatio) или несерьезно, в виде шутки, так что содержание этой воли представляется другой стороне иным, чем оно есть в действительности. Такие объявления воли господствующая теория должна признать со своей точки зрения недействительными, так как давшее их лицо вовсе не имело намерения обязываться (при шутке) или хотело обязаться совсем в другом смысле, чем это выразилось в данном им объявлении воли (при притворной сделке). Между тем оно допускает недействительность таких сделок лишь в том случае, когда шутка или притворный характер данного объявления воли были известными другой стороне, участвовавшей в договоре: в противном же случае, когда она не знала или не могла из обстоятельств, сопровождавших заключение сделки, убедиться в ее притворном или шуточном характере, заключенная сделка признается вполне действительной <1>. Почему же эта сделка считается действительной, несмотря на заключающееся в ней противоречие между содержанием воли и ее изъявлением — противоречие, которое исключает всякую мысль об обязательности, если основанием ее признавать волю обязывающего лица? Савиньи <2> отвечает на этот вопрос следующими словами: «Противоречие между волей и ее объявлением должно признаваться лишь настолько, насколько оно распознаваемо для лица, вступающего в непосредственное отношение с объявителем воли, и потому не зависит от простой мысли последнего», — не замечая, что этот ответ никак нельзя согласить с проповедуемой им же теорией воли как обязательного основания договоров. Савиньи признает, что обязательность данного объявления воли не прекращается от того, что объявитель имел другую волю, а не ту, которую он выразил, и что такое объявление воли тогда только недействительно, когда другая сторона могла распознать заключающееся в нем противоречие. Отсюда видно, что, по мнению Савиньи, действительность сделок, заключенных притворно или в виде шутки, зависит вовсе не от воли обязывающего лица, а от других обстоятельств, не имеющих с этой волей ничего общего. ——————————— <1> Савиньи. System III. § 134. С. 257 — 263; Арндтс. Пандекты. § 237. С. 407; Регельсбергер. Civilrechtliche Erorterungen. С. 19. Иеринг в своем известном исследовании «Culpa in contrahendo» (Jahrbucher fur Dogmatik IV, примеч. 80 к с. 74) приводит следующие примеры действительности и недействительности сделки, заключенной с намерением пошутить. Кто-нибудь в веселом расположении духа позволяет себе шутку купить на рынке все количество сложенного там сена и приказывает доставить его в дом, где он только что был в гостях. Судья не мог здесь ни минуту сомневаться в несерьезных намерениях покупщика, но продавцы сена не имели никакого повода думать, что с ними шутят, и потому их сделка с покупщиком должна быть признана вполне действительной. Напротив, студент, предлагающий на аукционе непомерно высокую цену за продающуюся с молотка корову, не заключает действительной сделки, потому что несерьезность его намерения должна была быть ясна для всех присутствующих на аукционе. <2> System III. С. 259.
В таком же несогласии с теорией воли, как объяснение Савиньи, находится и взгляд Виндшейда на наш вопрос. В § 84 своего учебника (с. 231) он говорит, что «в двусторонних сделках недостаточно одной общей распознаваемости воли объявителя — необходимо еще, чтобы оно была распознаваема и для другого контрагента: каждый контрагент имеет право на объявление воли другого контрагента в том самом смысле, в котором он должен был понять ее». Эти слова стоят в полном противоречии с утверждением Виндшейда в начале того же параграфа, что «действие юридической сделки определяется содержанием объявленной в ней воли, а задачей интерпретации должно быть выяснение этой воли» (с. 229), так как здесь обязательность и содержание сделки ставятся в зависимость исключительно от воли объявителя. Говоря же далее, что данное объявление воли толкуется в смысле, в котором другой контрагент должен был понять его, Виндшейд, очевидно, опровергает сам свое первое положение, так как действие юридической сделки определяется тогда уже не тем содержанием воли, которое имел в виду объявитель ее, а тем, в котором принял его другой контрагент; это же последнее содержание воли может быть при известных обстоятельствах совершенно отлично от первого, так что в этом случае объявитель воли может быть обязан к такому действию, к которому он вовсе не имел намерения обязывать себя. Нечего говорить, что в этом выводе заключается полное отрицание теории воли. B. Насколько предшествующее изложение показывает нам, что господствующая теория, руководствуясь практическими соображениями, отступает в некоторых случаях от принципа воли и жертвует им безжалостно тогда, когда этого требует жизнь, греша в этих случаях только против научного отношения к предмету исследования, настолько же в других случаях она твердо держится своей теоретической точки отправления и, напротив, жертвует ей самыми насущными интересами жизни. Доказательством этого может служить настоящее состояние учений о заблуждении, о цессии и о представительстве в гражданском праве. Учение о заблуждении. A. Во всех случаях существенного заблуждения, т. е. существенного, но ненамеренного противоречия между содержанием и объявлением воли, господствующая доктрина постановляет недействительность объявления воли, данного в таком заблуждении, совершенно независимо от того, было или могло ли это заблуждение сделаться известным другому контрагенту <1>. Замечательно, что Савиньи, предпосылающий своему изложению о несогласии воли и объявления ее приведенное выше положение, по которому такое несогласие должно иметь последствием недействительность сделки лишь при распознаваемости его для другого контрагента (см. выше [с. 178]) в специальном исследовании, посвященном учению о заблуждении, не возвращается ни разу к моменту распознаваемости заблуждения для третьих лиц и дает нам право думать, что он вовсе не требует этого момента для признания безусловно недействительной сделки, заключенной под влиянием существенного заблуждения. В изложении других известных юристов за этим моментом также не признается никакого значения, и заблуждение, если оно только не относится к мотивам действия, считается основанием недействительности сделок вообще, независимо даже от того, извинительно оно или нет <2>. Сам Иеринг, не легко поддающийся обыкновенно формализму воли господствующего взгляда, склоняется в вопросе о заблуждении на его сторону, принимая также недействительность сделок, заключенных по заблуждению, независимо от знания или незнания о нем в лице другого контрагента; но он старается по крайней мере устранить вредные последствия от заблуждения для другого контрагента при помощи особого вознаградительного иска, основанного на договорной вине заблуждающегося <3>. ——————————— <1> См.: Виндшейд. I. § 76. С. 198 и сл.; Савиньи. III. 326 — 473; Регельсбергер. Civilrechtliche Erorterungen. С. 19 и сл. <2> См.: Виндшейд, в цитированном месте; Келлер. Пандекты. § 56. С. 107, § 58. С. 112 и сл.; Арндтс. § 62. С. 73, § 237. С. 73, § 237. С. 407 и пр. <3> Jahrbucher f. Dogmatik IV. С. 77 и сл.
Здесь не место разбирать достоинства иска и конструкции, предложенной Иерингом. Несмотря на неудовлетворительность иска во многих случаях применения и натяжки в конструкции теория Иеринга, конечно, предпочтительнее господствующей, которую она исправляет уже потому, что дает хоть некоторую защиту контрагенту, против которого объявляется недействительность сделки. Мы привели мнение Иеринга по рассматриваемому вопросу только для того, чтобы показать, как трудно, держась за принцип воли, прийти к каким-нибудь годным в практическом отношении результатам и как легко при этом впасть в противоречие с самим собою даже такому выходящему из ряда вон юристу, как Иеринг. Таким противоречием во взгляде Иеринга, которого он мог бы легко избежать, оставив в сторону точку отправления воли в учении о заблуждении, так же как он оставил ее во многих других теориях гражданского права, — таким противоречием являются и у него объявление, с одной стороны, недействительными договоров, заключенных под влиянием заблуждения, и установление, с другой стороны, следующего, чрезвычайно тонко формулированного им же в том же сочинении о culpa in contrahendo правила интерпретации договоров. Он говорит здесь (примеч. 78 к с. 72), что при толковании договоров «судья не имеет права принимать в соображение факты и обстоятельства, которые, выясняя вполне и ставя вне всякого сомнения действительную волю объявителя, были тем не менее неизвестны или не должны были быть известными другой стороне; другими словами, судья не решает вопроса, каков был действительный смысл данного объявления воли, а решает, как должна была противная сторона по представлявшимся ей обстоятельствам понять это объявление воли». Непонятно, почему такое разумное правило интерпретации, устанавливающее вместо внутреннего внешний и легко распознаваемый критерий для определения действительности и содержания договоров, критерий, в котором находят охрану интересы всех лиц, вступающих в договор, и, следовательно, также интересы лица, объявляющего договорную волю, — непонятно, говорим мы, почему это правило должно иметь силу только для притворных и несерьезных сделок, а не распространяться также на случаи заблуждения, встречающиеся в договорных отношениях гораздо чаще притворства и шутки, почему в этих случаях чувствуется еще сильнее потребность в правиле, которое примиряло бы интересы объявителя воли с интересами всего остального общества, вступающего с ним в лице своих отдельных членов в различные договорные отношения. Нетрудно представить себе, как тяжело отозвалось бы на гражданском обороте последовательное проведение господствующего учения о заблуждении. Один из контрагентов нес бы ответственность за все ошибки другого, как бы грубы они ни были и как ни легко было бы последнему избежать их; он отвечал бы за эти ошибки, несмотря на то что не мог знать их. Купив по ошибке вместо одних акций другие, я мог бы в течение всего срока исковой давности, т. е. по римскому и западноевропейскому праву через 30 лет, потребовать уничтожения купли-продажи и возвращения мне денег, заплаченных за акции, потерявшие в этот длинный промежуток времени всякую ценность. Точно так же, подписывая бумаги, составленные моим другом, не читая их и полагаясь на близкое знакомство его с моими делами, я мог бы впоследствии оспаривать действительность заключающихся в тех бумагах обязательств под тем предлогом, что я не знал их содержания и вовсе не имел воли обязывать себя. Очевидно, что такая теория договора подорвала бы в обществе всякую веру в него и низвела бы договор со степени могущественного орудия гражданского оборота, которым он служит теперь, на степень негодного юридического средства, к которому никто более не стал бы обращаться. Теория цессии обязательственных прав. B. Не менее рельефный пример несостоятельности господствующей догмы представляет взгляд ее на цессию или переход прав по обязательствам от одних лиц к другим. Этот переход она отрицает в принципе, основываясь на своем определении сущности обязательства как взаимного отношения, в котором стоят друг к другу лишь первоначально вступившие в него лица; обязательство предполагается так тесно связанным со своими субъектами, что всякой перемене лиц в обязательстве приписывается такое значение, как если бы она существенно изменила предмет его и потому или прекращала бы первоначальное обязательство, ставя на его место новое, когда перемена субъекта состоялась по взаимному согласию сторон, или же оставалась бы без всяких последствий, когда замена в обязательстве одного лица другим совершилась односторонне, без согласия другой стороны, так как признать за кем-нибудь право на такое одностороннее изменение обязательства значило бы, по аргументации Мюленбруха, одного из представителей господствующего учения, дать ему право распоряжаться произвольно чужой, не принадлежащей ему юридической сферой <1>. Итак, обязательство считается строго индивидуальным и не переносимым на другое лицо правом, потому что тесная связь обязательства с его субъектами принимается господствующим взглядом лежащею в самом понятии обязательства. Для примирения же теории с жизнью, требующей свободного обращения обязательств в гражданском обороте, господствующий взгляд допускает переход от одного лица к другому не права, а только отправления права по обязательству, так что первоначальный кредитор, цедент, сохраняет за собою jus obligationis, а новый субъект, цессионарий, пользуется практическим результатом этого права и располагает иском (actio) <2>. Связь этой теории с римской конструкцией цессии обязательственных прав, основанной на фикции мандата или на так называемой procuratio in rem suam, очевидна, но объяснить, каким образом национальная особенность римского права, потерявшая свое значение в дальнейшем развитии даже этого права, могла для новой юриспруденции сделаться исходной точкой при определении понятия обязательства и его существенных признаков, — объяснить это, по нашему мнению, можно только общим влиянием индивидуалистического миросозерцания на юриспруденцию и действием априористических приемов исследования, которыми она до сих пор не перестает руководствоваться, невзирая на то что ее априористические данные опровергаются на каждом шагу простым наблюдением юридических явлений в жизни. Как, в самом деле, утверждать, что свойство «непереносимости» («Unubertragbarkeit») вытекает из природы обязательственного права, когда мы видим, что обязательства, с одной стороны, беспрепятственно переходят по наследству <3>, а с другой — свободно обращаются в жизни, как самостоятельные ценности переходят из рук в руки, без того чтобы должник имел возможность воспрепятствовать такому переходу его обязательств, сохраняющих все свои первоначальные качества? Как сомневаться, далее, в допустимости перехода прав по обязательствам, когда легитимация по формальным обязательствам, играющим такую важную роль в экономической жизни новых народов, упростилась в настоящее время до такой степени, что права по этим обязательствам переходят на другое лицо не уступкой от первоначального кредитора, а индоссаментом и простым фактическим вручением? <4> Мы спросим, наконец, почему обязательственное право не признается изменившимся в своем существе, когда место действия, сделавшегося невозможным, заступает денежное вознаграждение; почему оно, несмотря на это изменение объекта, сохраняет все свои фактические и юридические особенности и почему то же самое не должно быть признано и в том случае, когда должника заставляют платить вместо одного лица другому? <5> Мы не оспариваем, конечно, того, что в жизни встречаются обязательства строго личные и потому не подлежащие переходу на другое лицо, как, например, обязательства, исполнение которых возможно только в лице определенного вверителя (actiones vindictam spirantes), и некоторые другие <6>, но умозаключать отсюда к личной природе всех обязательств вообще было бы так же ненаучно, как вообще ненаучно характеризовать родовое понятие каким-нибудь признаком, свойственным только одному из его видов. Поэтому на место слишком общего и неверного положения господствующей теории: обязательство непереносимо, потому что оно по природе лично, — следовало бы, по нашему мнению, поставить другое положение, менее общее, но зато более верное: насколько обязательство непереносимо, настолько оно лично и обратно <7>. В этом смысле, т. е. за допустимость цессии и против абсолютно личной природы обязательственных прав, высказываются все новые законодательства <8> и некоторые юристы, придерживающиеся в остальном точки зрения господствующей теории <9>; они оставляют ее в настоящем вопросе в стороне, так же как и во всех тех случаях, когда следование принципу воли привело бы их к результатам, допустить которые им не позволяет практический смысл и естественное чувство справедливости. ——————————— <1> Muhlenbruch. die Lehre von der Cession der Forderungsrechte. § 2, с. 20 и § 3, с. 22 — 24; Puchta. Institutionen II. § 267. С. 330, 331; Idem. Verlesungen. § 273; Vangerow. III. § 574. С. 100 — 103; Kuntze. Obligation. § 20. С. 76. Литературу по вопросу и доказательство того, что изложенный в тексте взгляд действительно господствует в современной теории, см.: Виндшейд. II. § 329. Примеч. * и 10. <2> См. вместо всех других Виндшейда в цитированном месте. <3> Пухта (Inst. II. С. 331) старается объяснить этот переход тем, «что наследственное преемство заключается в переходе личности наследодателя на наследника, так что здесь не происходит в действительности никакой перемены в субъекте». В этом объяснении, которое можно встретить не у одного Пухты, мы не видим ничего, кроме юридической мистики, и потому не останавливаемся на нем. <4> См.: Нерсесов. Понятие добровольного представительства. С. 55, 56. <5> См.: Виндшейд. § 329. Примеч. 10. <6> См.: Виндшейд. § 335. <7> См.: Бринц. Krit. Blatter II. С. 34. <8> Pr. ALR. Th. I. Tit. II. § 376 — 444; Oest. Ges. § 1392 — 1410; Sach. Gb. § 962 — 963; Code civil. Art. 1689 — 1694. <9> См.: Виндшейд, в цитированном месте; Buhr. Zur Cessionslehre в: Jahrbucher f. Dogmatik I. С. 413 — 414; Бринц. Пандекты. § 130; Idem., Krit. BI. III. С. 34; Безелер, System des gemeinen deutchen Privatr. § 109. С. 399 — 401; Брунс в: Энциклопедия Гольцендорфа. С. 398.
Различные теории представительства в гражданском праве. C. Все, что мы сказали о цессии обязательственных прав, применяется вполне и к настоящему состоянию учения о представительстве в гражданском праве. В этом учении, так же как и в предшествующем, многие из очень известных юристов исходят до сих пор из того положения, что обязательство есть юридическое отношение между его первоначальными участниками, и потому вовсе не хотят признать институт прямого представительства, основанный, как известно, на том, что сделки одного лица производят юридические последствия для другого; при этом они не обращают никакого внимания ни на всеобщее признание этого института положительными законодательствами, ни на не менее общее применение его в жизни <1>. Основанием отрицания служит все та же таинственная природа обязательства, в состав которой вводится так же априористически, как и «непереносимость» права по обязательству, еще другое свойство — «непредставляемость» («Unvertretbarkeit»), стоящее в неразрывной связи с первым. Что же касается потребности в представительстве, существующей во всяком более или менее развитом обществе, то для удовлетворения ее принимается, с одной стороны, в виде общего правила римская конструкция представительных отношений времен так называемого классического периода римской юриспруденции — конструкция, по которой права и обязанности из заключенной представителем сделки возникают сначала в его лице и от него уже впоследствии переносятся на лицо представляемое, а с другой стороны, устанавливается целый ряд ничем не мотивированных исключений из этого правила, которые лишают его всякого значения и изобличают вместе с тем полную ненаучность приемов, которые приводят к установлению такого странного и не допустимого в науке отношения между правилом и исключениями из него <2>. Противоречие этой теории с правом, действующим в жизни, и натяжки, к которым она принуждена была прибегнуть для своего оправдания, заставили других, не менее авторитетных юристов, чем те, которые были цитированы в предыдущей сноске <3>, признать, что прямое представительство существует в новом праве в силу обычая, но так как, признав его, эти юристы не переставали держаться догмы воли и выводить из нее всевозможные консеквенции, то несогласие их взгляда на представительство с исходной точкой отправления, противоречивые конструкции понятия представительства и такие же противоречивые решения практических вопросов, возбуждаемых представительными отношениями, — все это было неминуемо и легко объяснимо вследствие несогласия, в котором признание прямого представительства находится с принципом воли как основанием обязательности. Мы не тронем этих причудливых конструкций, воздвигнутых на обломках теории воли <4>, но коснемся нескольких практических вопросов, то или другое разрешение которых даст нам возможность судить лучше о достоинстве различных учений о представительстве. ——————————— <1> См.: Нерсесов. Понятие добровольного представительства. С. 153 — 175. Если Вангеров (Pand., § 574, с. 105), для того чтобы отстранить от себя упрек в противоречии с практикой, говорит по поводу цессии, в которой он также видит не переход права, а только отправление чужого права по обязательству, что «только материальное содержание, а не юридическая конструкция его определяется правовым сознанием народа», то это объяснение неправильно уже потому, что непризнание в цессии перехода прав по обязательствам не может не сопровождаться важными юридическими последствиями, почему признание или непризнание этого перехода будет не только вопросом конструкции, но и вопросом материального права. То же самое нужно сказать и о признании института прямого представительства, так как с ним связаны такие материальные последствия, которых вовсе бы не было или которые представились бы совсем иными, если бы этот институт не признавался на практике. Указание на эти последствия можно встретить в цитированном исследовании Нерсесова (с. 112 — 113), где из практических последствий непризнания прямого представительства делается совершенно правильное заключение, что тогда «представительство, вместо того чтобы быть средством расширения юридической личности человека, с каковой целью оно возникло, было бы стеснением ее». <2> Лучшим представителем этой теории может по справедливости считаться Пухта (Institutionen II, § 203; Pand., § 52; Vorlesungen, § 273, 275, 279), излагающий ее с рельефностью, достойной лучшего употребления. Ко взгляду Пухты примыкают с неважными модификациями Туль (Handelsrecht, 5-е изд., § 69, 70), Вангеров (III, § 608), Синтенис (II, § 352), Кунце (Oblig., § 72), Бер (в Jahrbucher Иеринга VI, с. 289, 290), Шейрль (Там же II, с. 27) и др. Основательный разбор и критику этих взглядов дает цитированное уже несколько раз исследование Нерсесова (с. 107 — 116), о котором мы должны с сожалением сказать, что оно также стоит на почве господствующей догмы (см. главу об юридическом обосновании добровольного представительства (с. 81 — 87) и о разграничении роли представителя и нунция по признаку воли (с. 16)), хотя в предисловии и в некоторых частях своего исследования автор не раз выдвигает на первый план так называемый объективный момент представительства, т. е. значение его для третьих лиц и для общества. Введением в исследование этого важного момента сочинение Нерсесова отличается к своей выгоде от массы бесполезных догматических работ, написанных на тему представительства, но последовательное проведение этого момента через все учение о представительстве, которого недостает в труде Нерсесова, придало бы ему, по нашему мнению, еще более ценности. <3> Buchka. die Lehre von der Stellvertretung. С. 202 — 205; Виндшейд. I. § 73. С. 189 — 190; Брунс в: Энциклопедия Гольцендорфа. С. 344 — 345; Иеринг. Mitwirkung fur fremde Rechtsgeschafte в: Jahrbucher f. Dogmatik I. С. 274 и сл.; Бринц. Pand. С. 1594 — 1611; Лабанд в: Zeitschrift fur Handelsrecht X, с. 184 и сл.; Унгер. System II. § 90. <4> Изложение их желающие найдут в книгах: Циммерманн. Die Lehre von der stellvertretenden negotiorum gestio. С. 7 — 85; Нерсесов. Понятие добровольного представительства. С. 2 — 116.
Как разрешаются случаи, в которых представитель, услугами которого пользуется лицо представляемое, договаривается с третьими лицами под влиянием заблуждения или вовлекает последнего в убыточные для него сделки посредством обмана или принуждения? Юристы дают на этот вопрос два ответа, одинаково неудовлетворительные с точки зрения интересов третьих лиц, с которыми здесь, несомненно, совпадают интересы всего общества. Одни из этих юристов, объявляя представляемое лицо непосредственным контрагентом по всем сделкам, заключенным через представительство, освобождают его в случаях существенного заблуждения от всякой ответственности, так как в его лице, говорят они, нет консенса на заключенную сделку; принуждение же и обман считаются деликтами, в которых представительство не допускается, и потому лицо представляемое не должно отвечать и за них <1>. Другие юристы, характеризующие сущность прямого представительства отделением причины сделки и акта совершения ее от последствий, возникающих из той же сделки <2>, и распределяющие на этом основании свойства контрагента и субъекта по данной юридической сделке между двумя различными лицами: представителем и представляемым лицом, приходят по нашему вопросу к результатам, также малоудовлетворительным. Исходя из того, что представитель объявляет при заключении сделки свою собственную волю и что поэтому он один должен считаться контрагентом по ней, они ставят, естественно, действительность заключенной им сделки в зависимость от условий действительности ее исключительно в лице представителя, так что отсюда неизбежно следует, что лицо представляемое может воспользоваться заблуждением и другими общими основаниями недействительности сделок, хотя бы в его лице этих оснований вовсе не существовало <3>. Отсюда — следующая несообразность: личность представляемого, которую третьи лица имеют решительно в виду в своих сношениях с представителем и в которой даже разбираемая нами теория видит субъекта заключенной посредством представительства сделки <4>, — эта личность вовсе не принимается в соображение при обсуждении самого существенного вопроса, затрагивающего ближе всего интересы представляемого и третьих лиц, — вопроса о действительности или недействительности совершенной через представительство сделки. Если содержание сделки, как утверждает рассматриваемая теория, касается исключительно лица представляемого и обсуждается по его личности, то почему же вопрос о признании или непризнании этого содержания, заключающийся implicite в вопросе о признании данной сделки действительной или недействительной, должен обсуждаться независимо от личности представляемого? Практические неудобства, связанные с применением этой теории, разумеются сами собою: представляемый пользовался бы неведением своего представителя, чтобы сбывать третьим лицам вещи, добытые им преступными путями или заключающие в себе пороки, способные опорочить сделку, если бы она была совершена представляемым лично, без посредства представительства <5>; несмотря на явный обман с его стороны, третьи лица не имели бы никакой возможности искать с него причиненные им убытки <6>. Точно так же они не имели бы никакой защиты против него и в случае недобросовестных действий со стороны представителя, хотя личность последнего должна бы быть для них совершенно индифферентна, так как в сношениях с ним они не перестают иметь в виду только представляемого, полагая, что ведут дело с ним, а не с его представителем, о кредитоспособности которого они не знают ничего; самое простое чувство справедливости говорит, что ответственность за неудачный выбор представителя должно нести избравшее его лицо, а никак не третьи лица, остающиеся совершенно чуждыми отношений, связывающих представляемого с его представителем. ——————————— <1> Критику этого взгляда и указания на юристов, разделяющих его, см. у Нерсесова (с. 13 и примечания к ней). <2> См.: Иеринг. Geist des R. R. III. Ч. 1. § 53. С. 173 («die wahre, echte Stellvertretung beruht auf einer Trennung der Ursache und Wirkung beim Rechtsgeschaft»); Karlowa, das Rechtsgeschaft. С. 55. Этого же взгляда держится Нерсесов (с. 86 и цитируемые им в примеч. 20 писатели). <3> См.: Нерсесов. С. 87 — 88; Виндшейд. I. § 73. Примеч. 17 и 18 к с. 191 и 192. <4> См.: Нерсесов. Там же. <5> Из правила, что знание или незнание пороков вещи имеет существенное значение только в лице представителя, а не представляемого лица, Нерсесов и некоторые другие юристы допускают одно лишь «исключение» — на случай специального поручения (с. 20 и 88), но мы решительно отказываемся понять смысл этого исключения и особенную связь его со случаем специального поручения; мы думаем, что это мнимое исключение доказывает только несостоятельность выставленного правила. <6> Если Нерсесов, говоря о принуждении и обмане, которым третье лицо подвергается со стороны представителя, предоставляет первому exceptio quod metus causa и ex doli против возбужденного к нему принципалом иска (с. 88), то этим самым он закрывает третьему лицу путь иска, которым в большинстве случаев оно только и могло бы вознаградить свои потери. Говоря далее (примеч. 23), что принципал только в том случае отвечает за dolus своего представителя, когда учинение последним проступка находилось в причинной связи с исполнением поручения, Нерсесов опять не ограждает интересов третьих лиц, которые будут непременно страдать во всех случаях отсутствия такой причинной связи между обманом со стороны представителя и полученным им поручением.
Таковы последствия, к которым приводит неизбежно теория представительства, основанная на распределении содержания сделки и формы заключения ее между двумя различными лицами, и понятно, что неудобство этих последствий нимало не устраняется привлечением к ответственности пред третьими лицами представителя, так как в своих сношениях с ним они руководствуются, как мы уже говорили, кредитоспособностью представляемого, а не представителя, которая может быть ничтожна и вовсе не покрывать их интересов. Нужно еще заметить, что и ответственность представителя пред третьими лицами признается не всеми юристами и не во всех случаях недействительности заключенных им сделок, так как считается неоспоримым, что представитель, действуя для другого и от имени другого, не имеет вовсе намерения обязывать себя <1> и потому не подвергается ответственности, если только не может быть обвинен в какой-либо вине относительно представляемого им лица или своих соконтрагентов — третьих лиц. Ввиду этой дилеммы, которая делает необходимым или полное пренебрежение интересами третьих лиц, или отступление от общепринятого взгляда на представителя как на посредствующее лицо, обязывающее своими действиями не себя, а представляемое им лицо, вопрос об ответственности перед третьими лицами представителя был признан Иерингом открытым <2> и подлежащим разрешению в том или другом смысле, смотря по тому, будет ли представитель рассматриваться как самостоятельный контрагент или как передатчик воли представляемого, которую он только специализирует. «В первом случае, — говорит Иеринг, — к представителю должны применяться все положения о договорной вине, во втором — он должен занять юридическое положение вестника (нунция)». Что касается этого последнего, то оно не только определяется различно различными юристами, но мы наталкиваемся здесь еще на противоречия во взглядах одних и тех же юристов, высказанных в разное время. Так, например, Иеринг, в статье «Mitwirkung fur fremde Rechtsgeschafte» <3> находит, что вестник, отличающийся от представителя фактическим характером своей деятельности, которая не делает его юридическим участником сделки, совершающейся между представляемым и третьими лицами, отвечает пред последними не только за обман, но и за всякий несправедливо причиненный им вред, понятие которого, в противоположность римскому damnum injuria, должно быть теперь, по мнению Иеринга, расширено в смысле ответственности вестника за всякую вину. К такому результату, стоящему в очевидном противоречии с отрицанием юридической деятельности вестника (так как, не участвуя в заключении сделки, он не может и обязываться по ней), Иеринг пришел, по собственному сознанию <4>, только потому, что видел, с одной стороны, необходимость оградить сколько-нибудь интересы третьих лиц, а с другой — считал решительно невозможным привлечь к ответственности пред ними представляемое лицо. Договор, несогласный с волей последнего, говорит Иеринг <5>, был бы по отсутствию консенса необязателен для него даже тогда, если бы его и можно было упрекнуть в какой-либо вине, например в назначении рассеянного или сумасшедшего вестника, так как вследствие необязательности для него договора, аргументирует Иеринг, не может быть также речи и о договорной вине с его стороны. Если бы какой-нибудь купец поручил своему корреспонденту купить для него 100 пудов какого-либо продукта, а этот заказал по ошибке вместо 100 пудов 100 000 или если бы эту ошибку совершил сам заказчик, написав в письме к корреспонденту вместо 100 пудов 100 000, или изобразил цифру пудов так неясно, что корреспондент мог быть легко введен в заблуждение, то по римскому праву заказчик мог бы отказаться от принятия присланных ему продавцом 100 000 пудов заказанного товара, отговариваясь тем, что его консенс шел не на 100 000 пудов, а только на 100. От последствий его вины страдал бы ничем невиноватый продавец, и вот чтобы устранить только эту несправедливость, Иеринг и решился признать ответственность вестника, несмотря на то что во многих случаях она была бы так же несправедлива, как и необеспеченность третьих лиц. ——————————— <1> См.: Виндшейд. § 74. С. 196; Лабанд в: Zeitschrift fur Handelsrecht X. С. 235; Бухка. Stellvertretung. С. 238; Бринц. Кч. BI. II. С. 39. <2> Culpa in contrahendo в: Jahrbucher fur Dogmatik IV. С. 54, 33; contra: Buhr. Там же VI. Ueber Irrungen beim Contrahiren. С. 206 (примеч. 7). <3> Jahrbucher f. Dogmatik I. С. 280 — 282. <4> Jahrbucher f. Dogmatik IV. С. 53. <5> Jahrbucher f. Dogmatik I. С. 280 текста и примеч. 7.
Неудовлетворительность этого взгляда заставила Иеринга через несколько лет отказаться от него и объявить, что как в предшествующем исследовании он не мог признать ответственности представляемого пред третьими лицами, так и теперь он не может признать этой ответственности в лице вестника, потому что последний не вступает с третьими лицами ни в какое обязательственное отношение <1>. ——————————— <1> Jahrbucher f. Dogmatik IV. С. 53, 83, 86.
Вследствие этого он находит более правильным обеспечить защиту последних ответственностью пред ними представляемого лица, которую он выводит из своей теории culpa in contrahendo, состоящей в том, что всякий отвечает за причиненные им другому лицу убытки, когда он вступает с ним в договор, не исполнив всех условий, необходимых для его действительности. Применимость этой теории к отношениям, в которых стоят друг к другу третьи лица, вестник и представляемое лицо, разумеется сама собою, так как представляемое лицо является здесь действительным контрагентом в сделках с третьими лицами и потому, естественно, отвечает перед ними за всякую вину и также за неудачное назначение вестника. Таким образом, теория culpa in contrahendo гарантирует третьих лиц в сношениях с вестником и потому уже заключает в себе огромное преимущество пред всеми другими теориями. Но также ясна, с другой стороны, неприменимость теории Иеринга к чисто представительным отношениям, в которых контрагентом считается, по рассматриваемому нами учению, представитель, а не представляемый, не подвергающийся вследствие этого никакой ответственности за действия представителя, несогласные с его волей, почему теория culpa in contrahendo оставляет в этом отношении третьих лиц так же мало защищенными, как и все другие теории. Это обстоятельство в связи с другими недостатками теории Иеринга, к которым нельзя не причислить лежащий на ней отпечаток фикции и некоторые несообразные практические последствия, указанные ее противниками <1>, может служить, по нашему мнению, новым доказательством тщетности всякой попытки выйти на истинный путь, пока юриспруденция не порвет всех нитей, связывающих ее с метафизической теорией воли. ——————————— <1> Zimmermann. Die Lehre von der stellvertetenden neg. gestio. С. 289 — 290; Bahr. Uber Irrungen Contrahiren в: Jahrbucher f. Dogmatik VI. С. 305 — 306; XIV, с. 422 и пр.
Другой ряд случаев, из которого несостоятельность существующих учений о представительстве обнаруживается еще ярче, находится в непосредственной связи с вопросом о представительном полномочии. Этот вопрос имеет в учении о представительстве существенное значение, так как юристы всех оттенков и школ безусловно соглашаются в том положении, что основание действительности сделок представителя составляет полномочие, данное от представляемого лица представителю и содержащее в себе объявление воли первого об обязательности для него всех действий последнего, предпринятых им в пределах полученного полномочия. Несмотря на такое важное значение вопроса о представительном полномочии, он мало до сих пор занимал юристов и не вызвал ни одного специального исследования, которое выяснило бы существо и основные положения этого института <1>, что, по мнению Шлоссманна <2>, должно быть приписано влиянию римского права и общепринятому взгляду на непризнание им института прямого представительства. ——————————— <1> Мы не считаем нескольких небольших статей, помещенных в немецких периодических изданиях, потому что они не содержат в себе ни самостоятельного, ни всестороннего исследования института, а отличаются, скорее, полемическим характером (см.: Laband в: Zeitschrift fur Handelsrecht X. С. 203 и след.; V. Canstein, Vollmacht und Auftrag mit Stellvertetungsbefugniss в: Zeitschrift fur das Privat — und offentliche Recht der Gegenwart. Bd. III. С. 670; Ladenburg в: Zeitschrift fur Handelsrecht XI. С. 72. <2> Schlossmann. Der Vertrag. С. 124.
Между тем разрешение чрезвычайно важных в практическом отношении вопросов, как, например, вопросов о действительности сделок, заключенных представителем после отмены данного ему полномочия или после смерти представляемого лица, зависит исключительно от того или другого взгляда на представительное полномочие, и мы совершенно согласны со Шлоссманном, утверждающим, что если бы исследование этого института было предпринято кем-нибудь из приверженцев господствующей догмы, то поставленные выше вопросы были бы разрешены непременно в смысле этой догмы, т. е. все действия представителя после смерти представляемого или отмены полномочия, несмотря на незнание третьих лиц об этих обстоятельствах, были бы признаны недействительными <1>. В подтверждение этого положения мы приведем мнения, высказанные по затронутому нами вопросу тремя именитыми юристами. ——————————— <1> Idem. С. 125.
Бетманн Гольвег в одном из своих сочинений <1> говорит, что так как сущность мандата заключается не в преходящем действии, а в продолжающемся отношении, то для полной легитимации представителя относительно третьих лиц «должно быть известно не только начало, но и продолжение мандата; нужно знать, что представляемый не отменил его и что он еще живет». Отмена представляет, по мнению Б. Гольвега, ту «особенность», что она не прекращает ответственности представляемого перед третьими лицами до извещения их об отмене только в том случае, когда он обязался перед ними еще специальным актом признать их сделки со своим представителем обязательными для себя; тогда он как бы дает другой мандат самим третьим лицам и отвечает перед ними до тех пор, пока не возьмет его назад или не известит их об уничтожении мандата, данного им своему представителю. В противном случае, если представляемый не принял специального обязательства относительно третьих лиц, отношения между ними свободнее и «прекращаются гораздо легче». Отсюда видно, что Бетманн Гольвег считает извещение третьих лиц об отмене мандата существенным лишь в том случае, когда они связаны с представляемым лицом особенным, независимым от мандата представителю обязательственным отношением, и что, рассматривая это значение извещения третьих лиц как особенность отмены мандата, он приписывает смерти представляемого лица силу уничтожать безусловно все сделки представителя, заключенные им после смерти первого, независимо от знания или незнания о ней третьих лиц. ——————————— <1> Bethmann Hollweg. Versuche uber einzeine Theile der Theorie des Civilprocesses. С. 194 — 195.
Другой известный юрист, на мнение которого мы уже не раз делали ссылки, Виндшейд не касается прямо разбираемого нами вопроса, но два места из его учебника пандектного права, по которым можно бы было судить о том, как он относится к нему, находятся как будто в противоречии между собою. В § 74 общей части, перечисляя основания, по которым одно лицо получает право заключать сделки от имени другого, и приводя полномочие как одно из таких оснований, Виндшейд говорит, что «полномочие не связывает лицо, давшее его, что оно свободно может быть взято назад и потерять свою силу вследствие смерти или потери дееспособности лицом, от которого оно исходило». Из этих слов, к которым Виндшейд не прибавляет никакого ограничения с целью ограждения интересов третьих лиц, следует заключить, что так как основание договорного представительства заключается в полномочии как таковом, т. е. в определенном объявлении воли лица представляемого, то с изменением или прекращением этой воли должна также прекращаться и всякая возможность представительных отношений. Но в § 411 того же учебника, в отделе учения об обязательственном праве, разбирая способы прекращения договора поручения, Виндшейд говорит, что после отмены поручения препоручитель продолжает отвечать по всем действиям лица, принявшего от него поручение, совершенным им до того момента, когда он узнал об отмене этого поручения, точно так же как наследники препоручителя обязаны вознаградить поручника за все издержки, произведенные им в неведении смерти препоручителя. Кажущееся противоречие между этими словами и положением, провозглашенным в § 74, разъясняется очень просто тем, что, говоря об ответственности препоручителя, Виндшейд подразумевает исключительно внутренние отношения между препоручителем и поручником <1> — отношения, совершенно чуждые для третьих лиц и не имеющие потому ничего общего с представительством, так что положение § 74, по которому действительность актов, заключенных посредством представительства, ставится в прямую зависимость не только от содержания, но и от продолжения представительного полномочия, сохраняет у Виндшейда полную силу и подтверждает высказанное Шлоссманном предположение о разрешении рассматриваемого нами вопроса в духе теории воли. ——————————— <1> Виндшейд. I. Примеч. 1 к § 74 на с. 198.
В этом же смысле, но несравненно определеннее и точнее высказывается и Иеринг, мнение которого мы приведем in extenso. «Насколько участие посредствующего лица, — говорит он <1>, — служит ли им вестник, представитель или лицо, действующее за чужой счет от своего имени (Ersatzmann), могло по римскому праву сопровождаться юридическими последствиями для мандата, настолько римское право требовало, как известно, в виде общего правила, чтобы между поручением и исполнением его существовало полное согласие, и согласие не только относительно содержания, но и относительно продолжения воли манданта в моменте исполнения поручения. Если представитель выходит за пределы поручения или оно отменяется без знания об этом представителя, то юридические последствия, которыми сопровождаются обыкновенно его действия, более не наступают». Отсюда для защиты третьих лиц Иеринг снова умозаключает о необходимости предоставить им против лица представляемого вознаградительный иск, основанный на договорной вине последнего. Оставляя в стороне противоречие, в котором такой иск находился бы с признанием представителя контрагентом по заключаемым им сделкам <2>, так как после такого признания не может быть и речи о договорной вине представляемого, мы скажем по поводу этого иска опять, что, исправляя значительно господствующую теорию, не дающую третьим лицам никакой защиты, он тем не менее не покрывает их интересов и не удовлетворяет всем требованиям справедливости как вследствие трудности вообще доказать так называемый негативный интерес, составляющий предмет всех исков, основанных на culpa in contrahendo, так и вследствие возможного несоответствия между доставляемым ими удовлетворением и действительным ущербом, понесенным третьими лицами <3>. ——————————— <1> Culpa in contrahendo в: Jahrbucher fur Dogm. IV. С. 90. <2> Ср. Там же. С. 55. <3> См. примеч. 86.
Таким образом, мы видим, что важные практические вопросы, связанные с представительным полномочием, решаются в настоящей юриспруденции на основании одного внутреннего момента его, т. е. исключительно на основании внутреннего состояния воли представляемого лица без всякого соображения о третьих лицах, которые, очевидно, должны страдать от невозможности удостоверяться во всякую минуту в том или другом состоянии этой воли. Лучшим доказательством неправильности такого отношения к делу и несообразности его с потребностями гражданского оборота может служить то, что не только новые европейские законодательства, но еще римские юристы решали затронутые нами вопросы в смысле, противоположном современной теории. Мы имеем в Юстиниановом сборнике несколько решений, из которых достаточно сослаться на I. 26, § 1 D., mand., 17, 1, постановляющее, что если кто-нибудь поручит своему должнику заплатить третьему лицу, а платеж производится после его смерти, то должник тем не менее освобождается от своего долга <1>, и на I. 34, § 3 и I. 51 D., 46, 3, постановляющие то же самое относительно отмены поручения, совершившейся без ведома третьих лиц <2>. Этих решений достаточно для составления убеждения в том, что римские юристы не считали смерть представляемого лица и отмену данного им полномочия, когда третьи лица не знали о ней, основаниями для признания прекратившимися обязательственных отношений между ними и представляемым лицом <3>. ——————————— <1> «Si quis debitori suo mandaverit, ut Titio solverit, et debitor mortuo eo, cum id ignoraret, solverit, liberari eum oportet». <2> L. 34. § 3: «Si Titium omnibus negotiis meis praeposnero, deinde vetuero cum ignorantibus administrare negotia mea, debitores ei solvendo liberabuntur»; I. 51: «Dispensatori, qui ignorante debitore remotus est ab actu, recte solvitur: ex voluntate enim domini ei solvitur, quam si nescit mutatam, qui solvit liberatur». <3> Ср. еще I. 11, § 2 — 5 D., inst. act., 14, 3, где говорится, что ограничение или замена полномочия, данного инститору, принимаются во внимание лишь настолько, насколько это ограничение или отмена производятся публично, во всеобщее сведение. Иначе они не производят никакого действия.
Из новых законодательств мы ограничимся указанием на Общегерманское торговое уложение, которое в ст. 54 говорит, что смерть представляемого лица не прекращает прокуры и торгового полномочия, а в ст. 43 объявляет даже недействительным всякое ограничение прокуры на время жизни представляемого. Оно требует, далее, чтобы прекращение прокуры вносилось в торговые регистры (ст. 45), и постановляет ряд правил, которым должны следовать представляемые для ознакомления третьих лиц с содержанием выданных ими полномочий <1>, охраняя этим путем как представляемых против неосновательных требований третьих лиц, когда они находятся в противоречии с известным для них содержанием представительного полномочия, так точно и третьих лиц против произвольной отмены полномочия, когда она совершается без их ведома <2>. ——————————— <1> Thol. Das Handelsrecht. 5-е изд. § 56. С. 186, § 66. С. 213 и сл., § 68. С. 220. <2> Ср. параллельные постановления в art. 2008 и 2009 Code civil и примечания к ним в сборнике Жильберта: Des Codes annotes de Sirey. 11-me Tirage, 1875. 1-er vol. С. 908.
Противоположность между этими постановлениями немецкого закона, вполне отвечающими общественному назначению института представительства, и метафизическим воззрениям на него «ученых» юристов в такой степени очевидна и заключает в себе такое явное осуждение последних, что, обнаружив эту противоположность, мы считаем возможным закончить наш обзор существующих учений о представительстве. Мы коснулись этих учений несколько подробнее других вопросов только потому, что начало общественного интереса выступает в представительстве гораздо заметнее, чем в других институтах гражданского права, почему юриспруденция и не могла здесь игнорировать его так, как она игнорирует это начало в других учениях. Допустив же его в учении о представительстве, она, к сожалению, не порвала с теорией воли и другими традициями индивидуалистического миросозерцания, вследствие чего мы встречаемся в этом учении с такими противоречиями и с такой путаницей понятий, как ни в одной области гражданского права. Эти противоречия и путаница происходят, естественно, от влияния двух противоположных миросозерцаний на один и тот же вопрос, состояние которого мы можем на этом основании назвать переходным и отнести все колебания и противоречия на счет неудобств, неизбежно связанных с таким состоянием. Примеры заключения договоров без наличности консенса. В заключение нашей характеристики господствующей теории договора, по которой основанием его обязательности считается согласное объявление воли участвующих в нем лиц, мы приведем еще несколько случаев, в которых возникновение договорных отношений несомненно несмотря на полное отсутствие такого согласия воль. 1. Кто заключает договор с учреждением, объявившем об условиях своего вступления в договоры посредством опубликования своих статутов, устава и других исходящих от него актов, также — посредством газет, тот, по общему признанию, связывается этими условиями независимо от того, знал он их или нет и предполагал ли договариваться на этих условиях или на других. 2. В Германии существует обычай пред началом публичного аукциона знакомить собравшуюся публику с особенными условиями продажи. Если кто-нибудь приходит на аукцион позднее и принимает в нем участие, не зная ничего об особенных условиях продажи, он не имеет права ссылаться впоследствии на такое незнание <1>. ——————————— <1> См.: Bahr. Ueber Irrungen beim Contrahiren в: Jahrbucher f. Dogm. XIV. С. 402, 403.
3. Кто выдает кому-нибудь общее полномочие, например, на ведение судебного дела, тот обязывается по всем действиям своего поверенного, не выходящим за пределы полномочия, если они даже и противоречат данному ему впоследствии поручению <1>. ——————————— <1> См. наше изложение представительного положения и цитированные статьи немецкого Торгового уложения.
4. Кто подписывает какой-нибудь документ, тот принимает на себя все заключающиеся в нем обязательства, и высшие немецкие суды решали не раз, что его возражение о незнании содержания подписанного документа не должно иметь никакого значения <1>. ——————————— <1> Сборника Зейферта (Archiv f. die Entscheidungen) у нас нет под рукой, но, по указанию Бера в цитированной выше статье (примеч. 3 к с. 403), мы сошлемся на: Bd. VIII. N 26; XIV. N 16; XXIV. N 230, 29, 229.
Ни в одном из приведенных случаев, ряд которых можно бы было умножить до бесконечности, не видно, чтобы лицо, обязывающееся по договору, имело волю на заключающееся в нем обязательство, и понятно, что фикция воли, предложенная для этих случаев Бером <1> с в целью привести их в согласие с господствующей теорией, не может сделать существующим то, что не существует, и внести волю туда, где ее в действительности нет. ——————————— <1> Jahrbucher f. Dogm. XIV. С. 400 — 406.
Из всего предшествующего изложения следует, как нам кажется, сделать необходимый вывод о несостоятельности господствующей теории гражданского права, доказывать которую дальнейшими доводами не представляется никакой нужды. Нам остается только соединить результат, добытый анализом этой теории, в несколько общих предложений. Общий результат критики современной теории гражданского права. Господствующее в юриспруденции направление характеризуется индивидуализмом, который лежит как в точке отправления, так и в частных отношениях его к различным институтам гражданского права. Эта точка отправления может быть ближе охарактеризована как атомистическое представление о личности как таковой, т. е. личности, заключенной в самой себе и мыслимой вне связи с обществом, в котором она живет. В этой личности, изолированной от всего окружающего мира и проявляющейся в ее воле, лежит, по представлению господствующей теории, источник, основание и цель всех гражданских прав. В применении к частным вопросам гражданского права индивидуализм господствующей теории приводит ее или к крайне несправедливым результатам, стоящим в противоречии с требованиями жизни и гражданского оборота, или заставляет ее в отдельных случаях отрекаться от своей основной точки зрения и постановлять решения, согласные с требованиями жизни, но противоречащие теории воли, которая, несмотря на это опровержение, продолжает свое господство. Примеры противоречия господствующей теории с требованиями справедливости мы видели в учении о собственности, в определении понятия обязательственного права, в учении о заблуждении и отчасти в теориях цессии обязательственных прав и представительства в гражданском праве; примеры же отступления господствующего учения от принципа воли мы видели в теории притворных и несерьезных сделок и также в некоторых вопросах теорий цессии и представительства, в которых господствующий взгляд должен был оставить индивидуалистическую точку отправления и перейти к общественному представлению гражданских прав.
II. Общественная теория права
Разбор теории права Иеринга. Неудовлетворительность результатов и непоследовательность господствующей догмы гражданского права с началами, положенными ею же в основание своего учения, вызвали наконец в последние два десятилетия против нее реакцию, во главе которой стал Иеринг — самый светлый и даровитый из всех современных нам юристов. В лучшем и известнейшем из своих сочинений «Дух римского права», открывшем новую эпоху как в исторической, так и в догматической разработке права, Иеринг восстал со всей энергией, к которой он был способен, против господствующей в юриспруденции теории воли, выразив результат своей общей, но блестящей критики этой теории в следующих словах: «Воля не есть цель и двигательная сила прав; понятие воли и власти не в состоянии привести к практическому пониманию прав» <1>. Право как продукт народной жизни, образующийся путем борьбы между различными элементами этой жизни с целью установления норм человеческого общежития, «существует не для того, чтобы осуществлять идею абстрактной правовой воли, а для того, чтобы служить интересам, потребностям и целям гражданского оборота». Отсюда Иеринг выводит, что «понятие права составляется из двух моментов: одного — субстанционального, лежащего в его практической цели, т. е. в пользе, выгоде, доставляемой правом, и другого — формального, который относится к означенной цели права как простое средство и заключается в защите права — в «иске». Следовательно, «понятие права основывается на юридической обеспеченности пользования, права суть юридически защищенные интересы» <2>. Таков в общих чертах взгляд Иеринга на право, проводимый им в сочинении «Дух римского права». Мы не можем не признать огромного преимущества этого взгляда перед господствующей теорией права — преимущества, заключающегося главным образом в том, что вместо абстрактного начала воли Иеринг основывает право на интересе, которому оно предназначено служить, вследствие чего право из бледного и мертвенного образа, носящего на себе все следы метафизического происхождения, обращается у него в здоровое и жизненное понятие, находящееся в полной гармонии как с историей образования права, так и с целью его — служить потребностям общежития. Отдавая заслуженную дань этим достоинствам взгляда Иеринга, мы должны, однако, сделать против него два существенных возражения. ——————————— <1> Geist des Romischen Rechts III. 1. 2-е изд. С. 327. <2> Там же. С. 326 — 328.
1. Иеринг определяет право посредством двух совершенно различных между собою понятий, из которых одно исключает другое. Если право есть «юридическая обеспеченность пользования», то оно не может быть в то же время «юридически защищенным интересом», и наоборот <1>. Понятия интереса и обеспеченности его вовсе не тождественны: то, что составляет интерес, не может вместе с тем называться обеспеченностью, или «самозащитой интереса» <2>, точно так же как дом, обведенный для безопасности оградой, и эта ограда, охраняющая безопасность дома, нетождественны между собою, а представляют два различных предмета, которым должны соответствовать такие же различные понятия. Следовательно, из двух определений: «право есть юридическая обеспеченность пользования» и «права суть юридически защищенные интересы» — правильным может быть признано только одно, а не оба вместе, и если бы мы были поставлены в необходимость принять во что бы то ни стало одно из этих определений, то мы, не колеблясь, остановились бы на первом, так как оно не отождествляет понятия права и интереса, которые часто расходятся между собою, и выражает ясно ту мысль, что право никогда не бывает целью для самого себя, а служит всегда средством обеспечения настоящего или будущего пользования. Если бы другое определение Иеринга было только менее точным выражением этой же мысли, то мы не настаивали бы на нашем возражении, но Иеринг, по справедливому замечанию Тона <3>, останавливается на определении права в смысле интереса, защищенного иском, как на окончательном, делает из него точку отправления для своего последующего изложения и приходит с помощью его к таким выводам, что пользование защищенным благом есть отправление права, что право не только обеспечивает, но и дает пользование <4>. ——————————— <1> Если Виндшейд, возражая Иерингу, говорит (Pand. I. § 37. С. 92 (примеч. 2)), что «право никогда не может защищать интерес как таковой… оно защищает всегда только волю, направленную на обладание каким-нибудь благом», то это возражение не имеет значения уже потому, что мы признаем за малолетними и другими лицами, не имеющими воли, гражданские права еще прежде назначения к ним законных представителей. Кроме того, мы знаем, что защита права продолжается часто несмотря на явное отсутствие воли, направленной на обладание благом, а иногда — даже против этой воли. Так, например, в силу дотального права муж остается собственником отчужденной им земли, когда она принадлежит к приданому его жены, даже в том случае, если он не хочет этого; удержание, пользование и повреждение этой земли запрещены третьим лицам после ее отчуждения так же, как это было запрещено им и до него. Точно так же должник, кредитор которого не хочет принять от него должной ему суммы, остается должником и продолжает, следовательно, быть обязанным до самого представления должной им суммы в суде (см.: Thon. Rechtsnorm und subjectives Recht. С. 220, 221). <2> Geist des rom. Rechts III. 1. С. 839. <3> Thon. Цит. соч. С. 219. <4> Geist. Там же. С. 334 — 335.
Неправильностью этих выводов, полученных благодаря отождествлению понятий права и интереса, мы можем лучше всего доказать неправильность такого отождествления. Признавать всякое пользование, дозволенное правом, отправлением последнего — значит становиться в противоречие с понятием юридической нормы, заключающем в себе, как известно, повеление или запрещение, но никак не простое дозволение. Все, что не запрещено, должно считаться юридически дозволенным не в силу какого-нибудь особого субъективного права, а в силу того только, что оно не запрещено. Это положение прямо вытекает из того, что мы знаем о пределах свободы человека, лежащих в условиях его организации и в предписаниях права, вне которых, т. е. всюду, где право ничего не повелевает и ничего не запрещает, человек должен быть признан юридически свободным в своих действиях. Другими словами, мы думаем, вместе с Тоном <1>, что все объективное право состоит из одних повелений и запрещений, и полагаем, что наш взгляд нимало не опровергается существованием норм, предоставляющих частным лицам право вступать в брак, право писать завещания, заключать всякого рода сделки и пр., так как эти последние нормы не заключают в себе собственно никаких самостоятельных положений права и могут быть всегда путем внимательного анализа сведены к настоящим юридическим нормам, состоящим из повелений или запрещений. Дозволение вступать в брак, в сделки и пр. представляет собою, как говорит Тон <2>, не юридическую норму, а лишь «условие для наступления или прекращения в данном случае действия какой-нибудь нормы, заключающей в себе предписание». Для уяснения вопроса воспользуемся примерами, приводимыми Тоном в подтверждение своей мысли. В положении «всякий имеет право завладеть бесхозяйной вещью» нет юридической нормы, потому что нет самостоятельного положения права. Что касается факта завладения, то он не зависит от дозволения права. Он может совершиться без него и быть невыполнимым несмотря на такое дозволение. Поэтому значение приведенного положения может быть найдено только в юридических последствиях, связанных с действием завладения. Если бы объективное право не признавало последствием его ни приобретение владения, ни приобретение собственности, то разбираемое положение потеряло бы всякое значение. Если же право признает за завладением какие-нибудь юридические последствия, например приобретение собственности, тогда положение о дозволенности завладения бесхозяйной вещью вступает в непосредственную связь с предписаниями, касающимися собственности, и делается таким образом условием применимости к случаю завладения тех же норм, которые действуют относительно других случаев приобретения права собственности. Так же как вступление в силу известной нормы, и прекращение ее действия может зависеть от какого-нибудь дозволенного правом действия, как, например, прекращение права собственности зависит от оставления вещи — дереликции. Положение, что собственник может бросить, дерелинквировать свою вещь, не значит, что он имеет на это право. Дереликция есть действие, зависящее исключительно от воли собственника, потому что, учит господствующая теория, собственность как полнота права над вещью вмещает в себя и возможность дереликции, а по нашему мнению, просто потому, что это действие не запрещено. Без признания права дереликции собственник сохранил бы, несмотря на дереликцию вещи, свое право собственности на нее. Признание же дереликции заключает в себе вместе с тем объявление, что с совершением ее теряют силу все предписания, относящиеся к праву собственности; другими словами, дереликция является условием прекращения норм, имеющих применение к праву собственности. Точно так же дозволение цессии обязательных прав есть не что иное, как установление условия, с наступлением которого должник становится к цессионарию в такие же юридические отношения, в которых он стоял к цеденту. ——————————— <1> Thon. Там же. С. 8 и сл. <2> Там же. С. 346 и сл.
Из приведенных примеров явствует, что нормы, не заключающие в себе, по-видимому, никакого обязательного предписания, пользование которыми предоставлено полнее свободе человека, получают юридическое значение лишь в связи с нормами, имеющими принудительный характер, который составляет таким образом отличительное свойство всякой юридической нормы. Противоположный взгляд приводит к последствиям, недопустимость которых совершенно опровергает его. Если бы одной дозволенности действия было достаточно для того, чтобы сообщить ему характер права, и если бы пользование каким-нибудь благом в форме различных дозволенных действий было отправлением права, тогда пришлось бы признать бесчисленное множество прав, истекающих прежде всего из права личности «на жизнь и функцию, в которых она выражается» <1>, как, например, право на сон, на труд, на прогулку и пр. Тогда мы всякое утро начинали бы день с отправления прав, потому что всякое дозволенное действие, в котором выражалась бы жизнь нашего организма, было бы отправлением права. Таким же отправлением права было бы всякого рода воздействие собственника на свою вещь: обрабатывание им своего поля, езда его на своей лошади и пр., — и так как, предпринимая эти действия, он в силу рассматриваемой нами теории отправляет свое право собственности, то за ним должна быть признана возможность постоянного обращения к государственной власти за тем, чтобы она не только защитила его от противозаконных действий неуправомоченных лиц, но и вообще доставила ему возможность обрабатывать свое поле и ездить на лошади. ——————————— <1> Виндшейд. § 39. С. 94; ср.: Арндтс. Pandecten. § 24 (Anm. 2).
Другую аномалию оспариваемого нами взгляда представляет положение малолетних и вообще недееспособных лиц. С самого рождения за ними признаются права личности и собственности. В силу первого из этих прав они должны иметь право на жизнь и ее «функции», в силу второго — право пользоваться, разрушать вещи, принадлежащие им на юридическом основании собственности. Между тем закон отказывает им в способности воли и в возможности отправления принадлежащих им прав. Отсюда следует, что опекуны и попечители должны быть лицами, призванными к отправлению этих прав, вместо подопечных. Но дышать и чувствовать для последних они не могут; к пользованию же их собственностью они, конечно, способны, но такое пользование явно противоречило бы интересам подопечных и цели, с которой установлен институт опеки. Чтобы примирить это противоречие, говорят обыкновенно, что подопечные имеют права личности и собственности (они живут и пользуются своей собственностью), но без отправления права, к которому они неспособны. Выходит, что их жизнь и собственность иные, чем у лиц дееспособных: одни и те же действия являются у одних отправлением права, у других — нет. Наконец, признание пользования отправлением права ведет еще к такому резкому противоположению права и нравственности, которое ничем не может быть оправдано. Область права, несомненно, уже области нравственности, потому что она ограничена определенными целями существования человека в обществе, тогда как правила нравственности захватывают человека со всех сторон его духовной жизни, и потому вся совокупность этих правил никогда не может быть возведена в соответствующие предписания права. От этого юридически запрещенных действий бывает всегда меньше, чем действий, осуждаемых с точки зрения нравственности. Ограждая личность и собственность человека, право запрещает лишь такие действия, которые нарушают пользование этими благами видимым, ощутительным для всех образом и с опасностью для общего блага. Но за чертой этих действий мы встречаемся с целым рядом других действий, к которым право относится индифферентно, т. е. не запрещает и терпит их, несмотря на предосудительный характер этих действий с точки зрения нравственности и на то, что пользование правами личности и собственности выступает в них в таком извращенном виде, что юридическая защита их противоречила бы идее и цели права. Приведем для примера самоубийство там, где оно не сопровождается никакими юридическими последствиями, расточительство, скаредничество, разрушение собственником своих вещей и другие действия, не запрещенные законом, на которых, однако, никто не основывает право на самоубийство, скаредничество и пр. Таким образом, мы видим, что взгляд на пользование как на отправление права приводит, во-первых, к признанию права на различные действия в силу одной только дозволенности их, что, как было показано, противоречит понятию юридической нормы, и, во-вторых, к признанию прав на безнравственные действия, что также несогласно с идеей права, требующей защиты лишь таких действий, в возможности вынудить которые с помощью государственной власти заинтересовано все общество и которые уже поэтому не могут быть безнравственными. Отсюда видно, что пользование нельзя считать отправлением права, а если пользование не есть ни отправление права, ни само право, то им не может быть и интерес, заключенный во всяком пользовании и обусловливающий его. Другими словами, так как пользование всяким благом предполагает непременно интерес в этом пользовании, без которого последнего вовсе бы не было, то очевидно, что понятие интереса должно быть так же отграничено от понятия права, как и понятие пользования. Но, отдаляя эти понятия, не нужно забывать, что на начале интереса, личного и общественного, покоится вся социальная жизнь человека и что право как одно из выражений этой жизни не может иметь другой цели, чем служение интересам личности и общества. Следовательно, если пользование личными и имущественными благами и связанные с ним интересы и не образуют еще собою понятие права в смысле его содержания, то во всяком случае имеют для него важное значение, так как представляют собой цель права. Рассматривая, таким образом, интерес как начало, выражающее цель права, а не его содержание, мы вовсе не умаляем значение его для последнего и вполне признаем важную заслугу Иеринга, открывшего это начало в понятии права. Скажем более: мы думаем, что если право существует для того, чтобы служить интересам личности и общества, то оно должно находиться в прямой зависимости от них — определяться этими интересами в своем содержании и в пределах своего действия. Как скоро нет интереса вообще или даже интереса, заслуживающего защиты, нет и права, имеющего в виду защиту интересов и более ничего. Как на пример интересов, оставляемых без защиты, мы можем указать на случаи, в которых, несмотря на возможность со стороны отдельного лица дальнейшего пользования каким-нибудь благом, право лишает это пользование своей защиты, если оно не осуществляется в продолжение известного промежутка времени. Здесь, видимо, право не хочет ограничивать свободу всех в пользу свободы одного лица, которое не пожелало обратить в действительность предоставленную ему возможность пользоваться и потому теряет право мешать этому пользованию со стороны других лиц <1>. В этих случаях право защищает общественный интерес, с которым расходится интерес лица, имевшего возможность пользования, но не воспользовавшегося ею, почему интерес этого лица и признается не заслуживающим защиты; в других случаях право защищает такие интересы отдельных лиц, с которыми безусловно сходятся интересы всего общества, но всегда и везде право, как говорит Иеринг, имеет дело с интересами, которые и оказывают поэтому решительное влияние на содержание и продолжение прав. Вследствие такого важного значения начала интереса для права оно, конечно, должно быть введено в определение права, но лишь в виде момента, выражающего его цель, но никак не содержания, заключающегося не в интересе, могущем существовать, как мы видели, ранее права и совершенно независимо от него, а только в защите этого интереса от посягательств посторонних лиц. Ошибка, на которой мы настаиваем в определении права Иерингом, состоит именно в смешении интереса как цели и права как средства обеспечения этой цели, которое потому уже, что оно есть средство, не может быть тождественно с целью и определяться так, как определяется цель. Неправильность этого смешения мы показали выше на последствиях, к которым оно приводит и которые не могут быть допущены. Определяя же право как средство защиты и обеспечения интереса, мы избежим этих последствий и придем к результатам, согласным с понятием юридической нормы и с положением, которое занимает право в действительной жизни. Как скоро сущность права будет признана не в интересе, а в защите его, то права личности будут состоять уже не в отдельных проявлениях последней, а в совокупности приказательных норм, обеспечивающих неприкосновенность личных благ человека; правом личности будет не употребление, которое она делает из своих физических и духовных сил, а защита их извне, возможность воспользоваться для ограждения своей неприкосновенности определенной юридической нормой посредством обращения к государственной власти — посредством иска. Точно так же в вещных правах не пользование вещью со стороны управомоченного лица будет содержанием его права, а защита этого пользования государственной властью, возможность осуществить юридическую норму, которой устраняются препятствия, противополагаемые этому пользованию другими лицами <2>. ——————————— <1> На этой мысли основаны институт давности и постановление римского права в с. 8 С., 11 — 58, по которому собственник после двухлетнего невозделывания своей земли лишается на нее собственности в пользу возделывателя, и в I. 52, § 10 D., 17, 2, где говорится, что соучастник в общей собственности лишается своей доли собственности в пользу другого соучастника, если он в течение четырех месяцев не вознаградит последнего за издержки, произведенные им на общее здание. <2> Ср.: Тон. Цит. соч. С. 288 — 324.
Из предшествующего изложения видно, что, оспаривая определение права в смысле интереса, мы как бы принимаем другое определение Иеринга, по которому право есть «юридическая обеспеченность пользования». Мы находим в нем действительно оба существенных момента права: цель и содержание его, которые поставлены при этом и в правильное соотношение между собою, так что мы и остановились бы на этом определении права как на единственно правильном, если бы оно не давало место другому возражению, к которому мы теперь и переходим. Установление общественной теории права. 2. В определении «право есть юридическая обеспеченность пользования» опущен важный момент, без которого невозможно представить себе никакого права. Этот момент заключается в факте сосуществования многих лиц, в обществе, составляющем первое и необходимое условие для образования и действия права. Вне общества, в изолированном состоянии человека, понятие права было бы лишено всякого смысла. В этом состоянии человек имеет одни только потребности, которые он удовлетворяет собственными средствами. С развитием человека и увеличением его потребностей собственные средства оказываются уже недостаточными для удовлетворения последних, и это несоответствие между потребностями и средствами к их удовлетворению заставляет людей соединяться в общества, которые доставляют им возможность лучшего удовлетворения их потребностей. Зависимость, в которой находятся между собою люди в отношении удовлетворения своих взаимных потребностей, выражается, таким образом, в соединении их в общество, где потребности каждого ограничиваются потребностями всех и право является не чем иным, как формой, в которой обнаруживается результат этих компенсированных потребностей. Отсюда следует, что существование общества и ограничение удовлетворения потребностей одного лица потребностями всех других членов общества, или, иначе, ограничение личного интереса интересом общественным, составляет существенную часть понятия права, которая никак не может быть исключена из его определения. Мы не отрицаем, что все положения права, каково бы ни было их содержание, относится ли оно к защите личных или вещественных благ человека, и к какой бы отрасли права они ни принадлежали — к гражданскому, уголовному или публичному праву, мы не отрицаем, что все эти положения права имеют конечной целью человека и его интересы <1>. Исходя от человека и служа выражением его потребностей, право, естественно, обращается со своими предписаниями только к нему <2>, но мы видели, с другой стороны, что право предполагает существование общества, без которого оно немыслимо, а потому мы думаем, что право не может быть охарактеризовано возможностью удовлетворения потребностей отдельного лица как такового, мыслимого вне связи его с обществом. Если право образуется только при условии общественности, то, очевидно, момент общественности должен войти как безусловно необходимый в понятие права, и основанием его должен быть признан человек уже не как самостоятельная единица, а как член высшего единства — общества. Принимая же общество за основание права, необходимо видеть и цель его не в интересах отдельного лица как такового, а в интересах общественных и содержание — в защите не интересов личности, а опять-таки интересов общества, которое в конечном результате будет субъектом всех прав. Заметим, однако, для устранения возможных недоразумений, что, называя общество субъектом права, мы употребляем последнее выражение не в его техническом смысле, в котором всякое лицо и учреждение, обладающие признанной законом способностью иметь волю или отправлять ее, называются субъектами прав. Такими особенными субъектами внутри общества являются отдельные лица, государство, церковь, различные учреждения, но эти субъекты — искусственные и обязанные своим происхождением исключительно соображениям техники права, с точки зрения которой нельзя не признать пользы распределения громадного материала, представляемого всей совокупностью правовых норм, между несколькими, искусственно созданными центрами. Приурочивание различных положений права к тем или другим из этих центров совершается при этом по чисто внешним мотивам, как, например, по соображению о том, в какой форме своего существования человек является целью различных правоположений: как частное лицо, как член государства, церкви, учреждений — и по другим, таким же формальным соображениям. В сущности же, мы видим, что всякое правоположение, как бы ни назывался его субъект, служит человеку и имеет его своей целью, а так как это служение права человеку возможно только при посредстве общества, ограничивающего начало личности, то понятно, что конечным субъектом права в смысле цели, которой оно служит, должно быть признано общество, а не отдельное лицо, получающее свои права от общества, когда оно находит предоставление их личности нужным или полезным для себя <3>. ——————————— <1> Мысль, что человек есть конечный субъект права, мы находим выраженной еще в римском праве: «Cum igitur hominum causa omne jus constitutum sit» (I. 2 D., de st. hom., 1, 5; ср. также: § 12 J., de jure nat., 1, 2). Один из римских юристов, Гай, переносит эту мысль даже на природу и говорит наивно, что природа производит все ради человека: «omnes fructus rerum natura hominum gratia comparaverit» (I. 28, § 1 D., de us., 22, 1). <2> Если право принимает на себя иногда защиту животных, то это вовсе не противоречит положению, высказанному в тексте, а доказывает только, что общественные интересы, которым служит право, не следует ограничивать одними материальными интересами, что интерес, представляемый данной юридической нормой, может заключаться также в удовлетворении одного чувства справедливости согласно с представлением о нем данного времени и места. <3> Ср.: Иеринг. Zweck im Recht. С. 453 — 457.
Таковы мысли, к которым приводит неминуемо принятие в понятие права момента общественности. Противоположный же взгляд, отправляющийся от начала личности и видящий в нем, а не в общественном интересе основание и цель права, составляет, как мы знаем, господствующую ныне теорию гражданского права, к которой мы можем не возвращаться, так как в первой части нашего введения мы показали с достаточной обстоятельностью, к каким несообразным последствиям она приводит. Мы должны сказать только по поводу определения права Иерингом, что опущение в нем начала общественности вовсе не имеет того значения, как у юристов, придерживающихся господствующего взгляда. Этот взгляд мы охарактеризовали выше как индивидуалистический, потому что преобладание в нем начала личности над началом общественности составляет не простую случайность, а основной принцип и коренной недостаток всей теории права, исходящей исключительно из начала личности. Между тем в опущении момента общественности Иерингом при его определении права нельзя видеть ничего, кроме простого логического промаха и ошибки в определении, так как, прежде чем сказать о праве, что оно представляет «юридическую обеспеченность пользования», Иеринг говорит, что «права существуют не для того, чтобы осуществлять идею абстрактной правовой воли, а для того, чтобы служить интересам, потребностям и целям гражданского оборота» (см. выше [с. 196]). Из этих слов видно, что точка зрения, с которой Иеринг исследует понятие права, совсем не индивидуалистическая. Он сам же восстает против господствующего взгляда, отправляющегося от личности, и говорит прямо, что право должно служить потребностям и целям гражданского оборота. Следовательно, точкой отправления теории Иеринга является не личность, а общество, несмотря на то что о нем, по недосмотру, и не упоминается в его определении права. Этот недосмотр исправлен Иерингом в его последнем большом сочинении «Zweck im Recht», показавшем снова, что он не только не игнорирует начало общественного интереса в праве, но рассматривает его теперь как основание, цель и критерий всех прав. Первая часть означенного произведения, вышедшая в свет только в конце 1877 г., составляет лишь вступление ко второй, еще не появившейся в печати части, в которой Иеринг предлагает представить научные доказательства своей основной мысли, заключающейся в том, что «цель творит право», проникает его во всех деталях и составляет определяющее начало для всей системы права <1>. Обоснование этой мысли и испытание ее правильности на различных юридических отношениях Иеринг откладывает до второй части своего произведения — первую же он посвящает исключительно установлению самого понятия цели и определению его значения в различных отправлениях общественного организма. С определением Иеринга этого значения можно не соглашаться, так как он, очевидно, преувеличивает его, говоря, что целесообразность в области человеческих действий — то же, что причинность в области физических явлений, что целесообразность составляет для первых закон психологической причинности <2>. Но это несогласие будет иметь чисто теоретический характер и относится к вопросу, который не может быть научно разрешен при настоящем состоянии человеческих знаний, и потому мы не остановимся на нем, заметив только, что, возражая Иерингу против преувеличенного значения, придаваемого им закону целесообразности, можно прийти только к признанию закона причинности человеческих действий наряду с законом целесообразности их и допустить совместное существование обоих законов, так что ни один не исключал бы другого, а этот результат вовсе не опровергал бы основного положения Иеринга, что нет действия без цели, ввиду которой она совершается, и что вне этой цели нельзя представить себе никакого человеческого действия. Это положение он доказывает с полной убедительностью рядом наблюдений и дедукций, изложение которых мы считаем возможным опустить, потому что положение ясно само по себе и подтверждается нашим ежедневным опытом. Но как просто и банально оно ни кажется с первого взгляда, а Иеринг делает из него массу выводов, имеющих чрезвычайно важное значение для учений об обществе, о государстве, о праве, и эти выводы проливают на них совершенно новый свет. ——————————— <1> Zweck im Recht. С. 500 и сл. Motto, предпосланное Иерингом своей книге, гласит: «Der Zweck ist der Schopfer des ganzen Rechts». <2> Там же. С. 4.
Оставаясь в пределах задачи нашего введения, состоящей в выяснении понятия права, мы передадим здесь лишь выводы Иеринга, которые относятся непосредственно к праву, и притом к праву в его материальном, а не формальном значении, хотя исследование последнего стоит в первой части книги Иеринга на первом месте и составляет один из самых важных и больших отделов ее <1>. ——————————— <1> Там же. С. 238 — 426.
Если отношение действия к какой-нибудь цели есть его необходимое условие и целесообразность составляет закон человеческих действий, то жизнь человека должна быть не чем иным, как совокупностью целей, преследуемых им для удовлетворения потребностей своей природы <1>, а так как он не может удовлетворить их собственными средствами, то потребности и образуют собою узел, связывающий человека с обществом <2>, которое является, таким образом, фактической организацией жизни через и для других и поэтому в то же время — необходимой формой жизни и для себя <3>. Гарантией достижения человеческих целей служат обществу, с одной стороны, особенные свойства природы человека, которые заставляют его самого печься о сохранении своей жизни, о продолжении рода и приобретении с помощью труда средств к существованию. Эти действия совершаются людьми под импульсом личного интереса, и несмотря на необходимость их для общества, так как если бы люди перестали трудиться и заботиться о сохранении своей жизни и рода, то общество лишилось бы необходимых для него продуктов труда земледельцев, промышленников и наконец, обезлюдев совершенно, прекратило бы свое существование, итак, несмотря на существенное значение этих действий для сохранения общества, оно, за редкими исключениями <4>, не вынуждает их, полагаясь на могучую силу эгоизма, живущую в человеке и обеспечивающую обществу совершение всех действий, обусловленных эгоизмом. Но, с другой стороны, когда сила эгоизма оказывается недостаточной для произведения действий, постулируемых жизнью человека в обществе, когда эгоизм уклоняется от своего широкого пути, на котором человек свободно жертвует ближайшими выгодами для обеспечения за собою важнейших, хотя и более отдаленных благ, связанных с общественной жизнью и требующих в интересе каждого же отдельного лица ограничения его притязаний и жертв в пользу общества, когда эгоизм сходит с этого широкого пути на другой — узкий — путь, став на который человек преследует только свои непосредственные интересы в ущерб интересам общественным, которые в конечном результате совпали бы с его же личными интересами, если бы только он возвысился до правильного понимания их, в этих случаях общество, исполняя свою задачу, обеспечивая благо всех составляющих его членов, прибегает к принуждению как к средству вынудить у человека действия, необходимые как для общества, так и для него самого, — действия, совершение которых общество гарантирует, таким образом, принадлежащей ему властью принуждения. Общество, рассматриваемое со стороны обладания такой организованной властью принуждения над своими членами, есть государство, являющееся с внешней стороны не чем иным, как аппаратом этого принуждения, а положения, по которым совершается отправление принудительной власти общества, составляют право, представляющее собою, таким образом, по новому определению Иеринга, «систему общественных целей, обеспеченных принуждением» <5>, а так как властью принуждения обладает одно государство, то оно и будет единственным источником права <6>. Исследовав затем значение начала принуждения в общественном организме, показав, как оно необходимо требуется жизнью человека в обществе, начиная от самых грубых проявлений целей индивидуального существования и кончая самыми сложными формами общественных целей <7>, показав, далее, как самое право возникает из власти сильного над слабым, причем первый в собственном же интересе ограничивает свою власть, а второй находит в этой ограниченной и дисциплинированной власти также средство к удовлетворению своих потребностей <8>, выяснив, наконец, как право обеспечивает постоянный перевес силы на своей стороне, пользуясь формой ассоциации, совокупность членов которой и совокупные интересы этих членов всегда будут превосходить силы и частные интересы каждого из ее членов в отдельности <9>, Иеринг переходит, наконец, к анализу содержания права, имеющему для нас особенную важность. ——————————— <1> Там же. С. 63. <2> Там же. С. 106. <3> Там же. С. 95. <4> См. ниже [сн. 1 на с. 209]. <5> Там же. С. 240. <6> Там же. С. 319. <7> Там же. С. 238 — 288. <8> Там же. С. 246 — 255. <9> Там же. С. 289 — 296.
Принудительность предписаний права говорит нам только, что общество заставляет своих сочленов совершать некоторые действия, но какие это действия и почему общество ставит под охрану принуждения одни действия, а не другие, разрешить эти вопросы можно только определением содержания права, которое, как и всякое действие, обусловлено целью. Итак, кардинальный вопрос, в решении которого лежит ключ к правильному пониманию права и к определению значения его для общества, состоит в том, какие именно цели право обеспечивает принуждением. Ответ на этот вопрос вытекает непосредственно из понятия действия, которое Иеринг еще в начале своей книги <1> определяет как «осуществление условий существования действующего лица», почему право, предполагающее общество и существующее через и для общества, должно быть также определено как «обеспечение условий жизни общества в форме принуждения» <2>. Но что нужно понимать под этими условиями жизни общества? Понятие их относительно и определяется тем, что принадлежит к жизни, состоящей не из одного физического бытия, а также из других благ, каковы честь, семья, знание, придающие жизни ее настоящую цену. Отношение человека к этим благам постоянно изменяется, так как условия его жизни вообще находятся в процессе постоянного развития, свидетельствуемого историей, а потому понятно, что они стоят в прямой зависимости от культуры народов, различным состояниям которой соответствует и различное отношение к ним права. Таким образом, разнообразное содержание права у различных народов и на различных ступенях их развития объясняется тем, что оно обеспечивает условия их жизни, которые заключаются в действиях, почему к ним и должен прилагаться только масштаб целесообразности, а не истины, имеющий место в познавательной, а не в практической деятельности человека, направленной всегда к цели, способной изменяться. Между условиями жизни, необходимыми для общества, Иеринг различает три класса: условия внеправовые, условия смешанно-правовые и условия чисто правовые. Первые составляют физические условия существования человека, зависящие не от него, а от природы, почему право, имеющее власть только над человеком, а не над природой, не принимает в них никакого участия. Второй класс условий состоит из человеческих действий, необходимых для существования общества, но в которые право вообще не вмешивается, потому что они совершаются добровольно, под влиянием личного интереса людей, побуждающего их в то же время действовать и в общем интересе. Сюда относятся три основных условия существования общества: сохранение жизни, рода и способность к труду, которым соответствует столько же основных мотивов, действующих в человеческой природе независимо от предписаний права: чувство самосохранения, половое влечение и противодействие ощущениям голода. Однако эти мотивы не всегда оказываются действительными, как это видно на примерах самоубийства, безбрачия, нищенства, бродяжничества и других противообщественных действий; в этих случаях право вмешивается в условия жизни настоящего класса и вызывает в людях по недостатку естественных искусственные мотивы в виде вознаграждения за произведение полезных для общества действий и наказания за их упущение или совершение действий, угрожающих общественному благу <3>. Тем не менее условия жизни этого класса нельзя называть правовыми, потому что они обеспечиваются не исключительно и даже не преимущественно правом и служат обществу в силу самой организации человека — право же вступается в них лишь восполняющим образом. Совершенно иной характер имеют чисто правовые условия жизни общества, которые обеспечиваются исключительно правом. Для уяснения различия между ними и условиями смешанно-правовыми лучше всего представить те и другие в форме предписаний. ——————————— <1> Там же. С. 38. <2> Там же. С. 434. <3> Сюда принадлежат постановления права против самоубийц, против умерщвления плода, детоубийства; знаменитые в истории римского права lex Julia и Pappia Poppaea времен Августа, исключавшие вполне или отчасти лиц безбрачных и бездетных от участия в наследстве и ставившие их, также в других отношениях, в условия менее благоприятные, чем лиц, находящихся в браке и имеющих детей; далее, насильственные браки между французскими колонистами в Канаде, декретированные Людовиком XIV в интересах увеличения народонаселения, различные льготы, устанавливаемые законодательством в пользу многочленных семейств. Сюда же можно отнести законодательство о стачках, имеющее целью примирить интересы общества с интересами рабочих и личной свободы отдельного лица (см.: Zweck im Recht. С. 447 — 450).
Ни одно законодательство не содержит в себе предписания «Ты должен сохранять свою жизнь, продолжать свой род, трудиться, продавать» и пр., но во всех законодательствах повторяются предписания следующего рода: «Ты не должен убивать, красть и пр., ты обязан платить свои долги, вносить подати, нести военную повинность» и пр. Чтобы убедиться в важности последних предписаний для интересов всех членов, составляющих общество, нужно только подумать, что было бы с обществом, если бы этих предписаний не существовало: тогда никто не был бы уверен ни в своей жизни, ни в своем имуществе, и если бы даже все общество состояло из одних преступников, то и эти последние для ограждения своих взаимных отношений потребовали бы соблюдения тех же предписаний, с которыми государство обращается к своим членам <1>. Итак, все положения права, по мнению Иеринга, имеют целью обеспечение жизненных интересов общества, требующих охраны власти; все право существует для общества и есть не что иное, как «совокупность условий жизни общества — в их широком смысле, — обеспеченных внешним принуждением» <2>. Таков в общих чертах взгляд на право Иеринга, развиваемый им в своем последнем произведении, и мы всецело примыкаем к нему, хотя и замечаем в изложении Иеринга некоторую нерешительность по отношению к формуле определения права, которую он видоизменяет три раза, называя право сначала «системой общественных целей, обеспеченных принуждением» (с. 240), потом «обеспечением условий жизни общества в форме принуждения» (с. 434) и наконец «совокупностью этих условий, обеспеченных принуждением» (с. 499). Понятно, что обеспечение условий жизни общества — не то же самое, что совокупность этих условий или совокупность общественных целей. Следовательно, способ формулирования Иерингом понятия права в книге «Zweck im Recht» дает место тем же возражениям, которые мы делали ему по поводу такой же двойственности определения права в другом его сочинении. Сущность этих возражений сводилась к тому, что правом следует считать не интересы, служащие его целью, но защиту этих интересов, а потому из трех приведенных выше определений права два не могут быть признаны правильными, потому что они полагают сущность права не в защите, а в самых целях и интересах, подлежащих защите. Свободным от этого упрека, равно как и от других, сколько-нибудь серьезных возражений <3>, остается только то определение Иеринга, по которому «право есть обеспечение условий жизни общества в форме принуждения», и мы принимаем его как единственно возможное и правильное определение права, потому что в нем соединены в одно целое все три существенных признака, характеризующих понятие права: общественный интерес как точка отправления и основание права, обеспечение и защита как содержание его и, наконец, принудительность как форма выражения и осуществления права. Из этих признаков, составляющих собою понятие права, мы обращаем особое внимание на общественный интерес, потому что он игнорировался до сих пор большинством юристов. Кроме того, он самый существенный из всех признаков права, так как представляет собою его основание и обусловливает общественный характер всех прав. Значением общественного интереса в праве объясняется то, что все права, если даже они имеют ближайшей целью отдельное лицо, обеспечение его частных интересов, испытывают на себе тем не менее влияние общества и подвергаются ограничениям, налагаемым на них соображениями об общественном интересе. Они связаны этими соображениями, и нет такого права, о котором человек мог бы сказать, что он имеет его исключительно для себя, что общество не может ограничить его. Общество или закон, представляющий его интересы, стоит всегда, как говорит Иеринг <4>, подле индивидуума и является всюду соучастником того, что он имеет, — соучастником в его личности, в его рабочей силе, в его делах, имуществе, так что право выражает собою идею постоянного совместничества личности и общества. Такое важное значение общественного интереса для понятия права раскрыто впервые, сколько нам известно, Иерингом, и поэтому мы должны считать его творцом новой теории права, которая, в противоположность индивидуалистической, может быть названа общественной теорией права. Установление ее составляет, по нашему мнению, такую заслугу великого юриста, которая далеко оставляет за собою все другие, также немаловажные, нововведения и открытия, сделанные им в области истории и догмы римского права. Но общественная теория права установлена Иерингом в первой части его «Zweck im Recht» дедуктивным способом исследования, который в этой первой части не доведен еще до своего заключительного и самого важного акта — проверки добытых выводов на фактах действительной жизни. Применение новой теории к институтам, действующим в жизни, сделано Иерингом, и то в общих чертах, только относительно права собственности <5>, но как ни удовлетворительны результаты, к которым он приходит в этом вопросе, мы тем не менее должны для испытания правильности теории Иеринга исследовать, насколько это позволят тесные пределы нашего введения, практические последствия этой теории на различных институтах гражданского права. При этом мы остановимся на тех же институтах, которые мы рассматривали уже при обозрении господствующей догмы гражданского права, для того чтобы иметь возможность сравнить последствия обеих теорий и объявить себя после сравнения в пользу одной из них. Но прежде чем приступить к анализу этих последствий, мы хотим сказать несколько слов по вопросу, который мы уже затронули, но не решили в самом начале нашего исследования. Это вопрос о различии, существующем между гражданским и публичным правом, к которому мы возвращаемся теперь собственно потому, что он имеет существенное значение для выяснения понятия гражданского права и отграничения его от других областей права. ——————————— <1> Там же. С. 450 — 451. <2> Там же. С. 499. <3> Иеринг предвидит некоторые из возможных возражений против своего взгляда и без труда опровергает их (см. с. 437 — 443, 539 — 541). <4> Там же. С. 521. <5> Там же. С. 504 — 518.
Разграничение публичного и гражданского права. Мы видели, что различие между гражданским и публичным правом господствующий взгляд основывает на различии цели, которую преследуют нормы, принадлежащие к тому и другому роду прав: одним присваивается защита исключительно частных, другим — публичных интересов. Понятно, что мы не можем признать правильным такое противоположение публичных интересов частным, так как, рассматривая право с точки зрения общественной теории, нельзя не утверждать, что всякое право, к какой бы специальной отрасли оно ни принадлежало, существует лишь для споспешествования общему благу. Даже право собственности, которое, по-видимому, более всех гражданских прав служит интересам отдельной личности, устанавливается, как это будет показано ниже, не ввиду интересов отдельных собственников, а ввиду общественного интереса, связанного с защитой собственности, которая обеспечивает обществу возможность правильного развития и поэтому имеет для него важное культурное значение. В таком же точно соответствии, в каком находятся интересы отдельных лиц с интересами общества, стоят и интересы общества с интересами отдельных лиц, потому что общество состоит из этих же отдельных лиц и не есть что-нибудь отличное от них. В этом смысле все права будут установлены в интересе отдельных лиц, но опять-таки без всякого различия между публичными и гражданскими правами. Признав такую соотносительность понятий частного и общего интереса, нам могут тем не менее возразить, что связь частных интересов с общим может быть различна. В одних случаях она может быть так тесна, что лишение какого-нибудь блага ощущается всеми членами общества в одинаковой степени, так что оно не может быть отнято у одного из них и оставлено за другими: например, нападение на государственную территорию, преступления против государственного порядка угрожают одинаково благу всех членов государства. Нарушение других интересов, как, например, интересов жизни, свободы, пользования имуществом отдельных лиц, затрагивает общее благо только посредственным образом, так как в этих случаях нарушаются прежде всего интересы их непосредственных носителей, за которыми общественный интерес выступает уже на втором плане. Мы не отрицаем возможности такого различия в степени участия общественного интереса в интересах отдельных лиц, но думаем, что оно не может дать прочного и удовлетворительного критерия для разграничения областей гражданского и публичного права. Опираясь на указанное различие, пришлось бы, с одной стороны, отнести к гражданскому праву нормы, охраняющие жизнь, свободу, честь человека, наравне с другими нормами, направленными на защиту собственности и других имущественных отношений. Утверждать различие между теми и другими нормами с точки зрения частного интереса было бы по меньшей мере произвольно, так как отдельное лицо заинтересовано в охранении своей жизни и свободы никак не менее, чем в охранении имущественных отношений. С другой стороны, пришлось бы причислить к гражданскому праву и все законы, издаваемые в интересах отдельных классов общества или отдельных лиц. Так, например, таможенные пошлины и запрещения ввоза известных продуктов имеют по большей части целью помочь отдельным отраслям промышленности страны, а иногда это покровительство относится даже к определенному предприятию. Если говорить, что государство издает здесь закон в своем собственном интересе, идущем рука об руку с интересами фабрикантов, то относительно таможенных законов такое соображение может быть признано верным не более и не менее, как относительно всякой иной юридической нормы. Таможенный закон, как и всякий другой, служит интересу общества, но он удовлетворяет ему не непосредственно, а через оказание помощи тем отраслям промышленности, в развитии которых заинтересовано все общество. Следовательно, таможенные законы с точки зрения оспариваемого нами взгляда должны бы непременно сделаться источниками гражданских прав для лиц, пользующихся их покровительством. Между тем ни один юрист и ни одно законодательство — по соображениям, о которых мы скажем ниже, — не придавали никогда таможенным законам свойства гражданских и всегда относили их к области публичного права. Итак, различие между гражданским и публичным правом, опирающееся на различия частного и общего интереса, не выдерживает критики, так же как не может выдержать ее никакое иное различие, основанное на соображениях о существе юридической нормы и возможности того или другого содержания ее. Все юридические нормы имеют принудительную силу и все они характеризуются одним и тем же общим признаком — служением общественному интересу, следовательно, различия в этом отношении между ними не может быть никакого. Также малоосновательно различие между публичным и гражданским правом по различию лиц, к которым обращаются юридические нормы. Не все нормы, обязывающие частное лицо, устанавливают гражданское право, так же как не все нормы, обязывающие представителей общественной и государственной организаций, устанавливают публичное право. Положения о воинской повинности и об исполнении обязательств касаются одних и тех же лиц, хотя первое из этих положений относится к публичному, а второе — к гражданскому праву. Следует упомянуть еще об одном, довольно распространенном мнении, по которому характеристическая особенность норм гражданского права, в противоположность со всеми другими юридическими нормами, отличающимися безусловным характером, заключается в том, что они ставят свои предписания в прямую зависимость от воли управомоченного лица. Против этой теории можно сказать прежде всего то, что если некоторые из норм гражданского права и рассчитаны действительно на тот случай, когда управомоченное лицо желает воспользоваться ими, то и в публичном праве встречаются нормы, осуществление которых также находится в зависимости от инициативы частного лица: так, например, обязанность судьи приговаривать должника или вести следствие по преступлению, преследуемому на основании частного обвинения, зависит также от заявлений истца и потерпевшего лица. Оставляя эти случаи в стороне, так как они встречаются в обоих отраслях права и поэтому не могут служить признаком отличия их друг от друга, нужно признать вообще, что нормы гражданского права состоят из таких же безусловных приказаний и запрещений, как и все прочие нормы. Обязательство возвратить деньги, полученные взаймы, или выдать собственнику его вещь находятся вовсе не в зависимости от воли управомоченного лица, так как если это последнее не требует возвращения займа или выдачи вещи, то этим отречением от права не обусловливаются еще обязательства должника и лица, удерживающего чужую вещь, — обязательства, которые возникли ранее права требования кредитора и собственника и продолжали существовать независимо от него. Наглядный пример обязательства, существующего независимо от предъявления иска со стороны управомоченного лица, представляет положение, по которому давность иска на возвращение займа или удерживаемой вещи исчисляется со дня, в который должник обязан был выплатить заем, а владелец — начал свое владение, но вовсе не с того момента, когда заимодавец или собственник возбуждают свои требования <1>. Кроме этого, нужно еще заметить, что если сущность гражданской нормы ставить в прямую зависимость от воли управомоченного лица, то лица, не располагающие в момент правонарушения способностью или возможностью иметь волю, будут лишены всякой защиты права, и к числу этих лиц придется тогда отнести не только детей и сумасшедших, но и людей вполне дееспособных, когда они находятся в состоянии сна или отсутствия. Замена воли этих лиц волей представителя не вполне гарантировала бы их, потому что они во всяком случае оставались бы без защиты во весь период времени, предшествующий установлению представительства, а после этого были бы отданы на произвол своих представителей, которые имели бы полную возможность завладеть их имуществом или не препятствовать завладению им со стороны третьих лиц; при бездействии представителей нарушение норм, охраняющих право собственности, было бы невозможно. ——————————— <1> Thon. Rechtsnorm. С. 118.
Таким образом, мы видим, что различие между гражданским и публичным правом не обусловливается ни качеством интереса, который они защищают, ни положением лиц, к которым они обращаются, ни содержанием норм, которое в обеих отраслях права может зависеть и не зависеть от воли управомоченного лица. Другими словами, между публичным и гражданским правом нет различия по существу, различия материального, основанного на содержании норм того или другого права. Остается, следовательно, признать между ними только формальное различие, обусловленное способом защиты и юридическими последствиями, которыми сопровождается нарушение норм, принадлежащих к публичному и гражданскому праву. Граница между ними представится нам тогда в следующем виде: юридическая норма будет устанавливать гражданское право в тех случаях, когда она предоставит в распоряжение лица, интересы которого она защищает, средство устранить последствия нарушения этой нормы; отличительным признаком гражданского права будет гражданский иск. Гражданскими нормами станут называться, таким образом, нормы, нарушение которых производит иск для лица, против которого оно совершается <1>. Публичными же нормами будут все прочие нормы, нарушение которых или не дает лицам, против которых оно совершается, вовсе никакого права, или дает им публичное право, осуществляемое не иском, а непосредственно государственной властью. Это формулирование различия норм гражданского и публичного права на основании одного формального момента — способа защиты тех и других норм — мы встретили в цитированном уже несколько раз сочинении Тона «Rechtsnorm und subjectives Recht», к которому мы и обращаем читателей, желающих ознакомиться с подробностями вопроса и удостовериться в возможности проведения указанного признака различия через всю систему гражданских и публичных прав <2>. Но первоначальная идея этого различия и первое указание на него принадлежат не Тону, как он сам сознается в этом <3>, а Иерингу, который еще в сочинении «Дух римского права» определял гражданское право как «самозащиту интереса» и доказывал, что критерий гражданских прав, в отличие от всех других, заключается в иске <4>. Эта краткая характеристика гражданских прав, которую мы находим совершенно правильной, имеет для нас особенную важность, потому что дает нам вместе с тем возможность определить точно значение начала воли в гражданском праве. ——————————— <1> Там же. С. 113 и 133. <2> Там же. С. 109 — 222. <3> Там же. Примеч. 57 к с. 133. <4> Ihering. Geist des rom. Rechts III. 1. С. 339, 340.
Выше было показано [с. 195 — 196], что это начало не может быть признано ни исходной точкой, ни целью гражданского права; мы видели также, что по началу воли нельзя определять и понятие гражданской нормы, содержание которой вполне независимо от него [с. 214]. Но если, с другой стороны, гражданские нормы отличаются от всех других норм тем, что лица, находящиеся под их защитой, осуществляют их по собственной инициативе посредством гражданских исков, то понятно, что эта инициатива управомоченного лица, представляющая не что иное, как выражение его воли, не будучи характеристической чертой гражданской нормы относительно ее цели и содержания, делается решительным и отличительным признаком гражданской нормы по отношению к форме ее осуществления. Отсюда следует, что инициатива или воля управомоченного лица получает значение в гражданском праве лишь по нарушении нормы, содержание которой обусловлено целями, не имеющими с этой волей ничего общего. Таким образом, воля, выражающаяся в предъявлении иска, является только средством, которое дано лицам, охраняемым гражданскими нормами, для обращения их к помощи государственной власти. Другими словами, воля выражает способ осуществления гражданских прав и более ничего. Но так как этим способом осуществления гражданское право только и разнится от публичного, то мы можем сказать без страха быть обвиненными в непоследовательности или в преувеличении значения воли в праве, что признаком различия гражданского и публичного права служит различное положение воли в том и другом праве и что в гражданских правах значение начала воли определяется тем, что оно является формой их осуществления. Переходя теперь к проверке и установлению общественной теории гражданского права в применении к отдельным институтам этого права, мы ограничим наш анализ институтами собственности и обязательств как важнейшими институтами гражданского права, результат исследования которых может быть свободно распространен и на другие институты.
III. Испытание общественной теории права на праве собственности
По отношению к праву собственности мы должны доказать следующее положение. Основание права собственности, определяющее вместе с тем его содержание, есть общественный интерес, требующий государственной защиты для пользования отдельных лиц благами, на которые распространяется это пользование, и ограничивающий защиту такого пользования пределами, в которых она согласна с интересами общества <1>. ——————————— <1> Общественное представление собственности, соответствующее положению, выставленному в тексте, мы находим прежде всего в социалистической литературе Западной Европы, указавшей в первый раз на безусловную зависимость экономического положения человека от признанного в данное время в обществе юридического порядка. Тогда как господствующее учение принимало этот юридический порядок за существующий факт, не подлежащий оспариванию и критике, и предполагало, что человек создаст себе сам свое экономическое положение, социализм показал, что личная деятельность человека имеет лишь второстепенное значение в устройстве его экономической судьбы, обусловленной главным образом порядком существующих юридических отношений. Отсюда понятно критическое отношение социализма к существующему юридическому порядку, и в особенности к институту частной собственности, раскрывшее, между прочим, много действительных недостатков господствующего представления о нем. Но, к сожалению, социалистическая литература оставалась постоянно односторонне критической и никогда не обосновывала научно своих положительных требований, отправляясь в своих заключениях от таких же априористических положений, как и господствующее учение, не считаясь никогда с условиями практической жизни и впадая вследствие этого в утопии, не имеющие никакого научного значения. Между юристами мы встречаемся с общественным представлением собственности только у Иеринга, который еще в своем «Geist des rom. Rechts» (I, с. 7) говорил, что «абсолютной собственности, т. е. собственности, свободной от соображений об общественном благе, не существует, и история позаботилась о том, чтобы народы поняли эту истину». Эту же мысль он развивает в своем «Zweck im Recht» (с. 504 — 518). Наконец, общественное представление права собственности, равно как и всех других прав, нашло могучую и вполне научную поддержку в новой школе немецких экономистов, называемых «социалистами от кафедры», между которыми довольно назвать Ад. Вагнера и его «Lehrbuch der politischen Oeconomie», проникнутой от первой страницы до последней сознанием общественного значения права.
Правильность этого положения доказывается главным образом: 1) необходимостью и признанием во всех известных нам законодательствах законных ограничений права собственности независимо от частных соглашений собственников между собою; 2) необходимостью и признанием в тех же законодательствах рядом с институтом частной собственности права государства на экспроприацию частных собственников; 3) существованием экспроприации в тесном смысле гражданского права как основания чисто гражданских прав; 4) правильностью легальной теории обоснования права собственности, подтверждающей в то же время его общественный характер. Законные ограничения права собственности. 1. Необходимость законных ограничений собственности, кроме всеобщего признания их в положительном законе <1>, может быть удостоверена лучше всего посредством следующего приема: допустим на минуту, что собственность существует без этих ограничений, и станем в положение двух собственников, из которых первый, A, распоряжается неограниченно своим правом, а второй, B, претендующий на такую же неограниченность в области своего права, подвергается тем не менее последствиям распоряжений первого собственника — A. ——————————— <1> См. [сн. 4 на с. 164].
Если бы A, владея на праве собственности определенным участком земли, мог внутри него совершать неограниченно все действия, не выходящие в отношении пространства за пределы его собственности, то он имел бы возможность прогнать всех своих соседей, вынудив их к уступке принадлежащих им земель за самую ничтожную плату. Он мог бы устроить у себя бойню, которая, отравляя воздух окрестностей, сделала бы невозможной жизнь для его соседей, или фабрику, которая, распространяя кругом дым и нестерпимый жар, уничтожала бы поблизости всякую растительность и делала немыслимым постоянное пребывание человека в этой местности или угрожала бы вследствие своей опасности целости всех соседних строений; он мог бы, наконец, у самой границы своего участка вырыть глубокую яму, угрожающую ближайшему дому полным разрушением. Предпринимая такие действия, A не выходит в строгом смысле слова за пределы своего неограниченного права собственности; он не совершает прямого посягательства на юридическую сферу B, который страдает только от последствий его распоряжений. Если бы этого обстоятельства было достаточно для признания A свободным от ответственности за означенные выше действия, то B оставалось бы только уступить и удалиться прочь, если бы он со своей стороны не мог ответить на нападение водой и отравлением воздуха защитой огнем или подкопами. Нечего говорить, что такое состояние собственности было бы невозможно, так как постоянная война между соседями должна бы была кончиться гибелью самого института собственности. Станем теперь на точку зрения неограниченного права собственности В. Если бы ему позволить осуществлять все последствия своего — также неограниченного — права собственности, то за ним следовало бы признать и право не допускать, как посягательства на свою собственность, таких последствий действий A, которые распространялись бы на его юридическую сферу. Тогда A не имел бы возможности ни топить своих печей, потому что дым от них переходил бы на участок B, ни держать у себя птиц или пчел, потому что они также могли бы перелетать на землю B, ни разводить у себя деревьев, ибо листья от них могли бы падать на место чужой собственности. Понятно, что при такой замкнутости и заключении собственника в тесные пределы его юридической сферы институт собственности точно так же не мог бы существовать, как и при чрезмерном расширении свободы действий собственника. Из сказанного следует заключить, что понятие неограниченной собственности практически невозможно и невозможно именно потому, что поземельные участки находятся во взаимной связи и в отношении такой тесной зависимости друг от друга, что нельзя представить себе пользование одним из них без одновременного пользования в том или другом виде соседним участком, который, в свою очередь, извлекает пользу от первого. Регулирование этой зависимости, в которой поземельные участки стоят друг к другу, право предоставляет до известной степени добровольному соглашению соседей между собою, устанавливающих на них сервитуты, но только в пределах, указанных законом, который не дает собственникам и в отношении сервитутов полной свободы распоряжения, потому что сервитуты могут чрезмерно обременить собственность, лишить ее всякой ценности и распространить свое действие на третьих лиц <1>. Во всяком случае установление сервитутов находится в зависимости от воли собственников, тогда как пользование землей требует некоторых условий, без которых оно не может обойтись, а потому общество и не оставляет этих необходимых условий, обеспечивающих пользование землей, на произвол частных соглашений, но прямо вынуждает их у собственников, налагая на их собственность законные ограничения. В противоположность сервитутам, рассчитанным на обеспечение тех условий пользования, которые возвышают только индивидуально годность или удобство определенного участка земли и предоставляются поэтому свободному усмотрению частных собственников, законные ограничения собственности рассчитаны непосредственно на обеспечение необходимых для всех собственников условий пользования землей, и потому они обязательны для них независимо от их воли <2>. ——————————— <1> См. чрезвычайно интересное изложение этого вопроса у Иеринга (Geist des rom. Rechts II. Ч. 1. С. 226 — 234). <2> Ср.: Иеринг. Zur Lehre von den Beschrankungen des Grundeigenthumers, Jahrbucher f. Dogmatik VI. С. 96 — 97.
Таково общее значение законных ограничений собственности, и, показав их необходимость для института собственности, нам нет надобности входить в рассмотрение отдельных видов этих ограничений, изложение которых можно встретить во всех учебниках гражданского права <1>. Мы сделаем только по поводу этих ограничений собственности несколько общих замечаний: ——————————— <1> См. в особенности: Виндшейд. Pandecten I. § 169; Безелер. System des gemeinen deutsch. Privatr. I. § 93.
a) факт существования ограничений собственности в силу закона указывает прямо на общественный интерес как на их основание, которое признается как таковое даже юристами, принадлежащими к господствующей теории, только вовсе не принимается ими во внимание при конструкции понятия собственности и разрешении вытекающих из него практических вопросов <1>; ——————————— <1> Безелер. Там же. С. 356; Виндшейд. § 169. С. 520.
b) из существования же и содержания этих ограничений следует заключить, что собственность не дает никаких неограниченных прав защищаемым ею лицам и не только заставляет их терпеть различные формы пользования их собственностью со стороны третьих лиц, из которых (форм) одни не вредят их интересам <1>, а другие прямо противоречат им <2>, но и обязывает собственников к положительным действиям в пользу несобственников, когда этого требует общественный интерес. Доказательства в подтверждение последнего положения, отвергаемого господствующей юриспруденцией <3>, мы приведем впоследствии, когда будем говорить об экспроприации в области гражданских прав <4>; ——————————— <1> Например, пользование видом построенного уже дома или через него; это случаи рефлективного действия права, рассмотренные Иерингом в: Jahrbucher f. Dogmatik X (см. в особенности с. 250 и сл.). <2> Ограничения собственности в силу отношений соседства (см.: Виндшейд. § 169. С. 520 — 524). <3> По аналогии с правилом римского права «servitus in faciendo consistere nequit». <4> Пока мы сошлемся на [сн. 4 на с. 226], где приведены постановления прусского законодательства, которыми прямо признаются ограничения собственника положительными действиями.
c) содержание существующих ограничений собственности в силу закона различно, смотря по различию объектов собственности. Городская собственность облагается ограничениями, вытекающими из условий городской жизни; сельская собственность подвергается совсем иным ограничениям, связанным с особенным назначением ее для хозяйственной культуры, споспешествование которой составляет цель этих ограничений; другие виды собственности, как-то: собственность на леса, на дороги — обложены опять-таки особенными ограничениями в способе пользования и даже распоряжения. Словом, всюду различным объектам собственности соответствует различное содержание ее и различные формы и степени ограничений, обусловленные, естественно, различием экономической функции вещей, служащих объектами собственности, и различным отношением к этим функциям общественного интереса. С относительно ничтожным числом законных ограничений мы встречаемся в собственности на движимые вещи, которую большинство юристов считает обыкновенно неограниченной. Если бы этот взгляд был верен и собственность на движимые вещи действительно не подлежала никаким ограничениям, то приведенные нами соображения об ограничениях права собственности относились бы только к недвижимой собственности и не имели бы доказательной силы относительно собственности вообще. Но мы сейчас увидим, что неограниченная собственность на движимые вещи также не может быть признана, как и на недвижимые. Разница в количестве и в качестве ограничений на тот и другой род вещей, несомненно, существует и объясняется прежде всего природой этих вещей. Движимые вещи имеют индивидуальное существование, они представляют собою такую целостность, что человек может в большинстве случаев пользоваться ими, не затрагивая других вещей, находящихся в чужой собственности. Недвижимые вещи, напротив, не отличаются такой цельностью, и индивидуальное существование указывается им не природой, а волей человека и закона, обращающей ее в объект собственности. Отделение одного поземельного участка от другого, если оно воплощается даже в такие внешние формы, как межа, ров или стена, не уничтожает между ними естественного отношения зависимости и не делает возможным пользование одним из них, без того чтобы оно не было в то же время условием или последствием пользования другим — соседним — участком земли. Отсюда видно, что большинство ограничений недвижимой собственности, вытекающих именно из признания этой взаимной связи между поземельными участками и имеющих, как мы видели, целью обеспечить за ними условия, необходимые для их пользования, не могут распространяться на пользование движимыми вещами, так как оно совершается независимо от других вещей и не требует никаких особенных условий, нуждающихся в покровительстве закона. Пользование движимыми вещами не угрожает обыкновенно обществу никакими опасностями, и потому оно и не подвергается тем ограничениям, как пользование недвижимой собственностью. Если кто-нибудь проматывает свои деньги и принужден прибегнуть к продаже своих вещей, то эти последние меняют только хозяина, но сохраняются для общества, которое не терпит серьезного ущерба от перехода тех вещей из одних рук в другие. Единственная опасность, угрожающая со стороны движимых вещей обществу, заключается в возможности их разрушения, но общество гарантировано достаточно против этой опасности личным интересом собственников и потому также не имеет надобности защищаться от нее силой закона. Эта опасность, говорит Иеринг <1>, может сделаться серьезной только при завещательном переходе движимых имуществ. Возможно представить себе такой случай: какой-нибудь скряга, не любивший никого при своей жизни, делает и на случай смерти такое распоряжение о своих ценных бумагах и других вещах, чтобы они и после него не перешли ни к кому, а были погребены с ним вместе или подвергнуты уничтожению. С точки зрения индивидуалистической и неограниченной собственности такое распоряжение должно быть приведено в исполнение, но Иеринг справедливо восстает против него и приводит решения римских юристов, не признающих завещательных распоряжений этого рода. При этом Иеринг верно замечает, что римские юристы руководствовались в своем решении не какими-либо формальными соображениями, не тем, что завещание давало место только для назначения наследника и для легатов, так как, помимо этих актов, завещатель имел возможность делать и другие распоряжения, а исключительно той мыслью, что приведенное нами завещательное распоряжение противоречит социальному назначению собственности. «Блага этого мира принадлежат людям, а не червям, — восклицает Иеринг, — и эта мысль лежит в основании невозможности, признанной правом, обходиться без наследника: собственность, которую человек теряет вследствие смерти, должна снова достаться людям» <2>. ——————————— <1> Zweck im Recht. С. 509 — 510. <2> «Римляне, — продолжает Иеринг, — вели эту мысль еще далее и говорили, что имущество принадлежит не только людям вообще, но что оно принадлежит только настоящему поколению. Завещатель должен выбрать наследника между лицами, живущими в настоящем, и не может, перешагнув через настоящее поколение, обратить свое имущество будущему. Поэтому недействительно присоединение к акту назначения наследника — dies ex quo: завещатель не может ни лишить, ни стеснить настоящее поколение в его правах… Мертвый не может вредить живому» (см.: Zweck im Recht. Примеч. ** к с. 510).
Кроме этого, ограничения в завещательном переходе, собственность на движимые вещи подлежит еще другим ограничениям, вытекающим из соображений об общественном интересе. Если эти соображения не требуют стеснения в способе пользования движимыми вещами, то они могут обязать собственника к уступке своего права на движимые вещи не только государственной власти, преследующей какую-нибудь общеполезную цель, но и частным лицам, за которыми закон, как это мы увидим при изложении случаев гражданской экспроприации, признает в известных обстоятельствах право на эти вещи, оказывающееся предпочтительнее права на них собственника, принуждаемого поступаться им ввиду интересов гражданского оборота, стоящих за правом тех лиц, в пользу которых собственник теряет свое право собственности на движимую вещь. Сюда относятся: потеря и приобретение собственности в силу давности, правило об исключении в известных обстоятельствах виндикации, т. е. права отыскивать собственность на движимые вещи, и другие положения права, о которых будет говорено ниже. Результатом наших замечаний о законных ограничениях собственности может быть признано, что, во-первых, неограниченная собственность на какие бы то ни было предметы не может существовать и нигде не существует, во-вторых, ограничения собственности в силу закона основаны на соображениях об общественном интересе, которые обусловливают в различных случаях различное содержание собственности, и, в-третьих, содержание права собственности вследствие зависимости его от соображений об общественном интересе должно определяться не индивидуальной волей собственника, как это принимается господствующей теорией, а постановлением закона, служащего представителем общественных интересов. Публичная экспроприация права собственности. 2. Под экспроприацией понимается обыкновенно насильственное отчуждение частной собственности, а иногда исключительно поземельной собственности, совершаемое государственной властью, ввиду какого-нибудь публичного интереса с вознаграждением собственника за утрачиваемое им право <1>. Это определение экспроприации мы находим слишком узким и объясняем его господствующим взглядом на собственность как на право абсолютное, предсуществующее государству, которое поэтому не властно распоряжаться им по своему произволу и должно всегда уважать его неприкосновенность. Понятно, что, держась такого взгляда на собственность, господствующая теория видит в экспроприации отступление от общего правового принципа неприкосновенности собственности и, рассматривая ее как аномальное право (jus singulare) <2>, настаивает на строгом ограничении его пределами существующих постановлений об экспроприации частной собственности и отказывается признать распространение ее на какие бы то ни было другие права, кроме собственности, относительно экспроприации которой ставится еще непременным условием вознаграждение бывшего собственника. Мы думаем, напротив, что, признавая за государством право насильственного отчуждения частной собственности для общественных целей, основание этого признания нельзя видеть ни в чем ином, как в сознании преимущества общественного интереса над частными интересами там, где они приходят в столкновение друг с другом, а раз это преимущество признано, оно дает основание общему юридическому принципу экспроприации всех прав, способных к отчуждению, а не какому-нибудь jus singulare исключительно для права частной собственности. Государство прибегает к насильственному отчуждению гражданских прав, когда частные соглашения оказываются недостаточными для достижения какой-либо общей цели. Следовательно, момент, общий всем случаям экспроприации гражданских прав, которым они отличаются от случаев договорного соглашения, заключается только в насильственном отчуждении права, предпринимаемом ввиду какого-нибудь общего интереса, независимо от того, будет ли этим правом собственность, какое-нибудь вещное право или обязательство, независимо и от того, передается или уступается право отдельному лицу или государству для того, чтобы они далее пользовались им и употребляли для своих целей; также должно быть безразлично, присваивает ли государство отчужденные права себе, другим лицам или просто уничтожает их, вознаграждает ли оно при этом бывших собственников или нет. На основании этих признаков можно различать отдельные виды экспроприации, сущность которой остается везде одной и той же; соединение же отдельных видов экспроприации в одно общее понятие важно потому, что оно выставляет общее положение, по которому неизбежное во всех случаях экспроприации столкновение между существующим юридическим порядком с его системой приобретенных прав и новыми потребностями экономической и социальной жизни должно разрешаться государственной властью, когда путь соглашений и договоров не может привести к желаемой цели <3>. Это общее положение, имеющее чрезвычайно важное значение, потому что оно дает возможность государству изменять существующие юридические отношения согласно с новыми требованиями жизни и прогрессирующими взглядами на справедливость, есть необходимый вывод из принципа экспроприации, коренящегося, как мы видели, в мысли о преимуществе общественного интереса над частным. Если же этот принцип сравнительно с принципом господствующей теории страдает противоположным последнему недостатком, который можно видеть в том, что он основывает право экспроприации на слишком общем и неопределенном начале «публичного интереса», которое не указывает на границы его применения и дает слишком много простора произволу законодательной власти, то этот недостаток легко устраняется обозначением в законе отдельных случаев экспроприации и более точным определением экономических обстоятельств, в которых она должна иметь место. Исследование этих обстоятельств составляет дело политической экономии и не может войти в пределы нашего сочинения <4>. Для нашей цели достаточно убеждения в необходимости экспроприации, о которой мы заключаем как из примера законодательств всех культурных народов, признающих принцип экспроприации <5>, так и еще в большей степени из самого понятия государства, которое решительно немыслимо без права экспроприации. Что бы сталось с человеческим общежитием, если бы сопротивление одного лица могло помешать устройству железной дороги, возведению плотины, постройке крепости и другим общественным предприятиям, от которых может зависеть благосостояние миллионов людей и безопасность самого общества! Между тем это сопротивление одного лица целому обществу, угрожающее самому существованию последнего, должно быть совершенно оправдано с точки зрения господствующей теории, так как мы знаем, что она полагает содержание собственности в индивидуальной воле собственника и провозглашает при этом ее основным принципом «неприкосновенность». Понятно, что такая «неприкосновенность собственности», ведущая к последствиям, недопустимым в общежитии, не может быть признана основным принципом никакого права. Если же мы тем не менее видим, что законодательство охраняет в известных пределах эту неприкосновенность и вмешивается в частные отношения собственности лишь в случаях, представляющих наличность условий для ее экспроприации, не давая таким образом в других случаях собственникам чувствовать обязанностей, связывающих их с обществом, то это просто объясняется тем, что личный интерес собственника заставляет уже его делать из своей собственности такое употребление, что оно соответствует в то же время интересам общества, которое поэтому не вмешивается или почти не вмешивается в образ действия собственника. По меткому замечанию Иеринга, мы имеем здесь дело со смешанно-правовыми условиями жизни общества: «Не нужно закона, потому что личный интерес и охота сами собою ведут человека по правильному пути» <6>. Но если личная деятельность собственника и общественный интерес покрывают в большинстве случаев друг друга, то это еще не основание для того, чтобы отождествлять оба понятия или считать личность собственника решающей во всех вопросах права собственности. Жизнь представляет много случаев, в которых действиями собственника руководит узкий эгоизм, упрямство и другие мотивы, в которые не входят соображения о будущем и о более широко понятом личном интересе. Такие действия собственника могут быть в прямом противоречии с интересами общества, которое принуждено устранять их с помощью экспроприации, так что принцип экспроприации и положение о святости и неприкосновенности собственности, вытекающее из индивидуалистического представления о ней, оказываются полными логическими противоположениями, из которых одно должно исключать другое. С признанием экспроприации абсолютное понятие собственности рушится, а возможность экспроприации всякого права собственности делает из нее одно из законных ограничений, которым собственник связан по отношению к обществу. ——————————— <1> Gerber. System des deutsch. Priv. r. § 174. С. 468 — 470; Beseler. System I. § 92. С. 351 — 356 и цитированных у последнего писателя. <2> Безелер. Там же. § 92. С. 352, 353. <3> См.: Rau-Wagner. Lehrbuch der Polit. Oek. § 381. С. 710 — 712. <4> См.: Вагнер. Там же. § 373 — 380. С. 696 — 710. <5> См.: Безелер. Там же. I. § 92. Примеч. 4, 5, 6 к с. 352. <6> Zweck im Recht. С. 507.
Таким образом, мы видим, что государству необходимо принадлежит право экспроприации гражданских прав, и в их числе — права собственности. В признании же за государством этого права лежит прямое доказательство в пользу общественного представления права собственности, отличающегося, в противоположность с абсолютно индивидуалистической теорией, характером относительности, так как оно дает государству возможность изменять, по соображению со своими интересами, пространство и содержание защищаемых им прав. Гражданская экспроприация права собственности. 3. Говоря об экспроприации, мы имели до сих пор в виду только такие случаи коллизии частного интереса с общественным, которые государственная власть разрешала непосредственно принудительным отчуждением частных имуществ. Эти случаи экспроприации относятся целиком к публичному праву, так как они не дают частным лицам, заинтересованным в экспроприации, никаких гражданских прав, которые они могли бы осуществить путем иска. Но независимо от этих случаев, в которых частные лица сталкиваются прямо с государством и поступаются своими правами перед ним, а не перед другими, такими же частными лицами, мы находим экспроприацию еще в основании чисто гражданских прав, так что она обращается здесь непосредственно не в пользу государства, а в пользу лица, имеющего в ней интерес и осуществляющего этот интерес посредством иска. Эта экспроприация, в отличие от экспроприации публичного права, может быть названа экспроприацией гражданского права, и она должна служить главным доказательством в пользу нашей теории собственности, потому что в случаях экспроприации этого порядка мы имеем дело не с отношениями частных лиц к государству, а с чисто гражданскими отношениями, участниками которых являются прежде всего два отдельных лица, причем одно из них экспроприируется в пользу другого. Оправдать эти случаи с точки зрения индивидуалистической собственности нет никакой возможности: почему интересы одного собственника приносятся в жертву интересам другого, когда положение обоих собственников, рассматриваемое со стороны воли, которую право обязано уважать и защищать в них, совершенно одинаково и должно поэтому заслуживать одинаковую защиту, объяснить это с господствующей точки зрения нельзя, тогда как общественная теория собственности дает на поставленный вопрос вполне удовлетворительный ответ: предпочтение интересов одного собственника перед интересами другого основано на том, что за первым собственником стоит общество, заинтересованное не менее последнего в экспроприации второго собственника. Господствующая теория старается, естественно, игнорировать случаи экспроприации этого рода, не раскрывая характера экспроприации, составляющего их основание, или рассматривая их как исключение из общего правила, для применения которых считается недостаточным признание этих случаев в римском праве и рецепция последнего в Германии, но требуются еще положительные постановления партикулярных законодательств <1>. Но мы сейчас увидим, что экспроприация этого рода так же необходима для института частной собственности, как государственная экспроприация, и что она также должна быть признана и действительно признается законодательством культурных народов. Первое систематическое указание на эту экспроприацию мы нашли опять в последнем произведении Иеринга <2>, из которого мы и возьмем несколько примеров. ——————————— <1> См.: Безелер. Там же. I. § 98. С. 357 — 358. <2> Zweck im Recht. С. 512 — 518.
A. Обвал горы или наводнение преградили собственнику доступ в его имение, разрушив дорогу, которая вела к нему. Единственный путь, которым собственник может попасть к себе, пролегает через имение его соседа, и поэтому римское право предоставляет первому собственнику против второго возможность требовать за известное вознаграждение уступки необходимой для него дороги, на которую он получает вещное право <1>. Древнегерманские источники права, сообразуясь с условиями поземельных отношений в Средние века, приняли такое же правило, но в еще более безусловной форме, отказав собственнику даже в праве требовать вознаграждение за уступаемую им соседу дорогу. Что же касается доктрины юристов, то она возвела это ограничение собственности в правило общего права (Gemeines Recht), действующего во всей Германии в силу его рецепции из Рима, но приняла в него и право экспроприируемого собственника на вознаграждение <2>. Из числа новых законодательств укажем на постановление Прусского земского уложения в § 3 тит. 22 ч. 1, сформулированное следующим образом: «Поземельный собственник должен допускать против себя и такие ограничения своей собственности, без которых другой поземельный участок сделался бы вполне или отчасти негодным». В следующем параграфе говорится о вознаграждении собственника за такие ограничения, определяемом в случаях спора приговором сведущих людей. Наш закон в ст. 448, 449, 450 ч. 1 т. X содержит в себе такие же ограничения права собственности, не постановляя за них никакого вознаграждения. ——————————— <1> L. 12 pr. D., de relig. <2> Безелер. Там же. С. 357.
B. Если кто-нибудь при постройке своего дома пользуется чужим материалом, который он принимает за свой, то по иску собственника материала (actio de tigno juncto) суд приговаривает домостроителя не к возвращению самого материала, как это следовало бы признать при последовательном проведении принципа индивидуальной собственности, а только к уплате его двойной стоимости <1>. ——————————— <1> Dig., 47, 3, de tigno juncto, I. 23, § 6, 7 D., 6, 1, I. 6, 7 D., 10, 4.
C. Если кто-нибудь при постройке дома на своей земле переступает границу ее на некоторое пространство, а собственник этого пространства не возражает против выступления домостроителя из пределов его собственности, то римское право приговаривает последнего опять не к восстановлению чужой собственности, которое может быть произведено не иначе как с разрушением всего строения, а только к вознаграждению собственника, не возразившего своевременно против захвата принадлежавшей ему полосы земли. Господствующая юриспруденция, как мы показали это при изложении ее учения о праве собственности <1>, относится к рассматриваемому случаю иначе: она высказывается против экспроприации собственника, но Иеринг в цитированной выше статье своего журнала <2> и в своем «Zweck im Recht» <3> доказывает необходимость в этом случае экспроприации такими неопровержимыми доводами, что на них нельзя не сдаться. Если же основание этого решения в римском праве он видит в начале денежной кондемнации, по которому судья не имел власти вынудить у ответчика реальное исполнение, а должен был непременно приговорить его к денежному вознаграждению, заключающему в себе экспроприацию его противника, то это основание сам Иеринг должен бы признать исключительно формальным, так как оно вовсе не объясняет, почему собственника заставляют довольствоваться денежным вознаграждением вместо находившейся в его собственности вещи. Настоящим основанием экспроприации собственника в данном случае, равно как и в двух предыдущих, служил в Риме и служит у нас только общественный интерес, настоятельно требующий экспроприации. Если бы собственник не имел доступа в свое имение, то оно не приносило бы ему более никакого дохода, и от этого страдал бы не только он, но и все общество, производительная сила которого уменьшилась бы как раз на то количество ценности, которое исчезло бы вместе с обесцененным имением. ——————————— <1> См. [сн. 1 на с. 166]. <2> См. [сн. 1 на с. 219]. <3> С. 515 — 516.
Столько же терпело бы общество, теряя наличный продукт труда, и от разрушения дома, к которому был бы вынужден его собственник, если бы он был приговорен восстановить другому собственнику вершок земли, случайно захваченный им при закладке фундамента своего дома, или если бы он был приговорен возвратить in specie материал, из которого был построен его дом, собственнику этого материала. Рассматривая собственность независимо от общества, нельзя найти никакого основания, по которому оно ограничивало бы в этих случаях права частных собственников. Если же признать, что собственность существует не только для собственников, но и для общества, то отсюда вытекает сам собою вывод, что право должно примирить интересы последних с интересами отдельных собственников, для чего оно и прибегает к экспроприации. D. К этой же точке зрения Иеринг приурочивает и учение об accessio. Я посадил в своем саду чужое дерево; обязан ли я возвратить его по требованию собственника? Римляне отвечали утвердительно на случай, когда дерево не пустило еще корни в моей земле, и отрицательно, когда оно уже пустило их. В последнем случае, говорили они, совершился переход собственности, в первом — нет. Но это основание опять формальное — настоящее же заключается в том, что когда дерево отпускает корни в почву, то оно не может более без ущерба для себя и для целого хозяйства быть отделено от нее, так что основание решения здесь то же, что и в предшествующих случаях, — стремление примирить защиту собственности с интересами общества. E. Нельзя также вместе с Иерингом не видеть экспроприации и в деятельности римского судьи, разбиравшего споры между соучастниками какого-нибудь общего права, при заявлении требования кем-нибудь из них о разделе или об определении границ общего для них имущества. Adjudicacio формулы, на основании которой судья приступал к решению дела, заключала в себе прямое уполномочие судьи к экспроприации, так как она давала ему право присуждать, руководствуясь соображениями целесообразности, одним из участников процесса вещные права, другим — отказывать в них, третьих — удовлетворять денежным вознаграждением, словом, явно экспроприировать одних в пользу других <1>. ——————————— <1> См.: § 6, 1 de off. jud., 4, 17; I. 2, § 1 fin. reg., 10, 1; I. 3 D., fom. ers., 10, 2; I. 6, § 10, I. 7, § 1, I. 19, § 1. D., Com. div., 10, 3; I. 1 C., 3, 37.
F. Важный случай гражданской экспроприации представляет также с. 8 Cod., 11, 58, укрепляющий собственность на землю, заброшенную ее хозяином, за лицом, которое принимается обрабатывать ее. Мотив этого закона известен: тягости поземельной подати и вообще землевладение сделались в последний период существования Римской империи до такой степени невыносимыми, что собственники бежали со своих земель и оставляли их на произвол судьбы. Если бы земля существовала только для собственника, то оставление ее не могло бы сопровождаться для него потерей права, но так как земля существует также для общества, которое заинтересовано в том, чтобы она обрабатывалась и приносила доход, то оно и предлагает ее лицам, готовым работать на ней. Одинаковое основание и значение с приведенным законом имеют и некоторые другие постановления римского права: общество заинтересовано в том, чтобы минералы и другие ценности, сокрытые в земле, были извлечены из нее, и если сам собственник не заботится об этом, то оно предоставляет право раскопок под известными условиями всякому желающему <1>. ——————————— <1> См.: Титул Кодекса 11, 6 de metallaris. В I. 1 id. выдвигается та же точка зрения, что и в цитированном I. 8 C, 11, 58: «Sibi et rei publicae commoda compareret». Параллельные постановления заключают в себе и новые законодательства, ограничивающие право собственности на минералы еще в большей степени, чем римское право (см.: Gerber. Deutsch. Priv. r., § 95; Безелер. Указ. соч. II, § 203).
Сособственник, если он исправляет за свой счет дом, который принадлежит ему сообща с другим лицом, получает на него исключительное право собственности, если другой сособственник не уплачивает ему в продолжение известного срока причитающейся на его долю части общих издержек <1>. ——————————— <1> L. 52, § 10 D., prosocio, 17, 2.
Сюда же нужно отнести постановления некоторых законодательств, на которые ссылается Иеринг <1> и которые исходят из той мысли, что в больших городах земля должна служить для построек, а не для разведения садов, огородов и других сельскохозяйственных предприятий, почему они и ставят собственнику альтернативу: или строиться непременно самому, или уступить землю за соответствующее вознаграждение тому, кто захочет возвести на ней какое-либо строение. ——————————— <1> Там же. С. 508.
G. Укажем еще на институт земской давности, признанный всеми новыми законодательствами и представляющий собою явный случай гражданской экспроприации собственности, остающейся в инертном состоянии, в пользу деятельного владения, когда оно удовлетворяет определенным, поставленным в законе условиям. Соображение об общественном интересе так очевидно лежит в основании этого института, что оно признается даже господствующей теорией, поставленной в необходимость отказаться по отношению к давности от своей индивидуалистической точки зрения; к тому же римские юристы высказались о законодательном основании института давности так ясно, что современные последователи их не имели возможности колебаться <1>. ——————————— <1> L. 1 D., de usurp., 41, 3: «bono publico usucapio introducta est cum sufficeret dominus» etc… etc…
H. Упомянем, наконец, об известном правиле Общегерманского уложения (ст. 306), по которому покупка движимых вещей в лавке дает покупщику право собственности на них, хотя бы продавец сам не имел этого права, и исключает виндикацию купленной таким образом вещи со стороны ее настоящего собственника, который, видимо, экспроприируется и в этом случае в пользу покупщика именно потому, что экспроприация его требуется быстротой современного гражданского оборота, которая была бы стеснена постоянными спорами о собственности, если бы приобретатели движимых вещей не были вперед обеспечены от них. Приведенных примеров экспроприации, нам кажется, достаточно для того, чтобы убедиться, как малооснователен господствующий в юриспруденции взгляд, видящий в ней аномалию и противоречие с принципом собственности. Если некоторые из этих примеров относились исключительно к римскому праву и не перешли из него в новые законодательства, то это обстоятельство не говорит еще против их доказательной силы, а показывает только, что римская юриспруденция была проникнута более нашей сознанием общественного характера гражданских прав. Основание всех рассмотренных решений римских юристов заключалось не в каких-либо особенностях римского правосозерцания, а исключительно в соображении об общественном интересе, которое имеет общее значение для права и при равенстве фактических условий должно вызывать всегда одни и те же решения спорных случаев. Если, например, мы не встречаем в новых законодательствах некоторых положений римского права, изложенных нами под буквой f), то это объясняется только разницей экономических условий жизни римлян и новых народов, которая сделала теперь экспроприацию ненужной во многих случаях, когда общественный интерес удовлетворяется, помимо ее, добровольной деятельностью и соглашениями собственников между собою, побуждаемых к действиям в общественном интересе соображениями о своих личных интересах. Но допустим на минуту, что новые народы вследствие каких-нибудь причин будут поставлены в обстоятельства, соответствующие экономическому состоянию Рима в последнюю эпоху его исторической жизни. Допустим, что громадные пространства земли будут оставаться без обработки, города — без построек, пашни — без посевов, луга зарастут дикой травой. Понятно, что общество не останется равнодушно к такому положению дел, которое грозит ему смертью, и будет всячески стараться устранить его путем различных экономических и законодательных мер, аналогичных с цитированным выше с. 8 C., 11, 58, и в основание этих мер ляжет, конечно, мысль о спасении общества и об общественном интересе, для осуществления которой экспроприация будет одним из могущественнейших орудий. В результате мы видим, что значение экспроприации гражданского права заключается в том, что она примиряет интересы личной собственности с интересами общества, и потому она, естественно, должна служить новым доказательством в пользу общественной теории собственности. «Экспроприация, — говорит Иеринг, — только и делает собственность практически годным и способным к жизни институтом; без нее собственность могла бы обратиться в проклятие для общества. Посредством экспроприации право устраняет опасность, которою собственность грозит обществу» <1>. ——————————— <1> Там же. С. 515.
Легальная теория собственности. 4. Правильность общественного представления права собственности находит, наконец, важное подтверждение в так называемой легальной теории собственности, которая видит в ней институт положительного права и основывает ее на свободной деятельности правообразовательных факторов общественной жизни, т. е. на обычае и законе, устанавливающих как принцип собственности, так и содержание различных ее видов сообразно с господствующими в данное время и в данном месте представлениями о целесообразности и справедливости. Кроме легальной, существуют еще другие теории, занимающиеся философским обоснованием права собственности, но мы увидим сейчас, что они неосновательны и приводят в результате прямо к легальной теории. Систематическое изложение всех теорий, стремящихся подвести собственность под какой-нибудь общий принцип, из которого она должна исходить, тонкий критический анализ этих теорий, а равно и вполне научное установление легальной теории собственности мы встретили в первый раз не в каком-либо юридическом сочинении, а в учебнике политической экономии Ад. Вагнера <1>, который — вследствие общественной точки зрения его автора и важного значения, придаваемого им институтам гражданского права для экономических отношений, — заключает в себе, по нашему мнению, столько драгоценных указаний и мыслей для юриста, как редкая, чисто юридическая книга. Обращая читателей за подробным обоснованием легальной теории собственности к названному сочинению Вагнера, мы не можем ввиду важности этой теории для доказательства общественного характера права собственности не привести здесь некоторые из аргументов Вагнера против различных теорий, выставленных юристами и экономистами по поводу собственности, и за легальную теорию ее. ——————————— <1> Rau-Wagner. Lehrbuch der Polit. Oekonomie. С. 442 — 499.
Все существующие теории об основании права собственности Вагнер классифицирует по трем группам. К первой он относит теории, основывающие институт собственности или вообще на человеческой природе и понятии о личности, или только на отдельном свойстве человеческой природы, на хозяйственной стороне ее, необходимым последствием которой является установление собственности. Обе теории составляют разновидности одной группы: первую из них Вагнер называет «естественной», а вторую — «естественно-экономической» теорией собственности. Ко второй группе относятся теории, основывающие институт собственности на каком-нибудь общем принципе, принимаемом в виде аксиомы, но представляющем собою, в сущности, не что иное, как постулат справедливости. Сюда принадлежат: «теория завладения», или специфически юридическая теория, видящая внутреннее юридическое основание собственности в «естественном» притязании первого владельца на вещи, которые он прежде всех других подчинил своей воле, и «теория труда», или специфически экономическая теория, основывающая собственность на «истекающем из чувства естественной справедливости» праве работника на продукт своего труда. Наконец, третью группу составляют «легальные теории», рассматривающие собственность как институт положительного права и различающиеся между собою только по тому, как они представляют себе процесс правообразования собственности. Прежде принимался часто так называемый общественный договор, по которому общее владение имуществами было уничтожено и установлено частное, но так как в фиктивности такого общественного договора никто более не сомневается, то понятно, что теперь легальная теория собственности может быть утверждена только на настоящих источниках правообразования, т. е. на обычае, законе и признании государственной власти. Самое существенное и общее возражение, которое можно сделать всем четырем теориям о собственности, принадлежащим к двум первым группам, состоит в том, что все они одинаково априористичны и основывают собственность на абстрактных принципах, не имеющих вовсе того всеобщего значения, которое им приписывается данными теориями. Если бы какой-либо из этих принципов отличался действительно таким безусловным значением, то право собственности не зависело бы, конечно, от признания его обществом и законом и было бы, как необходимое заключение от известного принципа, вечно одним и тем же и никогда не изменяющимся институтом права. Между тем история этого института у различных народов показывает ясно, что он никогда не имел такого постоянного характера, а проходил, напротив, в своем историческом развитии через множество форм, различных по степени ограничений, налагаемых ими на частных лиц, и по объему и содержанию предоставляемых им прав. Это различие, как мы уже говорили, связано с различием экономической функции и цели, которой служат вещи, составляющие объекты собственности, и различным отношением общественного интереса к функции вещей, так что по различию объектов нужно признать столько же различных видов собственности, которые было бы неправильно основывать на каком-нибудь одном принципе уже потому, что они служат особенным целям и должны поэтому иметь свои особые основания. Необходимость такого различия отдельных видов права собственности по его объектам вытекает не только из истории этого права, но также из постановлений современных законодательств, которые указывают поземельной собственности совсем иное положение, чем движимой, литературную собственность выделяют в особое право и делают такие же важные различия между отдельными видами недвижимой собственности. Коренной недостаток рассматриваемых нами теорий собственности заключается именно в том, что они не признают этих необходимых различий, которые они и не могут признать, потому что применяют ко всем видам собственности один какой-нибудь шаблонный принцип. Вследствие этого они и не в состоянии объяснить, почему закон делает, например, собственность на движимые вещи почти не ограниченной, не подлежащей, кроме возможности экспроприации и некоторых неважных ограничений в завещательном переходе (см. выше [с. 221]), никаким иным ограничениям, тогда как недвижимую собственность он подвергает многим другим ограничениям, изменяющим свой характер, смотря по качеству и назначению земли, на которую они распространяются. Почему, затем, закон облагает городскую собственность одними ограничениями, сельскую — другими и, далее, в такой степени стесняет некоторые виды собственности, как, например, собственность на лесные участки, в которых производятся раскопки руды, собственность на дороги и пр., что об исключительном праве пользования собственником своей собственностью в этих случаях не может быть и речи; почему, наконец, относительно литературной и художественной собственности закон ставит пределы даже времени пользования правом и исключает по отношению к нему, равно как и по отношению к некоторым другим видам собственности, действие давности, имеющее место в большинстве случаев собственности, — объяснить эти явления с точки зрения разбираемых теорий, с которыми они стоят даже в противоречии, нет никакой возможности. Между тем эти же явления подтверждают вполне легальную теорию собственности, так как она основывает ее не на каком-либо абстрактном принципе, а на признании и защите государственной властью различных отношений, представляемых жизнью, причем принимается, что государственная власть соображается всегда с особенностями этих отношений, со значением их в общественной жизни и вообще руководствуется в своих определениях соображениями целесообразности, которые делают для легальной теории обязательным положение не о неподвижности, а о движении вперед, о постоянном развитии института собственности параллельно с развитием экономических и общественных отношений. Кроме общего всем разбираемым теориям о собственности упрека в априористическом построении, Вагнер приводит против каждой из них особые аргументы, из которых мы отметим важнейшие. A. Естественная теория собственности, связывающая ее со свойствами человеческой природы, страдает такой общностью и неопределенностью, что на ней может быть построено и действительно строилось уже не раз социалистическое представление о собственности, противоположное порядку частной собственности <1>. ——————————— <1> Там же. § 256. Примеч. 21 к с. 448.
B. Заключение о собственности из свойств человеческой природы основано на логической несообразности, называемой petitio principii, так как не доказано, что личность может достичь своих целей исключительно посредством частной собственности. Можно только согласиться, что частная собственность служит одной из возможных форм для достижения этих целей в области имущественного права, но лучшая ли это форма и полезно ли применение ее ко всем видам имуществ, на эти вопросы естественная теория собственности не дает никакого ответа. C. Соображением о личности и о важности ограждения необходимых условий ее существования можно обосновывать, оправдывать частную собственность только на предметы потребления, но не на орудия производства и не на другие виды собственности, признание которых составляет вопрос законодательной политики и вовсе не следует из признания собственности на предметы потребления <1>. ——————————— <1> Там же. § 263 — 264. С. 460 — 463.
D. Естественно-экономическая теория собственности представляет модификацию естественной теории и потому дает место тем же возражениям, которые были приведены против последней. E. Теория завладения и теория труда, несмотря на их различие, соединяются в двух общих признаках. Обе смешивают внешние способы возникновения собственности с внутренним основанием института и обе основывают право собственности на одних фактах. Между тем не подлежит сомнению, что факты не могут служить ничем более, как поводами для признания за лицом, находящимся с ними в причинной связи, какого-нибудь права, поэтому и нельзя, отправляясь от факта, прийти к праву, не связав их сначала между собою признанием правообразовательных органов, на котором отдельные лица и основывают свои права. Следовательно, завладение и труд как приобретающие факты, как внешние причины приобретения собственности определенным лицом предполагают институт собственности уже существующим и вследствие этого никак не могут быть его внутренним основанием. Отсюда видно, что теории завладения и труда содержат в себе вовсе не общий принцип, годный для обоснования права собственности, а лишь постулаты справедливости и целесообразности, которыми государственная власть руководствуется при признании собственности за первым владельцем и за работником — на продукты его труда. F. Начала завладения и труда не заключают в себе даже безусловно справедливых постулатов, которыми государственная власть могла бы постоянно руководствоваться в своих определениях, помимо всех других соображений; признание за ними такой безусловной правильности основано на индивидуально-атомистическом миросозерцании, под влиянием которого возникли обе теории. Завладение, если оно и служило в первобытные времена главным источником приобретения движимых вещей, то и тогда оно должно было ограничиваться соображениями, вытекающими из факта сосуществования людей и из общих им всем потребностей в вещах, подлежащих завладению. Что же касается теории труда, то она исходит из ложного предположения, что индивидуальный труд, поддерживаемый капиталом отдельного лица, имеет сам по себе производительную силу и производит ценности независимо от связи индивидуума с обществом, которая обыкновенно вовсе не принимается в расчет при обсуждении процесса производства. В ложности этого предположения Вагнер вместе со всей новой школой экономистов видит коренной недостаток индивидуалистической теории производства, последствием которой в учении о собственности и является теория труда. И так как ни одна ценность не есть исключительный продукт индивидуального труда и других чисто естественных факторов производства, каковыми служат наряду с трудом природа и капитал, а есть вместе с тем продукт общественного фактора производства, т. е. государства, то понятно, что защита пользования различными ценностями должна быть основана не на начале индивидуального труда, имеющего только ограниченное значение, а на интересе государства, которое покровительствует труду, но лишь в пределах справедливости и целесообразности этого покровительства. G. Завладение и труд не могут быть признаны и исторически точками отправления института собственности. Мы знаем, что землей завладевали сначала не отдельные лица, средства которых были бы недостаточны для этой цели, а целые общества в виде народов, переселяющихся с одного места на другое, или народов-завоевателей, или отдельных родов и групп колонистов, которые устанавливали на землю обыкновенно общинное владение. Из этого-то общинного владения и развилась впоследствии частная собственность или уступкой от общины своим членам права частного хозяйства на уступленной земле, или разрешением общины своим членам занимать пустопорожние земли под частное хозяйство — разрешением, которое могло даваться как явно, так и негласно, т. е. выводиться из фактов, относящихся к общинному управлению и хозяйству. В обоих случаях завладение как юридическое основание собственности предполагает признание ее со стороны общества и, следовательно, институт собственности уже существующим. То же самое нужно сказать и о труде, в котором позволительно еще видеть конечную, но никак не начальную точку отправления в развитии института собственности. Труд сам по себе не создает ничего; он нуждается в орудиях, которыми бывают или естественные произведения природы, или их продукты; следовательно, собственность на произведения труда предполагает непременно признание собственности на его необходимые орудия, и потому уже труд также не может рассматриваться как основание собственности <1>. ——————————— <1> Там же. С. 472 — 486.
Итак, мы видим, что ни одна из изложенных теорий собственности не выдерживает серьезной критики, указывающей на необходимость признания легальной теории, так как она не дает места ни одному из приведенных против других теорий возражений и соединяет в себе, с другой стороны, все здоровые мысли, заключенные в тех теориях. Полагая основание права собственности в законе и признании государственной власти, она заставляет последнюю руководствоваться в своих определениях и свойствами человеческой природы вообще, и хозяйственной ее стороной в особенности, и уважением к труду и праву первого владельца, и другими экономическими и общественными соображениями, служащими для нее постулатами справедливости, но вовсе не самостоятельными основаниями права собственности. Кроме этих общих соображений, легальная теория собственности находит еще подтверждение в двух специальных институтах гражданского права: в институте земской давности и в институте так называемой литературной собственности. Посредством давности, как известно, одно лицо приобретает право собственности, а другое теряет его только в силу действия времени. Общепризнанная необходимость института давности для гражданского права и, с другой стороны, невозможность основать потерю и приобретение собственности по давности ни на одной из четырех рассмотренных нами теорий, которым мы не решаемся сделать новый упрек в том, что они основывают в этом случае право собственности на простом факте истечения определенного промежутка времени, указывают прямо на закон как на источник и основание института давности, устанавливаемого им по соображению о его целесообразности для обеспечения отношений, вытекающих из собственности, причем предпочтение, оказываемое законом труду пред беспечностью, является опять не основанием института, а другим мотивом закона, служащего, таким образом, единственным юридическим основанием давности. Что касается литературной собственности, то господствующий в настоящее время взгляд оспаривает у нее, как известно, вообще характер собственности и считает литературную собственность специальным правом, которое образовалось у новых народов в силу положительного закона, имеющего целью обеспечить за каждым автором произведения его умственного труда <1>. Оснований для такого выделения литературной собственности из общего права собственности приводится обыкновенно три. Говорят, во-первых, что о собственности в юридическом смысле можно рассуждать только по отношению к физическим вещам и потому о «духовной собственности» на произведения умственного труда не должно быть и речи. Во-вторых, говорят, что литературная собственность не есть собственность, потому что она не отличается абсолютным характером последней: она ограничена во времени, налагает на авторов множество обязанностей относительно общества и вообще не дает им тех абсолютных прав, которые характеризуют право собственности. Наконец, в-третьих, указывают на то, что собственность на физические вещи существует не в силу закона, которому она предшествует, тогда как литературная собственность основана исключительно на санкции положительного закона. ——————————— <1> См.: Безелер. System I. § 88. С. 319 — 328; Вагнер. Цит. соч. С. 491 — 498 и цитированных у них писателей.
Мы сейчас увидим, что ни одно из этих оснований отличия литературной собственности от физической не может быть признано действительным. Если под правом собственности понимать только сложившийся исторически и точно определенный в законе род прав, распространяющихся исключительно на физические вещи, тогда литературная собственность, конечно, не может быть признана собственностью. Но этот вывод заключает в себе явную petitio principii, так как против него можно сейчас возразить: если на основании этого вывода литературная собственность не может называться собственностью, то отсюда следует вовсе не то, что она не есть собственность, а только то, что существующее понятие собственности слишком узко и односторонне, если оно не может обнять собою институт литературной собственности, так как с точки зрения логики ничто не мешает установлению более общего понятия собственности и характеризованию его такими общими признаками, которые давали бы возможность подвести под него как физическую, так и литературную собственность. Если же та и другая собственность в силу определений положительного закона существенно разнятся друг от друга как по содержанию, так и по объему предоставляемых им прав, то отсюда следует опять заключать не к исключению литературной собственности из понятия собственности, а к признанию ее отдельным видом собственности рядом с другими видами, на которые по различию объектов должна необходимо подразделяться, как это было показано выше, и собственность на физические вещи, что литературную собственность нельзя объяснить основаниями, которые считаются достаточными для обоснования физической собственности, это понятно само собою и признается также господствующим взглядом, так как он также основывает литературную собственность на законе и этим самым дает нам лишний раз возможность убедиться в несостоятельности своего общего представления о собственности и своих метафизических способов для ее обоснования, которые оказываются неприменимыми к литературной собственности так же, как и ко всем другим видам собственности. Что касается другого основания отличия права литературной собственности от физической, состоящего в представлении господствующей юриспруденции в том, что первая связана с ограничениями авторского права, вытекающими из соображений об общественном интересе, а вторая представляет собою абсолютное право, то это основание различия совершенно недействительно, потому что мы уже знаем, что абсолютная собственность не может существовать и нигде не существует. Соображение об общественном интересе, принимаемое всеми юристами в основание ограничений права литературной собственности, имеет одинаковую силу и относительно права собственности на физические вещи, так как нам известно, что в установлении его заинтересован не один какой-нибудь собственник, но все общество, а потому мы решительно не понимаем, отчего юриспруденция не сделала до сих пор вывода из ограничений авторского права в силу соображений об общественном интересе к признанию существенного значения момента общественного интереса и для права физической собственности, предоставив установление необходимой в этом смысле аналогии между обоими видами собственности экономисту Вагнеру <1>. Ближе всех к мысли об этой аналогии стояла теория собственности, основывающая ее на принципе труда. Признавая за автором относительно ограниченное право на пользование произведениями своего умственного труда, она не находила в этом ограниченном праве никакого нарушения «естественного права» работника на продукты его труда. Если бы она рассматривала с этой точки зрения и ограничения физического труда, которые не могут же оскорблять чувство «естественной справедливости» в большей степени, чем ограничения, налагаемые на пользование умственным трудом, тогда она необходимо пришла бы к тому же общественному представлению права собственности, к которому приводит легальная теория. ——————————— <1> Там же. § 282. С. 495 — 497.
Наконец, третье основание для отграничения авторского права от собственности, состоящее в утверждении, что первое исходит от закона, а второе предшествует ему, не имеет для нас никакого значения, так как если происхождение авторского права от закона никем не оспаривается и не может подлежать никакому сомнению, то о предсуществовании собственности закону мы должны сказать как раз противоположное: оно не только никогда не было доказано, но и явно опровергается всем предшествующим изложением. Общий результат и наше определение права собственности. Установление авторского права на силе закона имеет для нас особенную важность, потому что оно ясно показывает, как экономические потребности общества в связи с юридическим сознанием его о необходимости справедливого вознаграждения автора за его труд привели к образованию нового вида права собственности. Вагнер <1> ссылается на мотивирование новых законов об авторском праве и на рассуждении о них в парламентах, где постоянно взвешиваются различные соображения целесообразности, говорящие за и против авторского права и связанных с ним вопросов, так что на примере авторского права мы видим ясно, что законодательство, создавая его, руководствуется сознательно соображениями справедливости относительно авторов и их издателей, соображениями об индивидуальном и общественном интересе и другими соображениями целесообразности, которые оно комбинирует вместе, для того чтобы сообразно с ними определить пределы и содержание права, устанавливаемого им исключительно на основании этих соображений. Таково должно быть отношение законодательства и к собственности на физические вещи с ее различными категориями и ко всем другим видам прав. Для определения объема и содержания заключающихся в собственности прав оно должно, так же как и по отношению к авторскому праву, исследовать прежде всего экономические и социальные условия жизни индивидуума и общества, выяснить их взаимные отношения и потребности и отсюда уже умозаключать к понятию собственности, а не исходить, наоборот, из устанавливаемого a priori абсолютного понятия собственности и делать из него выводы о пределах и содержании права в виде логических консеквенций; это излюбленный процесс исследования господствующей юриспруденции, в котором опять-таки нельзя не видеть связи со стремлением ее обосновать собственность на всевозможных абстракциях — только не на деятельности законодательной власти и не на соображениях целесообразности. ——————————— <1> Там же. Примеч. 20 к с. 498.
Мы думаем вместе с Вагнером <1>, что если существует такой несомненный исторический факт, как установление авторского права исключительно на силе закона, нормирующего его по соображениям о справедливости и целесообразности, то в этом факте заключается указание на единственно правильный путь, следуя которому можно прийти к действительному пониманию института права собственности; в этом факте исчезают вместе с тем и последние сомнения, которые вообще могли быть возбуждены против обоснования собственности на законе. Все сказанное нами о законных ограничениях права собственности, о публичной и гражданской экспроприации его и о легальной теории обоснования права собственности ведет непосредственно к необходимости общественного представления этого права. Если наши положения, относящиеся к тем вопросам, могут быть признаны доказанными, если неограниченной собственности нет и законные ограничения ее покоятся на соображениях об общественном интересе, если право собственности подлежит публичной и гражданской экспроприации, сущность которых коренится в тех же соображениях об общественном интересе, если, далее, все существующие теории собственности, кроме легальной, должны быть признаны несостоятельными, так как они исходят из абсолютных и принимаемых a priori принципов, не оправдываемых наблюдениями над действительной жизнью, если, наконец, правильной нужно считать только легальную теорию собственности, потому что она основывает ее на деятельности законодательной власти, которая исследует потребности индивидуальной и общественной жизни и ставит свои определения о собственности в прямую зависимость от соображений о целесообразности и справедливости, — если все эти положения признать правильными, то они делают необходимым заключение к общественному интересу как к единственному основанию института собственности. ——————————— <1> Там же. С. 498.
Что касается отличия этого института от обязательственного права, то установление его составляет вопрос техники права, не имеющий прямого отношения к предмету нашего исследования. Скажем только, для того чтобы прийти к возможно всестороннему определению права собственности, что отличие его от обязательств заключается в относительно большей и полной защите собственника от нарушений его права со стороны третьих лиц. Комбинируя результаты нашего изложения права собственности с тем, что мы сказали о понятии права вообще, мы получим такое определение права собственности: Правом собственности будет называться относительно полная защита от посягательств третьих лиц пользования благами, на которые оно распространяется, но лишь в пределах ограничений и обязанностей, налагаемых на это пользование законом ввиду общественного интереса. Это определение собственности отличается от общепринятого определения ее, гласящего, что собственность есть полная и исключительная власть человека над вещью, тремя существенными признаками: 1) оно полагает сущность или содержание собственности не в моменте господства или пользования, а в защите, что, как было показано выше, вытекает из самого понятия права; 2) оно вводит в понятие собственности момент ограничений и этим избегает логической ошибки господствующего определения собственности; 3) оно выдвигает начало общественного интереса как мотив и внутреннее основание института собственности, обусловливающее его содержание, в противоположность с господствующей теорией, которая обусловливает его индивидуальной волей собственника. Таковы логические и научные преимущества нашего определения права собственности сравнительно с общепринятым определением его. Что же касается его практических преимуществ, непосредственно вытекающих из первых, то мы не раз уже встречались с ними при разборе отдельных случаев экспроприации и других видов ограничений права собственности, которые нельзя было примирить с точкой зрения господствующих теорий, тогда как общественная теория собственности и давала им правильное основание, и указывала на способ решения, наиболее согласный с интересами всех.
Печатается по: Гамбаров Ю. С. Добровольная и безвозмездная деятельность в чужом интересе вне договорного отношения и не по предписанию закона. Выпуск 1. Общественный интерес в гражданском праве. М.: Типография А. И. Мамонтова и Ко, 1879. С. III — XVII, 1 — 115.
(ЧАСТЬ ВТОРАЯ)
/»Вестник гражданского права», 2013, N 2/
IV. Применение общественной теории права к обязательствам
Общее положение. Переходя к обязательствам, мы должны для убеждения в применимости к ним общественной теории права доказать следующее положение. Основание прав по обязательствам, определяющее вместе с тем их содержание, заключается, так же как и основание права собственности, в общественном интересе, который требует защиты отношений, возникающих из обязательств, но защиты, ограниченной соображениями об общем интересе. Это положение находится в полном противоречии с господствующим в юриспруденции учением, так как мы знаем, что оно рассматривает обязательство как выражение автономии лица в области гражданского права и видит в основании его или индивидуальную волю обязывающего лица, или согласное объявление воль участвующих в обязательствах лиц без всякого отношения к общественному интересу (см. выше). Несостоятельность этого учения была уже обнаружена нами на его практических последствиях, которые оказывались постоянно в противоречии или с требованиями справедливости и гражданского оборота, или с основным принципом самого учения. Мы обращаемся теперь к этому основному принципу господствующего учения не потому, чтобы мы считали нужным после всего сказанного заниматься его дальнейшим опровержением, а только потому, что анализ и раскрытие неправильности принципа господствующего учения приведут нас в то же время к сознанию, что общественная теория права должна применяться к обязательствам так же необходимо, как она применяется к праву собственности. Субъективизм господствующего учения. Скажем прежде всего о форме, в которой основной принцип господствующей теории права выражается в юриспруденции. Обязательства, как и другие права, если еще не в большей степени, рассматриваются господствующим учением постоянно и исключительно с точки зрения субъективного права, которая выступает во всех исследованиях и рассуждениях, посвященных обязательствам, на первом плане и совершенно отодвигает собою точку зрения объективного права. Между тем не может быть сомнения, что решающее значение во всех вопросах права (и, следовательно, также в вопросе об обязательствах) должно принадлежать объективному праву, а не субъективному, так как последнее не есть что-либо самостоятельное, цельное, имеющее собственное существование: оно представляет собою только форму выражения, последствие норм объективного права, истечение объективного правопорядка. Когда мы говорим, что A имеет право на какое-нибудь требование, а B обязан к исполнению его, то мы констатируем только существование известного отношения между A и B и способ, которым оно нормируется объективным правом. Следовательно, данное правомочие A и данное обязательство B представляют собой только одну из сторон существующего между ними отношения и только один момент в проявлении действия нормы объективного права, без которой не было бы никакого отдельного правомочия и никакого отдельного обязательства. Отсюда видно, что мы не можем согласиться и с тем представлением субъективного права, которое хотя и не отрицает зависимости его от объективного правопорядка, но тем не менее приписывает ему самостоятельное существование в пределах, обозначаемых объективным правом <1>. Такое представление о субъективном праве грешит прежде всего логической неправильностью, так как оно видит самостоятельное существование там, где его нет и где зависимость определяемого начала от определяющего, части от целого, говорит прямо против признания какой бы то ни было самостоятельности субъективного права. Но, кроме этой логической неправильности, указанное представление субъективного права должно быть отвергнуто главным образом по тому соображению, что оно ведет часто к смешению понятий объективного и субъективного права и переходит легко в такое отношение к предмету исследования, при котором выдвигается на первое место точка зрения субъективного, а не объективного права. Как же иначе, как не смешением этих понятий и не преобладанием точки зрения субъективного права над объективным, объяснить то явление, что юристы, определяющие субъективное право как правомочие или содержание воли, признанное объективным правопорядком, становятся тем не менее при рассмотрении различных гражданских прав исключительно на точку зрения лица, обладающего каким-нибудь правом, а не закона, признающего за ним это право, и видят в основании различных прав всегда индивидуальную волю, а не соображения, руководящие законодательной властью при установлении этих прав. Таков взгляд юристов на собственность как на абсолютное право, обусловленное в своем содержании только индивидуальной волей собственника; таков взгляд их на обязательство как на автономное установление права, основание и содержание которого определяются исключительно волей его установителей; таков их взгляд и на наследственное право как на право лица выражать свою последнюю волю, которую закон только восполняет своими постановлениями о порядке законного наследования; и такова вообще господствующая теория всех гражданских прав. ——————————— <1> Такого взгляда на субъективное право держатся Виндшейд, Арндс и др. Его же держится и Иеринг в своем «Geist des Romischen Rechts» (III, 1, с. 132 и сл.), но мы думаем, что он теперь оставил этот взгляд, так как мысли, развиваемые им в «Zweck im Recht», достаточно опровергают его и делают невозможным признание самостоятельного существования субъективного права.
Принцип индивидуальной свободы как точка отправления господствующего учения. Этот односторонний субъективизм господствующей теории права объясняется, как мы уже имели случай заметить, влиянием на нее индивидуалистического миросозерцания, которое сделало из личности точку отправления, а из «прирожденного» лицу индивидуального разума — решающее начало для всех отношений личной и общественной жизни человека. Это миросозерцание проникло еще в прошедшем столетии во все отрасли общественных наук и продолжает до сих пор господствовать в философии права (школа Канта), в политической экономии (школа Смита) и во всей юриспруденции <1>. Объявляя собственность, обязательства и другие гражданские права атрибутами личности, правомочиями, определяемыми в своем содержании индивидуальной волей управомоченного лица, современная юриспруденция исходит во всех своих суждениях из начала личности и абстрактного понятия индивидуальной свободы, выводя из них в виде «логических консеквенций» различные естественные права человека. Отсюда понятно принципиальное непризнание и отвращение, с которым рационалисты, экономисты и юристы нового времени относились всегда к различным состояниям несвободы и ограничениям человеческой личности, выработанным исторической жизнью различных народов; отсюда же их энергическая борьба против этих ограничений и проповедь свободы, которая вместе с другими экономическими и политическими причинами привела к уничтожению рабства, крепостничества, цехового устройства и к провозглашению законодательной властью свободы личности. Но рядом с этими благодетельными результатами влияния индивидуалистического миросозерцания на жизнь новых народов, которую мы теперь и не можем представить себе без признания свободы личности, вытекающей так естественно из ее нравственной природы, не нужно, с другой стороны, упускать из виду и чрезвычайно дурное влияние, оказанное индивидуалистическим миросозерцанием прежде всего на разработку отдельных отраслей социальной науки, и главным образом на разработку политической экономии и гражданского права, а потом уже на законодательство, которое усваивало себе результаты научных исследований и, проводя их в жизнь, действовало непосредственно на экономические и юридические отношения, образующиеся в практической жизни. Отправляясь от абсолютной свободы личности, принимаемой в виде априористической аксиомы, из которой следует необходимость отмены всех возможных ограничений свободы и последовательное проведение ее через все отношения, представляемые жизнью, индивидуалисты оставляют без всякого внимания факт существования людей в обществе и не делают из этого факта никаких заключений, которые не могут между тем не видоизменить последствий, выведенных из понятия о безусловной свободе личности, не могут не лишить эти последствия по крайней мере их абсолютного характера и не установить между ними и последствиями, вытекающими из факта общественной жизни, связь, в силу которой личная свобода будет непременно ограничиваться соображениями об общественном интересе. Необходимость этих ограничений личной свободы выводится уже из факта общественной жизни людей дедуктивно, подтверждаясь безусловно и историей права всех народов. В древний период истории, когда общественная связь между людьми не успела еще окрепнуть, индивидуальная свобода имела чрезвычайно важное значение и служила творческой силой в области права. По древнему воззрению, говорит Иеринг, воля каждого индивидуума служит основанием и источником всех его правоотношений: «Вселенная принадлежит самостоятельной личной деятельности каждого отдельного лица. Каждый носит в себе основание своего права, должен сам защищать его; такова квинтэссенция древнеримского воззрения». С развитием общественной жизни, т. е. с увеличением потребностей, удовлетворяемых через общество, история права представляет ряд постепенных ограничений индивидуальной свободы. Запрещается самоуправство; различные предметы, подлежавшие прежде свободному распоряжению частного лица, изымаются из его распоряжения; обязательность договоров признается с усилиями и большими ограничениями; в наследственном праве устанавливаются указанные доли и т. д. Но, ограничивая индивидуальную свободу, право, с другой стороны, защищает ее, запрещая возможные в прежнее время отчуждение и ограничения свободы, несогласимые с назначением человека в обществе. Оно обеспечивает за ним в то же время пользование в силу закона такими благами, которые прежде надо было добывать самоуправствами или особыми соглашениями <2>. Таким образом, с развитием права ограничение свободы устанавливается в интересах самой же свободы и субъективное представление о ней, как превосходно выражается Иеринг, сменяется объективным, по которому свобода является делом общественного интереса. Индивидуалистическое учение упускает совершенно из виду эту общественную сторону понятия свободы, связанную между тем так необходимо с фактом общественного сосуществования людей, и, встречаясь в жизни с отношениями, стоящими в противоречии с логическими консеквенциями из понятия абсолютной свободы личности, оно не убеждается в практической и теоретической несостоятельности этого понятия, а называет только противоречащие им отношения или исключительными, или требует их отмены и примирения с понятием свободы. Оно забывает, по меткому замечанию Вагнера, что «свобода представляет собой не аксиому, а проблему» <3> и что с точки зрения методологических приемов было бы правильнее не исходить догматически из аксиомы: люди имеют право быть свободными, — но исследовать, как они достигают того, что делаются свободными, под какими условиями и в каких границах они могут быть признаны свободными, — словом, относиться к свободе не как к исходной точке, а как к результату, который получается от взаимодействия знания, обычаев, стремления к лучшему удовлетворению потребностей и других элементов социальной жизни, под влиянием которых различные народы проходили через различные состояния свободы и несвободы, составляли различные понятия о свободе и ставили себе также различные идеалы <4>. Индивидуалистическая юриспруденция не хочет знать ничего об этом историческом процессе развития понятия свободы, который исключает всякую мысль как о его абсолютном значении, так и о возможности пользоваться этим понятием как точкой отправления при исследовании какой бы то ни было группы общественных явлений. Она принимает его как безусловный догмат, не требующий никаких доказательств, и делает из него такие же безусловные заключения о неограниченной свободе вступления в договоры, неограниченной свободе завещания, неограниченном уважении к приобретательным правам и пр. Эти выводы из принципа абсолютной свободы личности вошли с небольшими ограничениями во все новые законодательства, составлявшиеся под тем же влиянием индивидуалистического миросозерцания, под которым находилась юриспруденция, доставившая законодателю эти выводы. Из числа последних мы имели уже дело с положением о неограниченной свободе права собственности и полагаем, что доказали его неправильность, установив вместо абсолютного относительное и общественное представление этого права. К области обязательственного права относятся те выводы из принципа абсолютной свободы личности, которые произвели индивидуалистическое определение обязательства как права на чужое действие (см. выше) и положение о неограниченной свободе вступления в юридически обязательные договоры. Эти выводы вошли в состав положительных законодательств, и испытание их правильности на их точке отправления имеет для нас особенную важность, потому что они оказывают непосредственное влияние на отношения, возникающие в жизни. Точкой отправления для этих выводов служит, как мы видели, принцип индивидуальной свободы, но юристы ставят его, к сожалению, всегда a priori и не думают никогда обосновывать. Поэтому мы должны обратиться к экономистам за доказательствами этого принципа, так как они стараются показать необходимость его для определенных экономических целей. Ввиду этого нам приходится сделать новое заимствование из цитированного уже не раз сочинения Вагнера, в котором превосходно изложено все современное учение о свободе, приведена вся аргументация ее защитников и подвергнута строгому критическому анализу <5>. ——————————— <1> См.: Hofmann. Die Entstehungsgrunde der Obligation. С. 88 — 114 (где приведены обстоятельные выписки из сочинений различных философов и юристов, обнаруживающие совершенно ясно их индивидуалистическое миросозерцание, которое разделяется и самим автором (с. 65 — 72)). <2> См.: Ihering. G. d. R. R. T. II, ч. 1, с. 103 и сл.; ч. I, с. 438. <3> Lehrb. d. Pol. Oeck. С. 350. <4> См.: Wagner. Там же. <5> Там же. С. 291 — 431.
Экономическое учение о свободе. Аргументация приверженцев абсолютной свободы личности, так же как и приверженцев абсолютной собственности, основана главным образом на заключениях из психологического мотива, управляющего, по индивидуалистической теории, всей экономической деятельностью человека. Этот мотив называют личным интересом и считают его могущественным и единственно действительным рычагом, двигающим экономической деятельностью человека. Далее утверждают, что действие этого мотива для блага отдельного лица и блага всего народного хозяйства может быть удовлетворительно только при условиях современного правопорядка, потому что он регулирует гражданский оборот по нормам, предоставляющим каждому отдельному лицу возможно полную свободу относительно обладания и распоряжения всеми его личными и имущественными благами. Только при условиях такой свободы человек может достигнуть возможно больших выгод от своих экономических действий, совершение которых требуется в то же время интересом народного хозяйства. Только надежда на такие экономические выгоды и страх перед потерями заставляют человека действовать для своей и для общей пользы. Другие мотивы человеческих действий, такие, как страх наказания, чувство долга и пр., недостаточно сильны, чтобы оказывать действительное влияние на экономическую деятельность человека рядом или против мотива личного интереса, которому и должна быть поэтому в интересах народного хозяйства предоставлена возможно большая свобода, обеспечиваемая за ним нормами гражданского права. Эта общая аргументация подкрепляется далее следующими специальными соображениями. 1. Без личной свободы у человека не было бы достаточно сильного побуждения для того, чтобы работать за пределами труда, вынужденного у него силой и страхом наказания. 2. Без свободы и частной собственности на землю и капитал у человека не было бы достаточно сильного мотива для того, чтобы воздерживаться от непосредственного потребления произведений природы и своего труда; ни что не заставляло бы его заботиться о накоплении капитала или обращении его на землю для извлечения из нее большего дохода. Вследствие этого явился бы недостаток в народном капитале и в произведениях земли; ухудшились бы условия экономического положения; возможность удовлетворения потребностей уменьшилась бы и, следовательно, страдала бы вся культура народа. 3. Без свободы договорного права человек был бы лишен возможности пользоваться наилучшим образом и сообразно со своими выгодами своими личными способностями, своей рабочей силой, своей собственностью и, следовательно, не имел бы достаточно сильного мотива для экономической деятельности. 4. Без наследственного права человек был бы гораздо менее склонен к сбережению и накоплению капитала; он поглощал бы при жизни все свое имущество. 5. Наконец, без признания раз приобретенных прав отношения собственности и всего гражданского оборота утратили бы свою прочность, место которой заступило бы вредное в экономическом отношении вмешательство государственной власти, конфискующей частные имущества и лишающей отдельных лиц принадлежащих им прав. Вот и все известные доводы, приводимые обыкновенно экономистами в защиту свободы личности, признание которой есть для них вопрос первой важности, так как эта свобода составляет необходимое условие настоящего экономического порядка, основанного на начале свободной конкуренции, и необходимое предположение экономического учения, построенного на этом же начале свободной конкуренции. Все приведенные выше доводы состоят из выводов, извлеченных посредством наблюдений над хозяйственной стороной человеческой природы, и мы не отрицаем, что они заключают в себе много верных мыслей, подкрепленных опытом жизни. Но, с другой стороны, эти доводы содержат в себе неправильные обобщения, сделанные на основании наблюдений над одной только стороной исследуемых явлений, причем другая, не менее важная сторона этих явлений оставляется без всякого внимания, тогда как влияние ее изменяет значение сделанных обобщений и дает место серьезным возражениям, подрывающим их доказательную силу. Мы ограничимся изложением нескольких из самых существенных возражений, обращенных против этих обобщений Вагнером. 1. Рассматриваемое учение считает свободу личности, абсолютную собственность и неограниченную свободу договоров — как последствие двух первых институтов — необходимыми условиями экономической жизни с точки зрения не только частного, но и народного хозяйства. При этом предполагается с самого начала то, что вовсе еще не доказано, — полное тождество частнохозяйственного и народнохозяйственного интереса. Допускающие такое предположение упускают совершенно из виду вредные последствия, которыми оно может сопровождаться и действительно сопровождается для всего общества или отдельных классов его, как это показывают опыты с поземельной собственностью, с рабочими договорами, с декретированием полной свободы вступления в брак, свободы переселений и пр. 2. Свобода и собственность рассматриваются слишком односторонне как исключительно индивидуальные права, а необходимо связанные с ними обязанности совсем не принимаются или принимаются очень мало в расчет. Между тем с признанием момента обязанностей эти институты только и могут получить свой необходимо общественный и народнохозяйственный характер. 3. Взгляд на свободу и на собственность с точки зрения интереса и права отдельного индивидуума ведет к внешнему, чисто формальному отношению к этим понятиям и к слишком абсолютному, а потому неправильному формулированию основанных на них институтов. Относительно права собственности мы уже показали неправильность такого взгляда. Что касается свободы личности, то априористическое заключение о ней из существа индивидуума, мыслимого совершенно самостоятельно, имеет два следующих неудобства. Во-первых, такая свобода просто несовместима с сосуществованием людей в обществе и с требованиями экономической жизни, а потому не признается никогда вполне и положительным правом. Но следствием индивидуалистического установления понятия свободы бывает то, что к законодательству обращаются постоянно новые требования о признании возможно большей свободы личности и соответствующей ей свободы договорного права. Поэтому всякое ограничение свободы, сохраняющееся в действующем законодательстве силой исторического влияния или вводимое вновь по соображению об общественном интересе, встречает всегда принципиальную оппозицию со стороны господствующего учения, так как всякое ограничение противоречит абстрактному понятию свободы. Такую оппозицию встречают до сих пор законы об обязательности первоначального образования, об общей воинской повинности, о принудительном страховании и оспопрививании, и всегда приводится один и тот же аргумент, что этими законами стесняется личная свобода. Аргумент сам по себе правильный, но ничего не доказывающий, потому что введение обязательного образования, военной повинности и пр. показывает только, что государство не может в этих случаях обойтись без принуждения и что поэтому понятие абсолютной свободы, принимаемое за необходимое условие экономической и общественной жизни, просто несостоятельно. Во-вторых, формальное представление свободы и ее дальнейшего последствия — равенства лишает эти понятия всякого практического значения для большинства населения. Формальной свободы и равенства оказывается совершенно недостаточно для того, чтобы обеспечить за всеми действующими в гражданском обороте лицами — и главным образом при заключении ими договоров между собой — действительную свободу и равенство. Вследствие этого понятия свободы и равенства обращаются в фикции, сопровождаемые, однако, важным практическим последствием. Они дают повод требовать принципиального ограничения государственной деятельности в экономических обстоятельствах, о которых люди, считающиеся свободными и равными, могут заботиться лучше и правильнее всего сами. Образуется воззрение, что деятельность и развитие права должны состоять только в установлении свободы и равенства людей и заключиться навсегда признанием полной свободы договорного права. Это воззрение не только неправильно, но и опасно в социальном отношении, потому что личная свобода вообще и заключения договоров в особенности определяются в своем содержании и объеме и потому подвергаются ограничениям по соображениям об общественных потребностях и интересах, а так как эти последние постоянно изменяются, то и деятельность законодательной власти по отношению к ним никогда не может прекратиться, и менее всего в настоящее время, когда господствует индивидуалистическое представление свободы и признаны односторонне все последствия, выведенные из него, без всякого отношения к условиям общественной жизни. 4. Самые существенные возражения делает Вагнер господствующему учению о свободе по поводу основанной на нем системы свободной конкуренции, которая, как известно, составляет закон современного экономического порядка и высший принцип господствующего экономического учения. Требование индивидуальной свободы экономисты основывают, как мы уже видели, не так абстрактно, как юристы, и, ставя его, имеют в виду определенные экономические цели, достижение которых может считаться обеспеченным лишь при условии признания возможно более абсолютной свободы личности. Эти цели лежат в экономическом порядке, условленном системой свободной конкуренции. Следовательно, для признания индивидуальной свободы со всеми ее логическими последствиями нужно прежде всего узнать, так ли безусловно благоприятны эти цели для экономического развития народа и потом требуют ли они действительно признания такой абсолютной свободы личности, как это постановляет господствующее учение, или нет. Вагнер отвечает на оба вопроса отрицательно и подкрепляет свою критику системы конкуренции такими вескими доказательствами ее несостоятельности, что теория абстрактной индивидуальной свободы лишается своей последней опоры и должна необходимо уступить место свободе, определяемой в своем содержании законом и ограничиваемой им по соображениям об общественном интересе. Главное возражение, которое Вагнер делает системе свободной конкуренции, состоит в указании на то, что она не представляет собою того естественного (naturgemass) и логически необходимого состояния народного хозяйства, как это утверждается господствующим учением. Не представляет же она собою такого естественного состояния, во-первых, потому, что допущение его основано на смешении понятий относительно существа личного интереса. Личный интерес представляет собою не какую-нибудь естественную силу, которая действовала бы в экономическом мире, так же как, например, сила тяжести действует в физическом, а только мотив воли человека, который может возбуждать ее к экономической деятельности. Но как мотив воли, а не непосредственная причина экономических действий человека личный интерес только может, но вовсе не должен необходимо определять человеческие действия, и как простой мотив он может управляться разумом и подвергаться влиянию других мотивов, которые в отдельных случаях способны изменить, изменяют действительно и даже уничтожают совсем действие личного интереса. Поэтому-то и вменяемость лицу его экономических действий вовсе не изменяется оттого, что они совершаются обыкновенно под влиянием личного интереса. Во-вторых, система конкуренции не есть естественное, логически необходимое состояние народного хозяйства еще потому, что она сложилась исторически, в зависимости от условий пространства и времени, после того как средневековый порядок разрушился и человек освободился от связей со своим родом, сословием, промыслом, общиной и другими общественными союзами, в которых он жил до тех пор. Система конкуренции сделалась наконец возможной благодаря определенным юридическим нормам, установленным новым законодательством и обеспечивавшим за личностью полную свободу действий и распоряжения ее имуществом и личными благами. Следовательно, современная нам система свободной конкуренции есть просто «историческая, а не логическая категория» и ни в каком случае не может рассматриваться как последняя и необходимая форма экономических отношений. Последствия, которые выводят из положения о «естественности» системы свободной конкуренции, должны быть так же ложны, как ложно и самое положение. Говорят, например, что все экономические явления, совершающиеся в силу начала свободной конкуренции, суть «естественные необходимости», поэтому они неизменны и справедливы. Говорят далее, что свободная конкуренция обеспечивает успех за сильными и свободными людьми, а потому заключает в себе основание справедливого состояния всего народного хозяйства, и в частности справедливого распределения экономических благ. Вмешательство государства в экономические обстоятельства за пределами охранения норм гражданского оборота считается не только противным природе хозяйства и вредным как для отдельного лица, так и для всего общества, но также несправедливым, так как оно вводит новое начало в образование цен на экономические блага и препятствует действию свободной конкуренции. Политика государства в отношении к народному хозяйству определяется как политика «laissez faire et passer», так как нельзя представить себе более правильного и справедливого вознаграждения за экономическое действие, чем то, которое получается по закону спроса и предложения. Торговлю называют орудием распределяющей справедливости, а конечными результатами системы хозяйства, основанной на начале конкуренции, считают «гармонию интересов», противоположность которых есть только кажущаяся. Экономические невзгоды суть последствия ограничений свободной конкуренции, которая остается, таким образом, единственным действительным средством против них. Опровержение этих выводов не представляет трудностей, так как они основаны частью на ложных, частью на недоказанных «аксиомах» и при этом или совершенно упускают из виду дурные последствия системы конкуренции, или оправдывают их ложными соображениями. Ложно, во-первых, утверждение, что экономические явления совершаются по закону естественной необходимости, так как они находятся в зависимости от существующего правопорядка и других социальных сил, способных изменяться, а следовательно, изменять также форму выражения экономических явлений. Неправильно также утверждать, что каждый судит лучше всего сам о своем экономическом интересе, что он один несет ответственность за свое хорошее или дурное экономическое положение и что вмешательство государства в экономические обстоятельства бывает всегда вредно. Утверждение, что экономическая справедливость может существовать только при свободной конкуренции, сводится, так же как и большая часть приведенных положений, к очевидной petitio principii, так как, говоря, что справедливым может считаться только такое образование цен, которое совершается по закону спроса и предложения, экономисты повторяют, только в другой форме, положение, которое должно быть доказано, но вовсе не доказывают его. Во-вторых, оптимистическое воззрение на свободную конкуренцию основано на смешении гипотетических положений с чисто научными. Оно черпает свои выводы исключительно из начала личного интереса и получает поэтому положения, могущие иметь только гипотетическое значение. Волей человека и его действиями управляет не один личный интерес, а также другие мотивы, которые можно разделить на хорошие и дурные. К первым относятся чувства любви и долга, выражающиеся в различных формах — то как семейное чувство, то как дух общего блага, то в виде религиозного настроения или готовности к самопожертвованиям. Между дурными мотивами можно указать на извращенное представление о личном интересе, обращающееся в эксплуатацию других людей, на леность, безнравственность, склонность к мотовству и пр. Все эти мотивы действуют в человеческой природе рядом с мотивом личного интереса, и потому право на научное значение могут иметь только такие выводы из человеческой природы, которые принимают в соображение все исчисленные мотивы человеческих действий, а не основываются только на одном из них. Последние выводы могут быть, конечно, допущены ввиду методологических удобств, представляемых частичным анализом сложных явлений общественной жизни, но они останутся чисто гипотетическими, пока не будут соединены и сопоставлены с выводами из других сторон человеческой природы и проверены затем в жизни. Защитники свободной конкуренции не делали никогда заключений из других мотивов человеческой природы, кроме личного интереса, выдавая между тем эти односторонние и гипотетические заключения за безусловные истины, на которых думали основать неизменные экономические законы. Этой методологической ошибки, кажется, уже довольно для того, чтобы отнять у экономической теории свободной конкуренции всякое научное значение, и потому мы не последуем за Вагнером в дальнейшей критике этой системы, раскрывающей много других вредных последствий, к которым она приводит <1>. Нам довольно было показать, что цели, ради которых экономисты требуют признания безусловной свободы личности, вовсе не так благоприятны для народного хозяйства, как это силятся доказать теоретики системы конкуренции, фальсифицирующие с этой целью приемы научного метода. Понятно, что индивидуальная свобода, требуемая для осуществления таких сомнительных целей, какими являются цели свободной конкуренции, выведенные при этом путем смешения научных положений с гипотетическими, — понятно, что такая индивидуальная свобода не может быть признана истинной и не может служить высшим принципом для права, из которого оно брало бы свои заключения. Для полного доказательства этой мысли необходимо разрешить еще один вопрос, который был поставлен выше. Правда ли, что экономические цели системы конкуренции, основанные на выводах из такого важного мотива человеческой природы, как личный интерес, вследствие важности которого эти выводы под известными условиями и в пределах их гипотетичности могут быть оправданы для многих групп экономических явлений <2>, — правда ли, что эти цели требуют такого безусловного признания индивидуальной свободы, как учат экономисты? Вагнер утверждает противное, и ему нетрудно доказать свою мысль, потому что невозможность признания безусловной свободы личности со всеми ее последствиями выводится, как мы видели, уже дедуктивно из одного факта человеческого общежития, который необходимо приносит с собой ограничения свободы. Тем не менее Вагнер перебирает все последствия признания индивидуальной свободы общественной властью и показывает наглядно невозможность проведения их в жизнь без необходимых ограничений, устанавливаемых в общественном интересе <3>. Многие из таких ограничений признаны современными законодательствами, как это и не может быть иначе, несмотря на то что они сложились под влиянием индивидуалистического миросозерцания и потому оставляют в этом отношении желать еще многого. Так, например, относительно требования абсолютного равенства людей, вытекающего из принципа индивидуальной свободы, все новые законодательства содержат или должны содержать в себе необходимые различия пола, возраста, общественного положения людей, различие экономического положения местности и другие различия, устранение которых и подведение под одни и те же нормы было бы несправедливо и в экономическом, и в юридическом отношении. Но, к сожалению, законодательная власть не заботилась до сих пор, чтобы признанный ею принцип равенства перестал быть исключительно формальным и получил действительное значение для всех классов общества. Она могла бы достигнуть этого, по мнению Вагнера, уравнением условий приобретения для всех людей посредством общего ограничения системы свободной конкуренции и расширения сферы кооперативного производства <4>. Относительно неограниченной свободы вступления в брак, свободы передвижения, выселения и других последствий признания принципа индивидуальной свободы Вагнер приводит также доказательства необходимости ограничения и этих видов свободы по соображению с общественным интересом. Относительно неограниченной свободы права собственности мы знаем уже, что она не может существовать и подлежит тем же ограничениям, основанным на начале общественного интереса. Что касается, наконец, неограниченной свободы заключения договоров, то она не может быть признана по тем же соображениям, по которым мы вообще не признаем никакой неограниченной свободы. ——————————— <1> См. в особенности с. 197 — 206 и далее. <2> Wagner. Там же. С. 355. <3> С. 357 — 431. <4> Там же. С. 361, 363.
Что касается положительных законодательств, то они дают также множество примеров ограничения договорного права, на которые мы указывали прежде и укажем еще в дальнейшем ходе нашего исследования. В настоящую минуту нам довольно сослаться на новые фабричные законодательства и на законы об ответственности фабрикантов, компаний предпринимателей и государства перед частными лицами за всякий ущерб, наносимый их здоровью или имуществу при работе или пользовании учреждениями, принадлежащими фабрикантам, компаниям или государству. Немецкий Закон об этой ответственности фабрикантов и компаний от 7 июля 1871 г. в § 5 и наш Закон об этом же предмете, изданный 25 января 1878 г., в § 3 объявляют при этом недействительным всякое частное соглашение, которым устранялась бы означенная в этих Законах ответственность. Очевидно, что и фабричное законодательство, и приведенные сейчас Законы, и многочисленные постановления общего гражданского и торгового права о формальных обязательствах, о которых речь будет ниже, содержат в себе несомненные ограничения индивидуальной свободы ввиду общественного интереса, который в обязательственных отношениях выступает с такой же силой и с таким же значением их юридического основания, как и в отношениях, возникающих из права собственности. Результат всего сказанного мы можем выразить в следующем положении: понятие индивидуальной свободы, служащее в настоящее время точкой отправления для господствующего учения как в политической экономии, так и в гражданском праве, а в особенности точкой отправления всей современной теории обязательств, представляет собой не что иное, как формальный принцип, экономическое и общественное действие которого зависит исключительно от содержания и объема, предоставляемого ему правом. Субъективизм господствующей теории права и ее противоречия либо с требованиями жизни, либо со своим собственным принципом объясняются вполне игнорированием этой простой истины об относительности понятия свободы, тогда как признание ее заключает в себе необходимое указание на общественный интерес как на начало, ограничивающее и определяющее действие индивидуальной свободы в жизни и в гражданском обороте. Общественный интерес как основание юридической силы обязательств. Как скоро общественный интерес определяет и ограничивает действие индивидуальной свободы, следовательно, он дает и основание для юридической силы обязательств, представляющих собой не что иное, как ограничения индивидуальной свободы, постановляемые правом или по поводу частных соглашений, когда они служат уважительным интересам и отвечают требованиям общественного интереса, или по поводу других событий, являющихся в отдельных случаях, так же как и частные соглашения, только конкретными причинами возникновения обязательств, но никак не их юридическим основанием, которым остается постоянно объективное право, признающее или отвергающее обязательства, смотря по тому, в каком они стоят отношении к общественному интересу. Это положение вытекает непосредственно из всего, что мы говорили до сих пор о понятиях права и свободы, и оно так очевидно само по себе, что принимается отчасти даже господствующей юриспруденцией, несмотря на то что противоречит ее субъективному взгляду на право. Но, понятно, господствующая юриспруденция принимает это положение не как общий юридический принцип, сила которого распространялась бы на все права, и в частности на все обязательственные отношения. Она допускает его только как вспомогательное положение для обоснования таких юридических отношений, которые уже по самой своей сущности не могут быть объяснены действием индивидуальной воли, как, например, обязательства из деликтов, из опеки, обязательства между родителями и детьми и другие обязательства, возникающие исключительно в силу закона. Господствующее учение допускает по необходимости, что эти обязательства существуют на основании закона, но отвергает такую же связь с законом и с представляемым им началом общественного интереса в самой важной и многочисленной группе обязательств — в обязательствах по договорам, основанием которых оно считает, как мы уже знаем, либо индивидуальную волю должника, либо конценс двух воль, либо автономию лица, устанавливающего для себя собственный закон <1>. Неправильность этой теории договора была указана выше и на ее практических последствиях, и на точке отправления индивидуальной свободы, так что мы не имеем теперь надобности возвращаться к ней и можем ограничиться замечанием, что ошибка господствующей теории договора состоит в том, что она ищет разрешения вопроса о его обязательном действии в природе индивидуальной воли и упускает совершенно из виду цель и функцию, исполняемую договором в гражданском обороте. ——————————— <1> Hofmann. Указ. соч. С. 101 и сл.
Цель и основание обязательного действия договоров. Цель договора составляют интересы материальной и нравственной природы человека, возможность удовлетворения которых выходит за пределы его личных сил и средств и требует поэтому необходимого содействия со стороны других людей, с которыми он и вступает для удовлетворения таких интересов своей природы в различные соглашения. Простейшую форму этих соглашений, соответствующую самым элементарным потребностям человека, образуют договоры мены и купли-продажи, когда они сопровождаются непосредственным обменом вещей и непосредственным исполнением купли-продажи обеими сторонами, т. е. немедленной передачей вещи и немедленным вручением другой стороной продажной цены. Такими договорами устанавливается непосредственно право собственности или какое-нибудь иное вещное право на обменянную или купленную с приобретением непосредственного владения вещь. Эти договоры суть простые способы приобретения вещных прав и не представляют собой никаких особенностей; их юридическое основание совпадает с основанием устанавливаемых посредством их вещных прав, так что если бы область договоров ограничилась указанной формой, то понятие договора не имело бы самостоятельного юридического значения. Защита договора равнялась бы защите вещного права от посягательств посторонних лиц, и тогда не было бы никакой надобности в особенной теории договора и в особенном обосновании его юридической силы. Между тем обязательственный договор, т. е. договор, которым устанавливается не вещное, а обязательственное право, имеет, как мы покажем сейчас, вполне самостоятельное юридическое значение, обусловленное таким свойством его, которое отсутствует в указанной выше форме договора, почему эта последняя должна быть совершенно выделена из сферы обязательственного договора, которую она только запутывает, и перейти всецело в область вещных прав, так как она служит одним из конкретных способов их возникновения. Это особенное свойство обязательственного договора заключается в том, что он не сопровождается в момент совершения его непосредственным исполнением, которое откладывается обеими договаривающимися сторонами или одной из них на определенное пространство времени, лежащее в будущем. Так, например, римская купля-продажа, которой соответствует у нас запродажная запись, состояла во взаимном соглашении о передаче вещи и о платеже за нее другой стороной установленной цены — только в будущем времени. В договоре займа передача заимодавцем должнику заемной суммы необходимо предшествует возвращению ее со стороны должника — возвращению, которое может последовать лишь по истечении определенного в договоре промежутка времени. Точно так же немыслимо непосредственное исполнение договора при имущественном и личном найме — все равно, будет ли наемная плата уплачена перед пользованием или после пользования вещью или действием; одна из договорившихся сторон будет всегда вынуждена исполнить договор прежде другой и ожидать исполнения его противной стороной в будущем. Такие договоры, предполагающие необходимо то, чтобы исполнение по ним откладывалось до будущего времени, представляют громадный шаг вперед сравнительно с договорами, сопровождаемыми непосредственным исполнением. На место обмена действиями они ставят простое обещание, на место вещи — слово и освобождают таким образом договаривающихся от необходимости удовлетворять своим потребностям в пределах средств, которыми они располагают лишь в данный момент времени. Они дают им возможность осуществить свои надежды на будущее, черпать из него средства для настоящей деятельности или, как говорит Иеринг, они дают возможность дисконтировать будущее <1>. В этом освобождении договора от условий настоящего и в предоставляемой им возможности пользоваться будущим для цели удовлетворения потребностей настоящего и заключается функция обязательственного договора, придающая ему чрезвычайно важное значение в экономической и общественной жизни народов. Но чтобы слово могло заменить вещь или действие, необходима уверенность в том, что оно будет в свое время обменяно на действие, потому что без такой уверенности слово оставалось бы пустым словом, не перешло бы в действительность и никак не могло бы выполнить функцию, которую оно выполняет в обязательственном договоре. Необходима, следовательно, гарантия исполнения данного слова, которую и представляет принуждение, имеющее место против должника в случае неисполнения им своего обещания. Это принуждение составляет необходимое условие принятия его обещания кредитором, и оно установлено в интересе не только последнего, но и должника, так как без гарантии принуждения никто не вступил бы с ним в обязательственный договор. Отсюда видно, что объяснение обязательного действия договора и охранения исполнения его принудительной властью государства должно заключаться не в чем другом, как в практической функции договора — в цели, которой он служит в гражданском обороте и которая иначе была бы недостижима. Если бы обязательства нельзя было вынудить принуждением, то заем сохранился бы только в отношениях друзей между собою и совершенно бы исчез из торгового оборота. Точно так же пришлось бы вычеркнуть из числа договоров наем и другие обязательственные договоры, так как никто не стал бы уступать пользование своей вещью или оказывать какие-нибудь услуги постороннему для него лицу, если бы он не был обеспечен в получении наемной платы или условленного вознаграждения, так же как никто не стал бы платить вперед эту плату и вознаграждение, если бы он не был твердо убежден в том, что обещанное пользование вещью или услугами будет ему действительно предоставлено. Тогда в гражданском обороте остались бы только формы договоров мены и купли-продажи с непосредственным исполнением, от чего, естественно, страдало бы все общество. Следовательно, обязательное действие договора обусловливается прямо его функцией в гражданском обороте и оказывается практической необходимостью для гражданского оборота; отсюда ясно, что и основание обязательного действия договора следует искать в обстоятельствах, обусловливающих его необходимость в жизни, а вовсе не в моменте воли или, что то же самое, не в формальном понятии обещания, которое само по себе, т. е. без постановления права о его принудительно-обязательной силе, не имеет ровно никакого практического значения. Ответ же на вопрос, почему для права необходимо признание принудительного действия обязательственных договоров, не представляет никаких трудностей, так как мы видели, что без принудительного действия договоры не могли бы существовать и отдельные лица были бы лишены тогда возможности удовлетворять посредством договоров своим насущным потребностям. Следовательно, основание обязательного действия договора лежит, очевидно, в общественном интересе, требующем обеспечения в форме принуждения целей, которые отдельные лица преследуют при вступлении в договоры друг с другом. Эти цели заключаются в интересах, удовлетворяемых посредством договоров и отличающихся своим относительным характером, так как они определяются тем, что типический индивидуум или общество данного времени рассматривает как условие и цель жизни. Поэтому интересы отдельного лица должны и в области договоров ограничиваться интересами общества, изменяющимися вместе с его историей, так что договорное право оказывается в такой же зависимости от условий времени и пространства и подвергается таким же изменениям, как и всякое другое право. Неправильное отношение к нему господствующего учения состоит именно в том, что оно отвлекается от жизни и отвечает на вопрос об обязательственном основании договоров абстрактной формулой, утверждающей безусловно для всякого времени и места один и тот же принцип воли. Это утверждение, естественно, опровергается данными истории права. Краткий очерк истории развития договоров в римском праве, помещенный Иерингом в его «Zweck im Recht» (с. 267 — 287), показывает ясно, что идея обязательного действия простого обещания независимо от других соображений была всегда чужда римскому праву, которое сначала давало иски только по реальным договорам, возникающим вследствие передачи вещи, а потом признавало постепенно другие формы договоров по мере того, как оно сознавало необходимость обеспечивать цели, достигаемые посредством этих договоров. В пользу утверждения господствующего учения об обязательственном основании договоров могло бы говорить одно только обстоятельство, если бы оно было справедливо. Большинство немецких юристов привыкли думать, не входя в исследование вопроса, что договоры древнегерманского права, в отличие от римских, считались действительными и исковыми без всякого отношения к форме, которая имела значение только для облегчения или укрепления доказательств договора <2>. Не говоря о том, что этот взгляд вовсе не доказан его приверженцами, мы скажем, что он противоречит началу формализма, составляющему, как показал Иеринг во втором томе своего «Духа римского права», закон всякого первоначального состояния права, предшествующего периоду его свободного развития. К тому же новые исследования некоторых германистов обнаружили, что «средневековая система договоров покоилась, подобно римской, на принципе формализма». Противоположность между формальными, реальными и конценсуальными договорами была в ней так же ясно очерчена, как и в римском праве <3>. Основываясь на этих исследованиях, показавших, что древнегерманское право было знакомо только с формальными и реальными, но не с конценсуальными договорами, один из немецких юристов, Карлова, может утверждать теперь, что положение, по которому обязательственные договоры действуют принудительно независимо от своей формы, образовалось под влиянием рецепции римского права, приостановившей развитие чисто германских формальных договоров <4>. ——————————— <1> Zweck im Recht. С. 262. <2> Stobbe. Zur Geschichte des Deutschen Vertragsrecht. § 2, 3. С. 12 — 25; Beseler. Syst. I. § 101. С. 405 — 406; Виндшейд. Pand. II. § 312. С. 198 и пр. Зигель (Geschichte des deutschen Gerichtsverfahen I. С. 40) полагает, что как в римском, так и в германском праве существовали и формальные, и бесформенные договоры, но тогда как римское право не считало последние исковыми, германское рассматривало формальные договоры как бесспорные, а бесформенные — тоже как исковые, но оспоримые. <3> Sohm в: Zeitschriftf. Priv. und Oeffentl. R. I. С. 246. <4> Karlowa. Das Rechtsgeschaft. С. 255.
Из сказанного следует, что мысль об обязательном действии данного обещания никогда не была юридическим основанием договора, и если история права представляет большое разнообразие форм, в которых обязательная сила приписывалась либо одним договорам, либо другим, то это обстоятельство утверждает снова начало общественного интереса как юридического основания договоров, изменяющего свои требования сообразно с условиями времени и места и признающего обязательную силу то за одними, то за другими договорами, смотря по их целям и по отношению к этим целям общественного интереса. Содержание и предмет обязательства; различие между ними. Определив таким образом юридическое основание и цель договоров, нам остается выяснить их содержание и показать, что оно, так же как и содержание права собственности, обусловливается соображением об общественном интересе. Мы знаем, что господствующий взгляд видит содержание договоров, как и всех других обязательств, в праве на чужое действие и соединяет при этом с понятием последнего и цель, и юридическое основание, и содержание прав по обязательствам. Неправильность этого взгляда мы показали при его разборе на противоречии, в котором он находится с принципом свободной воли, служащим краеугольным камнем господствующей теории права, и на невозможности объяснить с помощью этого взгляда случаи исполнения обязательств третьими, не уполномоченными от должника лицами, случаи делимости обязательств, продолжения их действия, несмотря на отсутствие личности должника и пр. (с. 168 — 172 N 1 ВГП за 2013 г.). Анализ этих случаев привел нас к выводу, что ни действие должника, ни действие вообще другого лица не может быть признано содержанием обязательства, так как это действие служит лишь одним из возможных средств для достижения цели обязательства, заключающейся в удовлетворении интереса, ввиду которого оно было установлено. Содержание обязательства, так же как и всякого другого права, может, согласно с нашим общим представлением о праве, состоять только в юридической защите интереса, которому служит обязательство, — в возможности осуществить этот интерес обращением к государственной власти. Следовательно, обязательство, рассматриваемое со стороны своего содержания, представляет, как и всякое другое право, не что-либо действительно существующее во внешнем мире в форме видимого и ощутимого предмета. Содержание обязательств и других прав составляет только возможность защиты, следовательно, только умственное представление, образующееся у человека в соответствии с известными явлениями жизни и в силу того или другого отношения его к этим явлениям <1>. Эти последние реально существуют в мире, и если человек вступает с ними в отношение, защищаемое общественной властью, они делаются объектами его права. Таким образом, объекты права имеют предметное существование в мире, тогда как само право в своем содержании есть отвлечение от них, возможность обеспеченного пользования данным объектом. Отсюда видно, что неправильно смешивать объект обязательственного права с его содержанием, которое господствующий взгляд видит в том, что составляет один из его возможных объектов, — в действии другого лица, которое уже потому, что оно есть действие, не может быть содержанием права по обязательству, состоящим, как и всякое право, только в возможности защиты. Что касается понятия объекта, то в обязательственных правах оно далеко не имеет того важного значения, как в вещных правах. Объектами собственности служат, как мы знаем, движимые и недвижимые вещи, различные виды последних и пр. Каждый из этих объектов имеет свое особенное назначение в экономической и общественной жизни человека, почему каждому из них соответствует особое, согласное с его природой содержание права. Не то мы видим в обязательствах. Объектами их вместе с содержанием господствующий взгляд считает, как мы уже знаем, чужие действия. Несколько далее идет Брунс <2>, говоря, что «предметами обязательств служат последовательно то должник, то его воля, то действие, то содержание действия, то вещь, к которой оно относится, то результат, который оно должно произвести». К перечисленным Брунсом предметам обязательств можно присоединить еще много других. ——————————— <1> См.: Шлоссманн. Der Vertrag. С. 247 и сл. <2> Holtzendorf. Encyclopedie. С. 384.
Так, например, к должнику можно присоединить его имущество; к действию его — судебное исполнение и другие юридические акты, достигающие той же цели; к воле должника — волю других лиц, которые в корреальных и солидарных обязательствах, а равно и при конкурсе обязаны уважать права требований своих сокредиторов и пр. Словом, понятие объекта обязательственного права так общо и растяжимо, что к нему может подойти с небольшими ограничениями все что угодно, и потому мы решительно сомневаемся в практической и научной полезности этого понятия для теории обязательственного права. В вещных правах понятие объекта вполне соотносительно с понятием их цели. Объектом вещного права является определенная индивидуально вещь, служащая всегда одной и той же определенной цели, чем мы и объясняли важное влияние, оказываемое объектами на содержание вещных прав. В обязательствах, напротив, нет такой соотносительности между понятиями объекта и цели обязательственного права. Объектами последнего являются в огромном большинстве случаев не индивидуальные вещи, заключающие обыкновенно уже сами в себе указание на цель, которой они служат в юридических отношениях к ним человека, а вещи, существующие в природе в виде целого рода вещей, которые могут быть заменены вещами, принадлежащими даже к другим родам, так что вещи или блага, служащие предметами обязательства, сами по себе вовсе не выясняют его цели, которая существует независимо от них и достигается получением различного рода вещей и благ. Объектов обязательств может быть вообще столько же, сколько и объектов права, если только закон не исключает в применении к некоторым из них возможности установления обязательств, а при способности этих объектов замещаться друг другом совершенно понятно, что они не могут представить собой самостоятельной категории для прав по обязательствам и служить основанием их различия по содержанию. Единственная группа обязательств, в которой понятие объекта играет роль, — это обязательства, направленные на индивидуально-определенную вещь и на чисто личные действия, обусловленные в своем исполнении особенными качествами участвующих в них лиц. Но мы увидим, что и эти обязательства, несмотря на их одинаковые объекты, могут существенно разниться друг с другом в своем содержании и, наоборот, сходиться в нем с другими группами обязательств, несмотря на полное различие объектов. Таким образом, основание различного содержания обязательств заключается вовсе не в качестве объекта, служащего лишь одним из возможных средств для достижения цели обязательства, — оно заключается, как мы это покажем, в различии соображений, ввиду которых объективное право обеспечивает интересы, удовлетворяемые через обязательства, и определяет так или иначе характер предоставляемой им защиты. Существующие теории формальных и материальных обязательств. Для доказательства такой зависимости содержания обязательств, или рода защиты их, от различного отношения объективного права к интересам, удовлетворяемым через обязательства, или к цели их мы остановимся на одном из важнейших делений обязательств, прямо основанном на различном отношении к ним общественного интереса. Это деление обязательств на материальные, или индивидуальные, и формальные, или абстрактные. Предметы этих обязательств бывают одни и те же: вещи и действия, как индивидуальные, так и генерические. Между тем содержание их, т. е. характер и объем защиты, предоставляемой правом лицам, вступающим в материальные и формальные обязательства, существенно различно. Основания этого различия нельзя искать также в цели тех и других обязательств, так как мы знаем, что конечной целью всех без различия обязательств служат интересы, для удовлетворения которых их устанавливают. Господствующий взгляд видит различие между материальными и формальными обязательствами в том, что первые заключают в себе свой каузальный момент, т. е. означают цель, для которой они установлены, а вторые отвлекаются от нее <1>. Указываемое различие существует в действительности, так как объективное право постановляет по отношению к одним из этих обязательств чрезвычайную индивидуализацию обязательственных отношений, защиту их по началу bona fides, доброй совести, а по отношению к другим — чрезвычайное стеснение этого же начала, отвлечение обязательств от всех соединенных с ними индивидуальных отношений и обращение их в твердые типические формы, исключающие всякий спор о способе их возникновения или о размере заключающихся в них прав и обязанностей. Но, с другой стороны, абстрактность, составляющая действительное свойство формальных обязательств, а индивидуальность — свойство материальных, представляют собою только внешние признаки отличия их друг от друга, последствие их функций в гражданском обороте, но никак не основание их различного содержания, так как свойства абстрактности и индивидуальности вовсе не объясняют, почему к материальным обязательствам применяются одни правила защиты, а к формальным — другие. Господствующее учение не разъясняет этого вопроса и не может разъяснить его, так как начало индивидуальной воли должно иметь в тех и других обязательствах одинаковое значение и сопровождаться одинаковыми последствиями, так что само различие между материальными и формальными обязательствами по содержанию является уже противоречием с господствующим учением об обязательствах. Несмотря на это противоречие, господствующее учение признает указанное различие как существующий факт, но не объясняет его и даже, как это мы увидим, не оценивает по достоинству. В вопросе о формальных и материальных обязательствах, как и в большинстве вопросов современной юриспруденции, мы встречаемся с большим разногласием между юристами, распространяющимся как на формулирование различия между этими обязательствами, так и на оценку значения этого различия. Так, например, Савиньи говорит: «Особое существо формальных договоров состоит не в особенном содержании [содержание принимается здесь, очевидно, в смысле предмета договора] или цели их, как в других договорах, но в особенной форме объявления воли, которая совместима со всяким произвольно избранным содержанием договора и способна сообщить ему высшую исковую силу. Поэтому природа этих договоров обозначается лучше всего выражением «формальные договоры» в противоположность «бесформенным», особенная природа и обязательное действие которых находят свое основание не в форме, а в особенном содержании этих договоров» <2>. Исковая сила последних никогда не подразумевается сама собою — она должна сообщаться им извне, и этот внешний придаток, укрепление, необходимое для бесформенных договоров, называется их causa <3>. Противоположным характером отличается формальный договор, прототипом которого служила в Риме стипуляция. В ее форму могли облекаться все договорные соглашения, и тогда они производили иски независимо от своего содержания, между тем как бесформенные договоры, nuda pacta, получали исковое значение только при означении в них специальной causa, если при этом право признавало за последней обязательное действие <4>. Суждение о тех и других договорах в Риме было совершенно различно. Формальные договоры обсуждались по строгому праву, по твердо определенным нормам, не допускающим в применении никаких соображений об индивидуальных особенностях конкретного случая. Разрешение споров по этим договорам принадлежало судье, judex, назначаемому претором и представляющему его место, так как он должен был держаться буквально границ, предписанных ему инструкцией претора и не выходить из них ни на шаг. Что касается бесформенных, или материальных, договоров, каковы, например, купля-продажа, наем и пр., то они охранялись, по мнению Савиньи, прежде всего обычаем и доброй совестью участвующих в них лиц, а в случае разномыслия последних, происходящего от возможности ошибки их во взгляде на свое и чужое право, судебная защита этих договоров принимала в Риме форму назначения претором, по выбору тяжущихся сторон, одного или нескольких третейских судей (arbitri), обязанных руководствоваться в своих решениях уже не строгим и всюду одинаково применяемым правом, а началом bona fides, представляющим им полную возможность индивидуализации решений, т. е. сообразования их с материальной обстановкой каждого отдельного случая <5>. Это различие в суждении о формальных и материальных договорах Савиньи признает совершенно правильно и в новом римском праве, несмотря на то что в нем исчезло различие между judex и arbiter, исчезли исковые формулы и другие исторические обстоятельства, под влиянием которых сложилась система исков stricti juris и bonae fidei <6>. Мы покажем ниже, что это различие между теми и другими исками сохранилось в новом римском праве именно потому, что оно было основано, независимо от исторических влияний, на различии функций этих исков — различии, которое действовало во время Юстиниана и действует в настоящее время с несравненно большей силой, чем в Древнем Риме. Поэтому-то мы и перестаем соглашаться с Савиньи, когда он утверждает, что указанное различие исков не должно быть допущено в настоящее время, и мотивирует это утверждение тем, что во всех случаях, в которых римляне принимали то различие, действует теперь только один принцип bona fides, т. е. принцип свободной индивидуализации решений <7>. Мнение Савиньи явно противоречит бесспорному и им же высказанному положению, что «ни одно положительное право, служащее основанием для гражданского оборота, не в состоянии существовать без формы, посредством которой договор <8> мог бы обязывать и производить иск независимо от своего особенного содержания». Признав необходимость формального договора, Савиньи говорит далее, что так как римское право было реципировано в Германии не в какой-нибудь части, а как цельное право, то рецепция должна была распространиться и на стипуляцию, составлявшую существенную часть реципируемого права. Но так как, с другой стороны, право стипуляции, т. е. действие ее, было условлено в Риме фактом, или формой стипуляции, имевшей основание в народном обычае римлян, который не существовал в Германии, то в Германии могло быть принято положение только об исковом действии стипуляции, но не о ее особенной форме, состоящей в обязательном вопросе и ответе. Вследствие этого отвлечения от формы стипуляция обратилась в Германии сама собою в бесформенный договор и сделала необходимым без постановления законодательной власти положение, по которому всякий договор независимо от своей формы должен иметь исковое значение: «Стипуляция слилась таким образом с конценсуальными договорами и с nudum pactum» <9>. Мы видим в этом выводе Савиньи новую ошибку и новое противоречие с признанной им же необходимостью формального договора для гражданского оборота. Как, в самом деле, совместить признание этой необходимости с удовлетворением ее посредством бесформенных договоров и допущением слияния последних со стипуляцией, когда такое слияние уничтожает между ними всякое различие и делает формальный договор совершенно излишним? Это противоречие во взгляде Савиньи на формальные и бесформенные договоры лишает его всякого научного значения и объясняется, по нашему мнению, тем, что Савиньи исследует эти договоры не для того, чтобы установить их отличие друг от друга и выяснить их особенные качества, а исключительно с целью показать, что исковое значение принадлежит в настоящее время всем бесформенным договорам, потому что они заступили место римской стипуляции. Нечего говорить, что это положение — неправильное уже потому, что оно сводится опять к началу индивидуальной воли как к единственному основанию обязательного действия договоров независимо от всех других соображений, — не дает никакого материала для суждения о значении и различии рассматриваемых нами видов договоров. ——————————— <1> См.: Виндшейд. Пандекты II. § 364; Bahr. Ueber den Anerkennungsvertrag в: Jahrbucher f. Dogmatik II. С. 293. <2> Obligationenrecht II. § 72. С. 197. <3> Там же. С. 198. <4> Там же. С. 231. <5> Savigny. System V. § 219. С. 112 и 113. <6> Там же. § 224. С. 136 — 137. <7> Там же. С. 138. <8> Obligationenrecht II. § 77. С. 239. Мы выпускаем в нашем переводе слова «jeder beliebige [Vertrag]», так как они не имеют существенного значения для цитируемого в тексте положения и вследствие своей неправильности вредят только силе выраженной в нем правильной мысли. <9> Там же. С. 239 — 241.
Другая теория, относящаяся к этим договорам, противоположна теории Савиньи <1>. Она утверждает, что стипуляция, как чисто формальная сделка, производила иск, независимый от ее causa, только в древнеримском праве. Впоследствии же, когда юриспруденция бросила формализм и начала обращать больше внимания на материальный состав юридических отношений, практический успех иска по стипуляции стал обусловливаться, так же как и по всем другим договорам, доказательством лежащей в его основе causa, т. е. доказательством того материального юридического отношения, на установление или прекращение которого была направлена стипуляция. Рецепция римского права не распространилась на стипуляцию в смысле древнеримского права, вместе с которой пало и представляемое ею положение об исковом значении формального договора. В настоящее время необходимо подкреплять всякий иск доказательством его causa, которая может быть causa donandi, solvendi или credendi, но во всяком случае без какой-нибудь из этих causa договор не бывает исковым. Иски по векселям и некоторым другим формальным обязательствам являются отдельными исключениями, основанными на определении положительного закона и не нарушающими общего правила о необходимости договорной causa <2>. В опровержение этой теории мы скажем только, что формальные иски возникали в римском праве не из одной стипуляции, а также из займа, из indebitum solutum и других отношений, о которых нельзя говорить, что они были в настоящее время так же непрактичны, как и отношения, нормируемые стипуляцией <3>. Кроме того, изложенная теория упускает совершенно из виду выгоды, доставляемые формальными исками, и, не приводя против действительности последних никаких серьезных доказательств, освобождает нас от необходимости заниматься ее дальнейшим опровержением. ——————————— <1> Она выставлена Либе (Liebe. Die Stipulation und das einfache Versprechen. С. 1 — 66), и к ней примыкают более или менее Пухта (Pand., § 257; Inst. II. § 271. С. 348 — 349), Синтенис (das pract. gem. Civilr. II. § 96. Примеч. 25), Гнейс (die formel. Vertrage. С. 113, 230) и пр. <2> Ср.: Арндс. Пандекты. § 233. Примеч. 8. <3> Опровержение других аргументов, на которые опирается разбираемый взгляд, см.: Савиньи. Obligats. II. § 78.
Существует, наконец, третья теория формальных и материальных договоров, выставленная одним из самых здравых и одаренных наибольшим практическим смыслом юристов нашего времени — Беером <1>. Она приближается к теории Савиньи, не впадая, однако, в ее противоречия. Беер не смешивает формальных договоров с материальными, не говорит об их слиянии и признает вполне противоположность их между собою, формулируя ее следующим образом: последние находятся в связи и в отношении зависимости со своим юридическим основанием, а первые не зависят и совершенно отделены от него <2>. Выбор одной или другой формы договора зависит от воли контрагентов, подчиняющихся заранее последствиям, связанным со вступлением в тот или другой договор. Последствием договоров в обоих случаях являются иски, так как «воля, освобожденная от формы, имеет не меньшую силу, чем воля, связанная с нею» <3>. Но иски в том и другом случае существенно различны, в подтверждение чего Беер приводит такой пример: N и A заключают между собой письменно договор купли-продажи, последний параграф которого гласит: покупщик N обязывается выплатить A продажную сумму в 100 талеров к 1 июля 1857 г. Если A вырезает из документа этот параграф вместе со следующими за ним подписями и представляет его в суде для взыскания с N обещанных им 100 талеров, то ему должно быть отказано в иске, потому что он представляет в суде только часть договора, а не целый договор, из которого может оказаться, что он продал N вещь, стоящую вне гражданского оборота, или могут обнаружиться другие обстоятельства, способные освободить N от принятого им на себя обязательства. Предположим теперь, что по поводу этой же продажи A совершает с N стипуляцию о 100 талерах по римскому образцу или отбирает от него, что вполне соответствовало бы в настоящее время стипуляции, долговую расписку такого содержания: нижеподписавшийся признает, что он должен A по одной продаже 100 талеров, которые и обязуется выплатить ему к 1 июля 1857 г. Предъявление иска по этой расписке будет вполне основательно, хотя требование 100 талеров по ней не содержит в себе ничего более того, что содержалось в не уваженном судом требовании тех же 100 талеров по договору купли-продажи. Объяснение отказа в иске в одном случае и признания его основательности в другом заключается в том, что в последнем случае в силу избранной формы договора A дал N обязательство, поставленное в независимость от материального содержания купли-продажи, вследствие чего, оспаривая последнее, N должен сам доказать, в чем состоял предмет купли-продажи, что он не получил его и другие обстоятельства, доказывать которые он не был бы обязан, если бы его договор с A был материальный, потому что последний заключал бы в себе сам указание на эти обстоятельства и A не получил бы ничего, если бы не представил в суде цельный договор со всеми его индивидуальными указаниями. ——————————— <1> Bahr. Anerkennung als Verpflichtungsgrund. С. 11 и сл., с. 169; Uber den Anerkennungvertrag в: Lehrb. f. Dogm. II. С. 273 — 306. Взгляд Беера разделяется Вангеровым (Пандекты I. § 600. С. 246), Виндшейдом (Панд. II. § 318 и 364), Арндсом (§ 233. Примеч. 8) и пр. <2> Jahrbucherf. Dogm. II. С. 293. <3> Anerkennung. С. 169.
Мы признаем важность различия, установленного Беером, между формальными и материальными обязательствами, но заметим, что во многих случаях формальных обязательств это различие, как мы увидим, идет далее обязательности для ответчика доказывать основания недействительности оспариваемых им сделок и переходит часто в совершенную невозможность для него предъявлять против этих сделок какие бы то ни было споры. Кроме этого замечания, мы можем упрекнуть теорию Беера еще в том, что, констатируя различие между формальными и материальными договорами, она продолжает, с одной стороны, рассматривать вместе с господствующим учением начало воли как одинаковое основание обязательности тех и других договоров, не объясняя, каким образом их различие совмещается с одним и тем же основанием обязательности, которое должно было бы сопровождаться одинаковыми, а не различными последствиями. С другой стороны, Беер только констатирует различие между формальными и материальными договорами, но так же мало объясняет его, как и другие юристы, а потому утверждение его об исковом действии формального договора является в такой же степени недоказанным, как и противоположное с ним положение о необходимости означения во всех договорах их каузального момента. Общественное основание обязательного действия и содержания формальных договоров. Недоказанность обоих положений объясняется, по нашему мнению, тем, что юристы хотят во что бы то ни стало обосновать их на так называемой юридической природе договоров, т. е. на особенностях их содержания, забывая, что это содержание является само последствием других обстоятельств и не может поэтому служить основанием ни для утверждения, ни для отрицания искового значения того или другого договора. Поэтому мы и полагаем, что объяснение настоящей причины различия между формальными и материальными договорами следует искать в обстоятельствах, лежащих не внутри, а вне этих договоров, так как этими именно обстоятельствами обусловливается необходимость для гражданского оборота тех и других договоров с их различием в содержании. Отсюда видно, что разрешить наш вопрос можно только посредством исследования выгод, доставляемых теми и другими договорами, и довольно дать себе отчет в этих выгодах, чтобы объяснение различного содержания формальных и материальных договоров и необходимость этого различия представились сами собою. На выгодные стороны формальных договоров указывал еще Савиньи <1>, говоря, что они дают верный критерий для суждения о воле участвующих в них лиц и о совершившемся договоре в противоположность простым приготовлениям к нему, что они вызывают в договаривающихся лицах желательную осмотрительность при вступлении их в договоры и, наконец, ограничивают произвол судьи (претора) в решении гражданских споров. Но исчисленными выгодными сторонами формальных договоров далеко не исчерпываются и даже не выдвигаются вперед главные их выгоды, обнаруженные со всей возможной полнотой автором «Духа римского права» в отделе этого сочинения, посвященном аналитике права <2>. Исходя из той мысли, что успешное осуществление прав зависит от возможности доказать условия, с которыми закон соединяет их возникновение, и что поэтому чем труднее и сложнее доказательство прав, тем менее значительна их практическая ценность, Иеринг рассматривает в ряду средств, имеющих целью облегчение доказательств, каково, например, установление внешних критериев права на место внутренних, — он рассматривает в ряду этих средств и формальные сделки, сущность которых заключается в отвлечении их от causa. Важность такого отвлечения сделки от ее каузального момента Иеринг показывает и на собственности, и на обязательственных правах. Если бы при каждом переходе собственности требовалось означение его каузального момента, то доказательство собственности, приобретенной производным способом, т. е. путем преемства, предполагало бы всякий раз, во-первых, доказательство собственности предшественника и, во-вторых, доказательство преемства (сингулярного или универсального). Первое из этих доказательств было бы представлено только в том случае, если бы настоящему собственнику удалось доказать возникновение его собственности в лице одного из своих предшественников первообразным способом приобретения. Второе же доказательство не ограничивалось бы даже доказательством традиции при всех предшествовавших переходах собственности, так как традиция как таковая переносит только владение. Нужно было бы доказывать еще, что она была предпринята с целью перенесения собственности, и доказывать сделку, обнаруживающую таковую цель традиции. Если бы этой сделкой была купля-продажа, то покупщик должен был бы доказать еще уплату продажной цены, так как по этой сделке платеж служит предположением перехода собственности. Всякое основание недействительности одной из сделок, по которым совершился переход собственности, как, например, заблуждение, принуждение и пр., отражалось бы на последнем собственнике и лишало его защиты, по крайней мере до истечения срока давности. Понятно, что при таком порядке доказательств права собственности, составляющем логическое последствие признания зависимости перехода его от материального содержания сделки, в силу которой он совершается, — понятно, что защита собственности в этих обстоятельствах была бы призрачна и вовсе не достигала своей цели. Переходом же собственности в силу абстрактных или формальных сделок, каковыми были в Риме mancipatio и in jure cessio, а у нас простая передача движимых вещей и внесение недвижимых имений в ипотечные книги, устраняются все указанные неудобства и доставляются следующие важные выгоды: 1) облегчается доказательство rei vindicatio. Истец освобождается от труда исследовать сделки, по которым вещь переходила из рук в руки, а ответчик не может пользоваться возражениями, которые он был бы в состоянии извлечь из недействительности тех сделок. Другими словами, каузальный момент перехода собственности выделяется из спора по rei vindicatio и не дает материала ни для доказательства этого перехода, ни для возражений против него; 2) другая выгода абстрактного перехода собственности заключается в том, что он дает каузальному моменту сделки возможность осуществления в форме личного иска, имеющего силу только между лицами, находящимися в непосредственной связи по сделке, не распространяясь на третьих приобретателей прав по этой сделке. Для оценки важности этого обстоятельства необходимо выяснить значение каузального момента в сделке. Он сходен несколько с мотивом сделки, но отличается от него существенной чертой. Мотив безразличен для юридической характеристики сделки, потому что он лежит в сознании действующего лица и составляет внутренний момент сделки, не выступающий во внешнем мире и не имеющий поэтому для права никакого значения. Купля-продажа сохраняет один и тот же характер — все равно, приобретает ли покупщик вещь потому, что она ему нужна, или с тем чтобы оказать услугу продавцу, точно так же, как дарение не изменяется от того, совершается ли оно по тщеславию или по чувству благорасположения. Каузальный момент сделки имеет, напротив, важное значение в праве. Он представляет собою не мотив, заключенный в сознании одного лица и не распознаваемый для другого, а цель сделки, интерес, ради которого она только и заключается. Этот интерес сознается ясно всеми участвующими в сделке лицами и составляет поэтому элемент самой сделки, ее предположение и момент, сообщающий сделке особенный юридический характер платежа, дарения и пр. Когда в сделке нет этого момента, мы не знаем, для чего она заключена, наше суждение о ней делается по необходимости односторонним. Если эта односторонность, объясняющаяся отвлечением сделки от ее каузального момента, требуется необходимостью облегчить доказательство собственности и обеспечить ее защиту, то понятно, что вне соображений об облегчении доказательства, т. е. там, где принятие во внимание каузального момента не противоречит обеспеченности защиты, в этих пределах каузальный момент абстрактной сделки должен получить такое же значение, какое он имеет в других сделках. Когда, например, собственность передается под предположением, которое отсутствует в самый момент передачи или не осуществляется впоследствии, то передатчик, на обязанности которого лежит доказать предположение передачи и отсутствие или неосуществление его, может вытребовать назад свою собственность у ее принимателя — но только у принимателя, а не у третьих лиц, получивших собственность независимо от предположения, под которым она досталась их предшественнику. Это механизм римских кондикций, распространенный впоследствии от чисто формальных актов древнего права на традицию и на передачу не только собственности, но и других прав, — механизм, которому римляне были обязаны твердостью и обеспеченностью всей системы своих прав. Этот механизм, по крайней мере в его основной идее, действует и в наше время в странах, в которых переход собственности совершается внесением его в ипотечные книги, и когда относительно движимых вещей отвергается возможность виндикации. ——————————— <1> Obligationenrecht II. § 74. С. 219 — 221. <2> Ihering. Geist. d. Rom. Rechts III. 1. § 55. С. 201 — 220.
То же самое отвлечение сделки от ее каузального момента, констатированное нами при переходе собственности, мы видим и в абстрактных обязательствах, как, например, в современном залоговом праве, существующем на основании ипотечной системы независимо от своего долга, осуществление которого признается возможным, так же как и осуществление каузального момента при переходе собственности, только в форме личного иска. Формальные обязательства, так же как и формальный переход собственности, представляют собой искусственный продукт юриспруденции, созданный для легкости обращения и доказательства обязательств. Никто в мире не обязывается и не принимает обязательства, не дав себе отчета, для чего он вступает в то или другое обязательство: для того ли, чтобы одарить другое лицо, вызвать от него взаимное действие и пр. Следовательно, цель, или causa, обязательственной сделки так же важна и так же отличается от ее мотива, как и при переходе собственности; она также составляет элемент обязательственной сделки, необходимый для правильного и всестороннего суждения о ней. Поэтому отвлечение обязательственной сделки от ее causa должно иметь то же значение и сопровождаться теми же последствиями, что и при переходе собственности. Если господствующее учение возражает против этой аналогии тем, что обязательство есть личное отношение между его первоначальными участниками и не может поэтому обращаться в гражданском обороте так, как обращается в нем право собственности, то это возражение опровергается примером не только векселей и бумаг на предъявителя, обращение которых не уступает, а значительно превосходит по своей подвижности обращение собственности, но также римскими обязательствами, возникавшими по поводу делегации. Точно так же, как действие каузального момента при передаче собственности ограничивается юридическим отношением между передатчиком и принимателем, останавливается здесь и не распространяется на приобретение собственности третьими лицами, при векселе и делегации каузальный момент — по тому же соображению о необходимости облегчения доказательств — не идет далее отношений между векселедателем и первым его кредитором и между делегантом и делегатом <1>. Собственность, вексель и другие абстрактные обязательства переходят свободно из рук в руки и требуют равно обеспеченной защиты, доставляемой им отвлечением сделки от ее каузального момента. ——————————— <1> В подтверждение такого ограничения каузального момента при делегации Иеринг (Geist d. R. R. III. 1. С. 212 (примеч. 267)) ссылается на несколько решений римских юристов, не оставляющих в этом отношении никакого сомнения (см. в особенности L. 12 D., 46, 2).
Итак, выгодное действие формальных договоров в гражданском обороте сводится к тому, что они облегчают доказательство заключенных в них обязательств. Насколько это облегчение доказательства требуется жизнью, показывает история права, представляющая во все времена на различных ступенях развития права — в Древнем Риме, в средние века и у нас — постоянное существование формальных договоров, играющих, в особенности теперь, первостепенную роль в нашей экономической и юридической жизни. Указать на эту роль значит объяснить в то же время основание обязательного действия формальных договоров и особенности их содержания. Этот вопрос после изложения выгодных последствий формальных договоров жизни не представляет трудностей, так как, согласившись, что облегчение доказательства посредством отвлечения от causa требуется необходимо жизнью, мы должны признать, что это облегчение доказательства обусловливается, в свою очередь, потребностью в свободном обращении обязательств, принимающих в гражданском обороте свойства самостоятельных носителей означенных в них ценностей. Следовательно, основание обязательного действия и особенности содержания формальных обязательств объясняются прямо необходимостью легкого обращения их в гражданском обороте, для чего отвлечение от causa служит только средством. Что касается необходимости такого легкого обращения формальных обязательств, то она чувствуется во всяком обществе, вышедшем из первобытного состояния и из соответствующего ему в экономическом отношении периода натурального хозяйства. Когда вещи и деньги делаются предметами оборота — не как таковые, а как меновые ценности, тогда является возможность соединять ценности и с такими предметами, которые не имеют ее в действительности, но представляют в силу кредита надежду и ручательство в том, что они будут обменяны в свое время на действительную ценность. Роль таких носителей ценностей, имеющих чрезвычайно важное значение в обороте, потому что они увеличивают количество обращающихся в нем ценностей и предоставляют возможность пользования будущим имуществом, — роль таких важных носителей ценностей и играют в жизни формальные обязательства, первым образцом которых является долговая расписка <1>. Будучи сама по себе простым доказательством долга, она делается вследствие возможности реализовать заключающееся в ней обязательство носителем ценности в обороте — и тем успешнее, чем крепче бывает уверенность в реализации обязательства. Но так как переход долговых расписок из рук в руки совершается по началу цессии, которое дает возможность должнику возражать кредитору основаниями недействительности сделки и другими обстоятельствами, относящимися не только к нему, но и к его предшественникам, то понятно, что возможность этих возражений уменьшает уверенность в реализации долговых расписок, вследствие чего обращение их в обороте не может иметь большого значения и ограничено тесным кругом лиц, доверяющихся личности должника. Несравненно важнее для оборота делается значение обязательств как носителей ценностей, когда для них отыскивается форма, которая соединяет в себе гарантию быстрого исполнения с возможностью легкого перехода, ограничивающего по возможности возражения должника против исполнения означенных в них действий. Такая форма для свободного обращения обязательств была найдена еще в средние века в так называемых ордерных бумагах и бумагах на предъявителя, сходных с долговыми расписками в том, что они отвлечены, так же как и последние, от каузального момента обязательства <2>, но и отличающихся от них существенно по форме, предоставляющей гораздо более гарантий исполнения и легкого обращения. Эта форма в ордерных бумагах, главным представителем которых служит вексель, заключается в том, что должник обещает исполнить означенное в них обязательство не только в лице своего первоначального кредитора, но и в лице всякого владельца документа, получившего его по сделанной на нем передаточной надписи, или индоссаменту. Индоссамент служит легитимацией взыскателя по ордерной бумаге и легитимацией чисто формальной, потому что она не обязывает его доказывать основание, по которому он сделался владельцем ордерного обязательства, и одно предъявление последнего, как скоро оно снабжено индоссаментом, обязывает должника к исполнению независимо от всех возражений, которые он мог бы обратить против взыскателя в том случае, если бы право по обязательству перешло к нему на основании обыкновенной цессии. Такой формальный характер легитимационного акта облегчает, конечно, обращение ордерных бумаг, но оно вполне обеспечивается благодаря другому обстоятельству, заключающему в себе высшую гарантию исполнения по этим обязательствам. Эта гарантия состоит, как известно, в распространении ответственности перед взыскателем на всех индоссантов, т. е. на всех лиц, имевших в руках ордерное обязательство и передавших его по индоссаменту в другие руки. Заметим, наконец, что так как в обороте фигурируют в качестве ценностей не только деньги, но и другие вещи, то и употребление ордерных бумаг не ограничивается представительством их денежных ценностей, а распространяется также на другие, как индивидуально-определенные, так и генерические вещи. Так, например, к ордерным бумагам, кроме векселей, принадлежат: коносаменты, которыми перевозчики товаров обязываются перед отправителем доставкой их третьему лицу или кому он прикажет; варранты, заключающие в себе обязательства правлений товарных складов к выдаче предъявителю документа товаров, принятых ими на хранение от известного лица; бодмерейные письма, страховые полисы, именные акции и пр. <3>. Благодаря свойствам ордерных бумаг коносаменты дают возможность владельцам их распоряжаться по усмотрению вещами, находящимися в дороге, и извлекать из них ценности до прибытия их на место назначения; посредством варрантов можно пользоваться товарами, покоящимися в складах, точно так же, как если бы они были налицо, и так как все ордерные бумаги играют в обороте одну и ту же роль носителей представляемых ими ценностей, то понятно, что, несмотря на различие предметов, все перечисленные виды ордерных бумаг характеризуются одним и тем же содержанием, т. е. к ним применяются одни и те же правила защиты, те же ограничения возражений должника, те же легкость перехода и строгость исполнения. Бумаги на предъявителя служат одинаковой цели с ордерными бумагами. Они также суть носители ценностей, но представляют собою дальнейший шаг в развитии кредита и мобилизировании ценностей, так как в них не означается вовсе лицо, которому должник обязан исполнением обязательства, или говорится прямо, что он обязан исполнить его в лице каждого предъявителя, кто бы им ни был. К этим бумагам относятся: кредитные и другие государственные билеты, свидетельствующие о долге государства владельцам этих билетов, такие же безымянные обязательства публичных и частных учреждений, акции, закладные листы, свидетельства о дивидендах, купоны, полисы, билеты различного рода, как, например, железнодорожные, театральные и пр. Мы из сделанного перечня видим, что предметы обязательств по бумагам на предъявителя чрезвычайно разнообразны и состоят не только из денежных ценностей, но и из чисто индивидуальных действий, каковы, например, театральные удовольствия, услуги почтового управления, езда по железным дорогам и пр., но содержание или правила защиты по всем этим обязательствам опять одинаковы вследствие того, что они исполняют в гражданском обороте ту же функцию, что и ордерные бумаги, т. е. служат представителями означенных в них ценностей. Исполнение этой функции бумаг на предъявителя обеспечивается теми же средствами, что и в ордерных бумагах, — отвлечением от каузального момента и новым облегчением перехода из рук в руки, который совершается здесь уже не по индоссаменту, а по простой передаче документа, так что легитимация тут еще проще и еще более формальна, чем в ордерных бумагах. Должник имеет здесь дело только с предъявителем документа, легитимированным к взысканию в силу факта владения документом независимо от основания этого владения. Должник не может возражать ему, так же как и предъявителю ордерной бумаги, основаниями недействительности данного им обязательства, существующими в лице его предшественников по владению документом. Если он не получил за него валюты, или документ был у него взят посредством принуждения или обмана, или был украден, или он потерял его, то во всех этих случаях он одинаково обязан удовлетворить предъявителя, если только не докажет, что последний приобрел его незаконным путем. По поводу неполучения валюты, принуждения, кражи и других оснований недействительности сделки он имеет личный иск только к виновнику этих обстоятельств, но перед третьими приобретателями его документа он всегда обязан исполнением, если только не докажет их недобросовестности. Виндицировать от них эти бумаги он не имеет права даже в том случае, если они были украдены у него. ——————————— <1> Ср.: Endemann. Das deutsche Handelsrecht. 2. Aufl. § 81. <2> См.: Siegel. Das Versprechen als Verpflichtungsgrund. С. 108 — 109. <3> См.: Endemann. Цит. соч. § 85.
Если некоторые юристы возражают против этих последствий взыскания по ордерным бумагам и бумагам на предъявителя, говоря, что они «противоречат принципам права» или «существу юридического порядка» <1>, то они забывают, что «практическое значение институтов права определяется», как это показал Иеринг в одной из своих монографий <2>, «не тем, что они представляют одни только выгоды, а перевесом их выгодных сторон над невыгодными». Если исполнение по ордерным бумагам и бумагам на предъявителя в лице каждого владельца их делает иногда возможным взыскание по ним и со стороны недобросовестных приобретателей, точно так же, как защита владения вообще распространяется вместе с добросовестными и на недобросовестных владельцев, то никогда не следует упускать из виду, что защита недобросовестных владельцев есть только неизбежное последствие защиты законных интересов добросовестных владельцев. Это последствие представляется таким ничтожным злом в сравнении с огромными выгодами, которые защита владения и начало формальной легитимации доставляют ценою этого зла добросовестным владельцам и добросовестным приобретателям ордерных бумаг и бумаг на предъявителя, что право не может оставить без защиты интересы добросовестных владельцев по тому только соображению, что этой же защитой воспользуются случайно и несколько воров и мошенников. ——————————— <1> Ср.: Singel. Цит. соч. С. 114. <2> Du fondement de la protection possessoire (перевод со второго немецкого издания). С. 53.
Господствующий взгляд не признает такой относительной точки зрения в суждении о юридических институтах и потому не может до сих пор прийти ни к какой определенной теории о бумагах на предъявителя. Юридическая природа этих бумаг составляет до настоящего времени предмет горячих споров между юристами, которые стараются объяснить ее то силой одностороннего обязательства должника <1>, то формой договора cum incerta persona, оставаясь постоянно на почве римского понятия об обязательстве, личный характер которого они еще преувеличивают и силятся приурочить к нему во что бы то ни стало новый институт бумаг на предъявителя. Понятно, что при таком отношении к делу теоретические построения переходят в схоластику и теряют всякое практическое значение. Из всех известных нам немецких юристов мы можем указать на одного Эндеманна, отправляющегося в своем взгляде на формальные обязательства не от общепринятого понятия об обязательстве, а от значения их в гражданском обороте и от понятия о кредите <2>. ——————————— <1> Так называемая Creationtheorie, выставленная Кунце и поддержанная потом Энгелем и др. <2> См.: Цит. соч. § 83. Таково должно быть и отношение Иеринга к этим обязательствам, если судить по некоторым беглым замечаниям, высказанным им вскользь в «Geist. d. R. R.» и в цитированной выше монографии о владении (см. с. 52).
Все сказанное о формальных обязательствах дает нам полную возможность судить об особенном отношении общественного интереса. Как скоро они устанавливаются для того, чтобы обращаться в обществе, действие их распространяется необходимо на третьих лиц, причем это действие на третьих лиц не случайно, а лежит в самом понятии формальных обязательств, составляет необходимое предположение их существования. Если бы интересы третьих лиц в их юридических отношениях по формальным обязательствам не обеспечивались вполне объективным правом, то формальные обязательства исчезли бы из оборота и перестали бы удовлетворять интересы, вызвавшие их к жизни. Следовательно, обеспечение интересов третьих лиц как необходимое условие достижения цели формальных обязательств составляет дело общественного интереса, требующего для защиты третьих лиц всех особенностей содержания этих обязательств, без которых они опять не достигали бы своей цели. Таким образом, эти особенности содержания формальных обязательств, как, например, отвлечение их от causa, усиленное значение формальной легитимации, ограничение возражений должника, строгость взыскания и пр., вытекают из необходимости защиты третьих лиц и объясняются, естественно, соображением об общественном интересе. Материальные договоры и значение в них субъективного элемента. Совсем иным представляется отношение общественного интереса к материальным, или индивидуальным, обязательствам, и этим различием обусловливаются иные правила защиты, постановляемые для них объективным правом. Материальными обязательствами мы называем обязательства, действие которых ограничивается сферой интересов их непосредственных участников, не касаясь интересов третьих лиц. Не касаются же их эти обязательства потому, что устанавливаются не с тем, чтобы фигурировать в гражданском обороте в качестве представителей каких-нибудь ценностей, а для цели, которой они достигают непосредственно в том лице, в пользу которого их устанавливают. К разряду этих обязательств принадлежат: договоры купли-продажи, личного и имущественного найма, поклажи и другие договоры, которые господствующее учение называет материальными не в силу указанного нами признака — ограничения их действия кругом участвующих в них лиц, а потому, что они всегда заключают в себе каузальный момент, указание на цель установления. Но если присутствие каузального момента необходимо для материальных обязательств точно так же, как отсутствие его необходимо для формальных, то как там, так и здесь наличность и отсутствие его являются не основаниями обязательности и не причиной различного содержания тех и других обязательств, а последствием различного значения их в гражданском обороте, на что господствующий взгляд вовсе не указывает. Что касается необходимости означения в материальных обязательствах каузального момента, то она объясняется просто тем, что каузальный момент служит единственно возможным критерием для суждения об их действительности, так как они не имеют формы, которая занимает место этого критерия в формальных обязательствах. При отсутствии же формы они не могут вследствие крайнего разнообразия преследуемых ими целей выражать сами собою, без специального обозначения, свою цель, как выражают ее, например, абстрактные и в то же время бесформенные долговые расписки <1>. Если бы господствующее учение о безусловной свободе заключения договоров вместе с вытекающим из него положением о действительности всех договоров, не противных государственному порядку и нравственности, были справедливы, тогда не было бы нужды в особенном критерии для суждения о действительности материальных договоров и требование договорной causa сделалось бы совершенно излишним. Таким образом, говоря о необходимости договорной causa, господствующий взгляд впадает в новое противоречие с собою. Но мы указывали на неправильность положения о безусловной свободе договорного права еще при общем анализе господствующего учения о праве и полагаем, что вполне опровергли его, показав далее, как несостоятельно вообще понятие о безусловной свободе личности. В результате мы имели вывод, что договоры не могут быть признаны действительными независимо от цели, которую они осуществляют и которую право может найти заслуживающей или не заслуживающей защиты, смотря по потребностям времени и места. Отсюда следует само собою, что наличность каузального момента в материальных договорах при отсутствии в них формы необходима именно потому, что право защищает не все договоры, а лишь те, цели которых оно одобряет, а так как без означения цели договора нельзя бы было судить о том, одобряет ли ее право или нет, то понятно, что материальные договоры должны всегда заключать в себе указание на каузальный момент. Требование каузального момента для материальных обязательств может быть основано, кроме указанного, еще на другом, не менее важном соображении. Отвлечение от этого момента мы признали в формальных обязательствах необходимым последствием цели этих обязательств, предназначающей их к обращению в гражданском обороте. Принятие causa в формальные обязательства препятствовало бы их обращению, вредя интересам третьих лиц, на чем и основано исключение ее из этих обязательств. Материальные обязательства устанавливаются, напротив, специально в интересах участвующих в них лиц, до которых третьим лицам нет никакого дела. Следовательно, исключение каузального момента, требуемое вниманием к интересам третьих лиц, не имеет за себя в материальных обязательствах этого основания и уже поэтому должно быть отвергнуто. Но нужно еще прибавить, что исключение каузального момента из материальных обязательств противоречило бы явно их цели. Если эта цель заключается в непосредственном удовлетворении интересов участников материального обязательства, то достижение этой цели возможно лишь при внимательном и всестороннем исследовании интересов участвующих в нем лиц. Интересы их бывают здесь чрезвычайно разнообразны, и правильная оценка их требует непременно соображения индивидуальных особенностей каждого отдельного случая. Эти интересы по самому существу своему индивидуальны, так как они не затрагивают третьих лиц, и всегда одинаковое, шаблонное отношение к ним оправдывало бы только положение «summum jus summa injuria». Другими словами, правильное и справедливое, т. е. согласное с общим интересом, решение споров по материальным обязательствам обусловливается не однообразным применением ко всем случаям этих обязательств одних и тех же норм объективного права, что лишило бы судью всякой свободы суждения об индивидуальных особенностях конкретного случая, — оно обусловливается, напротив, принципом bona fides, оставляющим место усмотрению судьи и требующим индивидуализации средств защиты и решения — индивидуализации, возможной лишь при условии означения в договоре его каузального момента. ——————————— <1> Ср.: Karlowa. Das Rechtsgeschaft. С. 163 и сл.
Насколько начало bona fides неуместно в формальных обязательствах, так как они в силу своей функции в гражданском обороте стремятся все к большему и большему объективированию, сбрасывая с себя постепенно все стесняющие их субъективные элементы, настолько же это начало необходимо в материальных договорах, потому что они не объективируются и, устанавливая определенное юридическое отношение между непосредственными участниками обязательства, выдвигают, естественно, на первый план его субъективный элемент, требующий всякий раз со стороны судьи особенной оценки, согласной с обстоятельствами каждого отдельного случая. Сознание важности субъективного элемента в праве явилось не вдруг, а развивалось, как это показали новые исследования <1>, постепенно вместе с развитием гражданского быта и нравственного чувства, оставшимся не без влияния и на юридическое мышление, которое сделалось утонченнее и начало сознавать различия и оттенки в юридической ответственности, совершенно неизвестные древнему праву. Это последнее характеризуется грубым формализмом, который не ограничивается рассмотренной нами областью формальных обязательств, а проходит через всю систему права и глубоко отличается от формализма, о котором мы говорили до сих пор. Формализм древнего права вытекал из конкретности первоначального юридического мышления и наклонности его к пластическим формам <2>; новый же формализм вышел из сознания необходимости обеспечить интересы третьих лиц и укрепить за некоторыми юридическими отношениями такое важное в экономическом и общественном отношении значение, которого они никогда не получили бы без помощи формализма. Древний формализм уступал постепенно место началу bona fides; новый же формализм существует рядом с этим последним и существует в силу одинакового с ним основания — общественного интереса. Различие между ними состоит теперь только в средствах, которыми они достигают общей цели: формализм отвлекается для успешного достижения ее от субъективного элемента; материальные договоры, напротив, пользуются этим элементом для справедливого регулирования взаимных отношений их участников. Таким образом, субъективный элемент в материальных обязательствах есть только средство и как средство он может служить лишь внешним признаком, но не основанием отличия их от формальных обязательств. Основание этого различия заключается, как мы уже говорили, в значении и функции тех и других обязательств. Формальные обязательства имеют значение носителей ценностей, и потому правила защиты для них рассчитаны на обеспечение за ними свойства ценностей посредством защиты третьих лиц. Материальные обязательства не рассчитаны на обращение в гражданском обороте, и потому правила защиты определяются для них по соображению с их субъективными элементами. Отсюда объясняются все особенности их содержания. Здесь, в противоположность формальным обязательствам, должник выслушивается со всеми своими возражениями против действительности заключенного с ним договора. Обман, заблуждение, взаимная шутка и simulatio, принуждение, неполучение взаимного действия, отсутствие или отпадение договорной causa — все эти обстоятельства, не оказывающие никакого влияния на исполнение должника по формальным обязательствам, освобождают его от обязанности исполнения по материальным договорам, потому что освобождение его не нарушает здесь ничьих интересов, кроме интересов виновных в принуждении, обмане и других обстоятельствах, противных началу bona fides и сопровождаемых поэтому объявлением сделки недействительной и вознаграждением невинно пострадавшей стороны. ——————————— <1> См.: Bekker. Die Actionen I. С. 162 — 168; Pernice. Labeo. С. 408 — 416; Hartmann. Die Obligation. С. 241 — 258; см. Также «хронику гражданского суда» в N 1 «Юридического вестника» за 1879 г. (с. 35 — 46) и N 3 (с. 404 — 406), где анонимный автор, в котором мы подозреваем самого редактора журнала С. А. Муромцева, прекрасно излагает процесс постепенного развития начала индивидуализации в римском праве и определяет значение этого начала так же, как и мы. В другой хронике говорится о современном формализме и проводится мысль, которую защищаем и мы в нашем сочинении. <2> См.: Иеринг. Geist. des Rom. Rechts II, 1; цитированный в предшествующей сноске N 3 «Юридического вестника».
Такое же различие в способе защиты формальных и материальных обязательств мы замечаем в вопросе о продолжении и прекращении обязательности должника, когда исполнение обязательства делается для него невозможным. Господствующий взгляд не признает здесь никакого различия и постановляет общие правила о невозможности исполнения, предполагая, что они должны применяться одинаково как к формальным, так и к материальным обязательствам. Эти правила состоят в следующем: если возможность исполнения существует при самом установлении обязательства и она объективная, как, например, обещание несуществующей вещи, то обязательство вовсе не возникает; если же эта невозможность субъективная, т. е. существует только для должника, например обещание вещи, находящейся в чужой собственности, то обязательство продолжается и направляется вместо невозможного действия на его денежный эквивалент. Если невозможность исполнения обязательства возникает после его установления, то должник отвечает за нее тогда только, когда он виновен в причинении невозможности; в противном случае обязательство его также прекращается <1>. Произвольность этих правил, выведенных посредством неправильных обобщений из отдельных решений римских юристов, бросается в глаза с первого взгляда. Почему невозможность исполнения, существующая при возникновении обязательства, действует на него разрушительно независимо от вины должника, следовательно, освобождает от ответственности по обязательству и виновного должника, тогда как такая же виновная невозможность, возникающая после установления обязательства, продолжает его ответственность? Почему, далее, так называемая субъективная невозможность исполнения, если она существует при возникновении обязательства, не прекращает его действия, несмотря на невиновность должника, тогда как такая же совершенно невозможность исполнения, наступающая после возникновения обязательства, вполне освобождает от него должника? Почему вопрос о времени возникновения невозможности, не имеющий сам по себе никакой важности, получает такое решительное влияние на продолжение и прекращение обязательств, остается совершенно необъяснимым. Как допустить, наконец, в виде общего правила такое положение, что невозможность исполнения, являющаяся после установления обязательства, должна освобождать невинного должника от всякой ответственности и по всем договорам? Применение этого правила к формальным обязательствам устранило бы их, вероятно, из обращения, так как никто не стал бы относиться к бумагам как к представителям ценностей, если бы должнику было позволено право ссылаться на невозможность исполнения и оправдываться ею. Между тем Виндшейд утверждает, что даже неплатежеспособность должника, происшедшая без его вины, должна рассматриваться как основание освобождения его от обязательства <2>. Отсюда видно, что Виндшейд распространяет означенное правило на все денежные обязательства, не обращая внимания на вредное влияние, которое оно неминуемо должно оказать на их кредитную силу, и забывая даже о положении, пользующемся всеобщим признанием между юристами, что genus perire non censetur <3>. Последнее положение мы можем признать правильным только относительно денег как таких генерических вещей, которые в силу своего экономического и юридического значения имеют безусловную меновую ценность и потому могут быть добыты обменом на них других вещей, оставаясь таким образом всегда и для всех доступными. Вследствие такой особенной природы денег о невозможности исполнения денежного обязательства, к какому бы классу оно ни принадлежало, не может быть никогда речи и потому денежное обязательство, несмотря на неплатежеспособность должника, остается всегда в силе, если нет других оснований для признания его недействительным. Что касается других генерических вещей, то по отношению к ним положение «genus perire non censetur» не может считаться правильным, потому что понятие genus, рода вещей, есть понятие относительное и может применяться как к большим, так и к малым группам вещей, способным выходить из обращения или делаться недоступными по каким-нибудь особенным причинам. Таким genus вещей может служить в обязательстве вино из виноградных лоз известной местности или урожая определенного года, которого может вовсе не быть. Во время последней франко-прусской войны во Франции возникло много дел по поводу обязательств о поставке хлеба. Внезапное объявление войны, занятие территории неприятелем, прекращение движения по железным дорогам, осада Парижа и в особенности Декрет Правительства национальной обороны от 29 сентября 1870 г., которым все запасы хлеба и муки, заключающиеся в складах, были объявлены вне оборота ввиду целей обороны, — вот обстоятельства, сделавшие исполнение поставщиками их обязательств если не абсолютно невозможным, то чрезвычайно затруднительным и по причинам, совершенно не зависевшим от них. Французские суды, решение которых было подтверждено Кассационным судом в Париже, признали указанные обстоятельства основаниями, оправдывающими неисполнение поставщиками их обязательств, и, опираясь на ст. 1148 Code civ., освободили их от всякой ответственности <4>. Мы привели эти решения, целесообразность которых никем не будет оспариваться, в доказательство того, что положение «genus perire non censetur» так же неправильно, если его применять ко всем родам вещей и договоров, как неправильно и противоположное ему положение Виндшейда об извиняемости неисполнения денежных обязательств, когда его нельзя вменить в вину должнику. ——————————— <1> См.: Виндшейд. Pand. II. § 264; Mommsen. Beitrage zum Obligationenrecht. Unmoglichkeit der Leistung. С. 4 — 5, 229; Sintenis. das pract. gem. Civr. § 83. С. 22 и пр. <2> См.: § 277. С. 84. <3> См.: Mommsen. Цит. соч. С. 248 — 252. <4> Мы заимствовали это решение из сочинения Гартманна (Hartmann. Die Obligation. С. 255 — 256), который цитирует его из: «Recueil general des lois et des arrets, p. Sirey, 1873. I. С. 224» и пр.
Мы ограничиваемся приведенными соображениями против господствующего учения о невозможности исполнения, заметив, что в немецкой литературе есть прекрасное сочинение Гартманна — «Die obligation», занимающееся подробно опровержением этого учения и достигающее в этом отношении вполне своей цели <1>. Нам важно было только показать, что господствующее учение о невозможности исполнения обязательств неправильно именно потому, что оно ставит одни и те же общие правила о невозможности исполнения для всех видов обязательств, тогда как эти правила должны быть существенно различны для формальных и материальных обязательств. В нашем сочинении не может быть места для обстоятельного исследования и развития этих правил, но мы полагаем, что все сказанное нами о различии функции и содержания формальных и материальных обязательств дает нам право утверждать, что по отношению к первым невозможность исполнения, если она не юридическая, т. е. состоит не в запрещенном законом действии и не так абсолютна, чтобы быть очевидной для всех, не должна оказывать никакого влияния на обязательство должника; напротив, в материальных договорах невозможность исполнения должна приниматься в расчет как один из возможных субъективных элементов этих договоров и обсуживаться по началам bona fides. Поэтому неправильно также ставить одни и те же общие правила невозможности исполнения для всех видов материальных договоров. Суждение о ней должно здесь обусловливаться, во-первых, индивидуальными особенностями конкретного случая, во-вторых, степенью ответственности и осмотрительности, которая может быть требуема от должника, и, в-третьих, другими обстоятельствами, влияющими на характер его обязательности, как, например, возмездность или безвозмездность договора, определение предмета его в смысле действия или вещи, индивидуальной или генерической вещи и пр. В подтверждение нашей мысли мы можем сослаться на вполне целесообразные положения римского права, что лицу, отвечающему по обязательству за один dolus, как, например, поклажепринимателю, не вменяется в вину, если он передаст по ошибке данную ему на сохранение вещь вместо поклажедателя постороннему лицу, или будет заботиться во время пожара и других несчастий более о спасении своих вещей, чем о вещи, данной ему на хранение, или не станет преследовать вора, похищающего у него эту вещь. Во всех этих случаях он освобождается от своей обязательности по невозможности исполнения, которую он, однако, мог бы легко предотвратить соблюдением большей осмотрительности в своих действиях. Но содержание договора поклажи не требует от него такой осмотрительности, вследствие чего он и не отвечает по этому договору за невозможность исполнения, причиняемую его же собственной неосмотрительностью. В других случаях, когда должник отвечает не только за dolus, но и за всякую culpa, как, например, в обязательствах из деликтов и в некоторых случаях обязательств по договорам, должник не освобождается от обязательства и должен вознаградить потерпевшее лицо за убытки даже в том случае, если предмет его обязательства был индивидуально-определенным предметом и подвергся разрушению без всякой вины с его стороны. В безвозмездных обязательствах ответственность за невозможность действия опять легче, чем в возмездных, в генерических, напротив, она тяжелее, чем в индивидуальных, в денежных — еще более тяжелая, чем в других генерических обязательствах, и т. д. Словом, всюду различие содержания и цели обязательства обусловливает различную ответственность за невозможность исполнения. ——————————— <1> С. 166 — 272.
Общественное основание материальных договоров. Мы видели, что материальные обязательства имеют особенное содержание, особенные правила защиты, отличные от правил защиты по формальным обязательствам. Это различие было объяснено особенным положением в материальных обязательствах субъективного элемента, с которым общественный интерес стоит в ином отношении, чем с объективным элементом, характеризующим формальные обязательства. Но неправильно в высшей степени было бы видеть особенность этого отношения общественного интереса к материальным обязательствам в том, что он относится к ним как будто безучастнее, чем к формальным обязательствам. Говоря о субъективном элементе, мы вовсе не думали выдвигать его значение в ущерб объективному моменту права, который в материальных обязательствах, как и всюду, является решающим началом и основанием для всякого права. Что не субъективный, а объективный момент права, а именно начало общественного интереса, служит и в материальных обязательствах основанием их обязательного действия, это видно уже из того, что общество заинтересовано в защите материальных обязательств никак не меньше, чем в защите формальных. Если бы купля-продажа, наем, товарищество и другие материальные договоры не сопровождались обязательным действием, то эти договоры перестали бы существовать, и интересы, удовлетворяемые ими, остались бы без удовлетворения, отчего общество страдало бы несравненно более, чем от непризнания искового действия за бумагами на предъявителя и другими формальными обязательствами, являющимися уже после того, как право признало исковое действие материальных договоров. Влияние общественного интереса на материальные обязательства обнаруживается также ясно из необходимости означения в них каузального момента, на основании которого право признает обязательное действие за материальными договорами, удовлетворяющими одобряемым им интересам, и отказывает в нем договорам, преследующим цели, противные общественному интересу. Наконец, наше основное положение, состоящее в том, что признание или непризнание правом обязательной силы материальных договоров и все особенности их содержания не имеют другого основания, кроме согласия или несогласия их с общественным интересом, — это положение подтверждается целым рядом фактов, указывающих с полной очевидностью на значение общественного интереса в правах по обязательствам вообще. Мы ограничимся самыми выдающимися фактами. 1. Некоторые из материальных договоров, как, например, поручение и товарищество, выходят за пределы индивидуального отношения их непосредственных участников и затрагивают необходимо интересы третьих лиц, вступающих в юридические отношения с уполномоченным представителем и с членами товарищества или правления их. Отсюда необходимая двойственность в характере и содержании названных договоров, объяснимая только с точки зрения влияния на них общественного интереса. Юридические отношения между представляемым лицом и представителем и членов товарищества между собою основаны на взаимном доверии их друг к другу и не касаются третьих лиц, поэтому они обсуждаются по началам материальных договоров. Юридические же отношения к ним третьих лиц не имеют ничего общего с субъективным элементом, определяющим взаимную связь и обязательства их между собою. Вступая с ними в обязательства, третьи лица имеют в виду не субъективный, а объективный момент их отношений, выступающий в формальном акте легитимации представителя или в уставе товарищества. Если бы они не были обеспечены формальным моментом легитимации против возможности предъявления к ним споров, основанных на внутренних отношениях представляемого и представителя и членов товарищества между собой, то они не вступали бы с ними ни в какие сношения, отчего страдали бы, понятно, и представляемые лица, и члены товарищества, и все общество. Поэтому-то в общем интересе всех юридические отношения третьих лиц с представляемым и с членами товарищества должны обсуживаться и обсуживаются действительно по началам не материальных, а формальных обязательств. Любопытный пример перехода одного и того же договора из содержания материального к содержанию формального обязательства представляет залоговое право. Pignus и hypotheca были в Риме материальными договорами, потому что действие их ограничивалось участвующими в них лицами и затруднения, связанные с римской цессией, не дали им возможности получить значение представителей ценностей в гражданском обороте. В настоящее же время благодаря ипотечной системе и уставам различных обществ поземельного и движимого кредита выписки из ипотечных книг, залоговые и закладные свидетельства сделались настоящими ценностями и обсуживаются поэтому по началам формальных обязательств. Приведенные примеры показывают ясно, что субъективный элемент имеет значение в обязательстве лишь настолько, насколько действие последнего не распространяется на третьих лиц. Как скоро обязательство действует на третье лицо, влияние субъективного элемента останавливается и заменяется влиянием объективного элемента. Пользуясь математической формулой, мы могли бы сказать, что значение субъективного элемента в обязательствах обратно пропорционально действию их на третьих лиц. 2. Признание субъективного элемента в материальных обязательствах основано на том, что оно соответствует в большинстве случаев требованиям общественного интереса. Там, где принятие во внимание субъективного элемента противоречит последнему, он подвергается таким же ограничениям в материальных договорах, как и во всех других юридических отношениях. Как иначе, как не соображением в общественном интересе, объяснить положение, которое необходимо признается всяким законодательством, что лицо, вступившее в договор, отвечает всегда за последствия совершенного им dolus и что эта ответственность не может быть исключена никакими соглашениями договаривающихся лиц между собою. Как иначе объяснить, далее, ограничение срока личного найма определенным максимумом, за которым он считается недействительным, запрещение договоров, которыми отчуждается или ограничивается свобода действия лица относительно вопросов, где оно должно руководствоваться исключительно собственным усмотрением, как, например, относительно права судебной защиты, свободы завещания, вступления в брак и пр. Если бы в материальных обязательствах господствовал исключительно субъективный элемент, то действительность приведенных соглашений не подлежала бы никакому сомнению. Но подчиненность этого элемента началу общественного интереса производит то, что все означенные соглашения объявляются ничтожными, так как они противоречат общественному интересу, ограничивающему абсолютную свободу для того, чтобы ее же спасти от самоуничтожения и обеспечить за лицом вместо нелепой абсолютной настоящую, материальную свободу, которая определяется правом и функционирует согласно с интересом общества. 3. Таким же ограничением абсолютной свободы в интересах материальной надобно признать и ограничение отказа со стороны участника общей собственности от права требовать ее раздела. Французский Кодекс (ст. 815) допускает такой отказ только на пять лет, а итальянский (ст. 681 и 984) — на 10, предоставляя суду право разрешать в случае уважительных причин раздел и до истечения срока, установленного для нераздельности имения. Другие ограничения свободы произвольных соглашений, встречающиеся в области материальных договоров, существуют также в силу соображений об общественном интересе и объясняются особенными целями различных видов этих договоров. Так, например, известно положение, что представляемое лицо не может по договору лишить себя права отмены данного им представителю полномочия, так как договор доверенности, насколько он касается отношения между представляемым и представителем, поддерживается доверием первого к последнему. Если представляемый убеждается в недобросовестности или неспособности своего представителя, то было бы нелепо обязывать первого к тому, чтобы он считал своим доверенным лицом того, кто явно нарушает его интересы и не пользуется более никаким доверием с его стороны. Понятно, что договор о сроке обязательного действия доверенности мог бы служить в пользу только недобросовестных поверенных, интересы которых право не может предпочесть законным интересам их доверителей. Удовлетворение этих последних составляет цель договора доверенности, для обеспечения которой право и стесняет свободу доверителя в отношении его обязанностей к поверенному. Что касается положения третьих лиц относительно представляемого, то довольно вспомнить ст. 43 немецкого Торгового уложения, объявляющую недействительным всякое ограничение прокуры на «известный промежуток времени» или на время жизни принципала, чтобы объяснить эту статью прямо вниманием закона к интересам третьих лиц. Совершенно одинаковое значение с указанным ограничением имеет и недействительность договоров, которыми члены какого-нибудь полного или коммандитного товарищества обязывались бы не требовать до известного срока прекращения товарищества. По римскому праву подобные условия не имели никакой юридической силы, а немецкое Торговое уложение (ст. 125) постановляет, что всякий член полного товарищества может во всякое время требовать по уважительным причинам (например, злоупотребления других товарищей, болезнь, неосуществимость цели товарищества) закрытия его; суд оценивает значение этих причин и решает вопрос о дальнейшем существовании или прекращении компании. В договоре поклажи, существенную часть содержания которого составляет право требовать во всякий данный момент возвращения вещи, отданной на сохранение, недействительно условие, клонящееся к ограничению этого права. Такое условие вело бы к прикрытию под поклажей займа и было бы противно цели договора поклажи, заключающейся в удовлетворении законных интересов поклажедателя, а не принимателя, который при настоящей поклаже не имеет ровно никакого интереса ограничивать свою обязанность выдачи поклажи каким бы то ни было сроком. Французский Кодекс (ст. 472) считает недействительным договор лица, вышедшего из-под опеки по достижении совершеннолетия, со своим бывшим опекуном об освобождении последнего от ответственности за могущие открыться впоследствии неправильности его действий по опеке, если только он не представит расписки вышедшего из-под его опеки лица в том, что не менее чем за 10 дней до заключения договора он представил последнему обстоятельный отчет за все время опеки. Статья 286 немецкого Торгового уложения отменяет для сделок между лицами торгового звания правило о laesio enormis, имея в виду ограждение гражданского оборота от процессов об уничтожении правильно совершенных сделок. На мотиве же общественного интереса основаны все законы об ограничениях роста процентов, о запрещении самоуправства (decretum divi Marci), об исключении из залогового договора lex commissoria и пр. <1>. ——————————— <1> Некоторые из приведенных нами примеров взяты из статьи Оршанского «О значении и пределах свободы воли в праве», помещенной в N 5 «Журнала гражданского и уголовного права» за 1873 г. (с. 1 — 51) и в N 6 (с. 1 — 24). Цитируемая статья Оршанского, как и все, что вышло из-под пера этого талантливого юриста, унесенного так безвременно смертью, представляет чрезвычайный интерес. Она исходит из положения, которое защищаем и мы в нашем исследовании, что начало личности должно ограничиваться в праве началом общественного интереса, и дает целый ряд любопытных параллелей между постановлениями русского и западных законодательств по вопросу о взаимном отношении этих двух начал в праве. В русском праве Оршанский видит исключительное преобладание личного начала и цитирует оригинальные решения нашего Кассационного Сената, которыми признаются действительными условия об обязательности для доверителя срока доверенности, об ограничении права поклажедателя требовать возвращения своей вещи и т. д. «У нас есть судьи, — говорит Оршанский, — убежденные так глубоко во всемогуществе договорного начала, что они признают законным договор, которым одно лицо обязывается уплатить другому определенную сумму денег, если последнее даст на суде показание в известном смысле, или постановляют, что как скоро должник предоставил кредитору право взять себе при неплатеже долга его дом, то кредитор может сделать это самовольно, не обращаясь к суду (manus injectio)». В западных законодательствах Оршанский видит, напротив, преобладание начала общественного интереса над личным, и здесь мы перестаем соглашаться с ним, потому что на Западе начало личности господствует никак не менее, чем у нас. Недоразумение, в которое впал Оршанский, мы объясняем тем, что он не проследил отношения между началами личного и общественного интереса до его первоначального источника — индивидуалистического миросозерцания, которое возникло на Западе, процветает там более, чем у нас, и сопровождается не менее печальными последствиями. Упущение из виду этого обстоятельства заставило Оршанского сделать другие ошибки. Так, например, все ограничения договорного права он объясняет невозможностью стеснять будущую свободу действий лица, которое может при изменившихся обстоятельствах найти для себя неудобным исполнение принятых обязательств. Оршанский забывает, что всякое обязательство стесняет необходимо будущую свободу действий лица и что отрицать возможность такого стеснения значит возвращаться к началу личности и к понятию абсолютной свободы. Стеснение свободы лица не только не противно, но и прямо требуется общественным интересом, когда оно служит средством для достижения целей признанных правом форм обязательственных отношений.
Общий результат и определение обязательственного права. Приведенные примеры вместе со всем предшествующим изложением дают нам право считать доказанным положение, которое мы поставили в самом начале отдела нашего сочинения, посвященного теории обязательственного права. Мы повторим здесь это положение, потому что оно является в одно время и результатом нашего анализа теории обязательственного права, и доказательством необходимости применения к ней общественного представления о праве. Положение это следующее: основание прав по обязательствам, определяющее вместе с тем их содержание, есть общественный интерес, требующий защиты интересов, удовлетворяемых через обязательства, в пределах соответствия такой защиты с интересами общества. Отсюда следует само собою и определение понятия обязательства, но для полноты этого определения мы должны сначала сказать несколько слов об одном важном техническом моменте, характеризующем способ осуществления обязательственных прав. Защита обязательства, как и всякого права, направлена на защиту интересов, но управомоченное лицо пользуется ею здесь только против определенного лица, обязанного перед ним удовлетворением его интереса. Этот личный характер защиты прав по обязательствам, которым господствующее учение объясняет фальшиво особенности их содержания, есть простое последствие понятия обязательственного права. В противоположность праву собственности и другим вещным правам, удовлетворяющим интересу соприкосновенных с ними лиц посредством обеспечения их пользования уже существующими и определенными благами, права по обязательствам удовлетворяют интересу их установителей не таким пользованием, а только возможностью доставить его от определенного лица. Поэтому собственность, состоящая в пользовании наличным благом, может считаться обеспеченной только тогда, когда она защищается от посягательств всех третьих неуправомоченных лиц; обязательство же, состоящее лишь в возможности будущего пользования, должно, понятно, защищаться только против лица, обязанного доставить это пользование, так как оно, и более никто, может удовлетворить и не удовлетворить интерес, составляющий цель обязательства. Если и существует небольшая группа обязательств, доставляющих управомоченным по ним лицам непосредственное удовлетворение их интереса, когда, например, одно лицо обязывается перед другим не совершать какого-нибудь действия, то цель этих обязательств заключается в запрещении определенного действия также обязанному лицу, а вовсе не третьим лицам, так что последствия не могут и по этим обязательствам нарушить интересы кредитора и дать ему какой бы то ни было повод к иску. Отсюда видно, что защита обязательств в форме предъявления личного иска от лица управомоченного к обязанному составляет действительное последствие понятия обязательственного права и характеристический признак способа защиты этого права. Соединяя этот признак с другими моментами обязательственного права, заключающимися в постановленном выше положении, мы получим следующее определение: право по обязательству есть защита определенного интереса, основанная на соображении об общем благе, в форме личного иска заинтересованного лица против лица, которое по договору или иному, определенному правом поводу признается обязанным к удовлетворению этого интереса. Это определение, в противоположность определению господствующего учения, смешивающего в одном понятии «права на чужое действие» такие различные моменты права, как его содержание, цель и основание, отграничивает эти моменты друг от друга и указывает каждому из них принадлежащее ему место. Содержанием права по обязательству является в нем защита интереса в форме личного иска, целью — удовлетворение определенного интереса, а основанием — общественный интерес. Если наше определение не выясняет свойств интереса, удовлетворяемого через обязательство, то это происходит оттого, что неопределенность интереса лежит в самом понятии обязательства. Интересы обязательственного права, в противоположность интересам вещного права, связанным с определенными объектами, не зависят, как это мы видели в учении о материальных и формальных договорах, от свойств объекта, который они в результате доставляют управомоченному лицу. Цели, достигаемые через обязательства, разнообразны до бесконечности и состоят из всех интересов экономической и нравственной природы человека, удовлетворение которых посредством каких бы то ни было объектов право признает согласным с интересами общества. Поэтому к правам по обязательствам должны быть отнесены всевозможные обязательства отдельных лиц, имеющие целью удовлетворение какого-нибудь законного интереса, как скоро они осуществляются в форме личного иска против обязанного лица <1>. ——————————— <1> Ср.: Thon. Rechtsnorm u. subject. Recht. С. 204.
Применение общественной теории права к учениям о притворных сделках, о заблуждении, цессии и представительстве. В заключение нашего очерка обязательственного права нам следовало бы показать применение общественной теории права к затронутым в начале нашего исследования учениям о притворных сделках, о заблуждении, цессии и о представительстве в гражданском праве. Но применение этой теории к названным учениям равнялось бы полной перестройке и установлению для них совершенно новой теории. Этот труд требует специального и обширного исследования, которое не может, понятно, войти в рамки нашего введения, получившего и без него уже слишком большие размеры. Поэтому, не берясь в настоящую минуту устанавливать какую бы то ни было теорию для указанных учений, мы ограничимся несколькими общими замечаниями. 1. Теория притворных сделок может быть оставлена, за небольшими изменениями, в том виде, в каком излагает ее господствующий взгляд, так как мы знаем, что относительно этих сделок он отрешается от последствий теории воли и судит об их действительности и содержании не на основании согласия, данного объявлению воли, с формой его выражения, а на основании распознаваемости притворного характера сделки для другого контрагента. Если бы этот последний не был уверен в том, что лицо, объявляющее перед ним свою волю, принимает на себя определенное обязательство именно в той форме, в которой оно выразило его, или, другими словами, если бы этот контрагент не был уверен в том, что обязывающееся перед ним лицо не станет оспаривать заключенной сделки по внутренним, оставшимся для него неизвестными мотивам своей воли, то он не вступил бы с ним в сделку, отчего страдали бы в одинаковой степени и он, и его возможный контрагент, и все общество. Следовательно, признание действительности притворной сделки, если simulatio односторонняя, есть необходимое условие вступления в сделку и предписывается поэтому общественным интересом. По соображению же о последнем притворная сделка должна в известных обстоятельствах признаваться действительной, даже независимо от знания другого контрагента ее притворного характера, или иначе притворная сделка будет в этих обстоятельствах действительна, несмотря на двусторонность simulatio. Мы говорим о формальных обязательствах, когда они возникают из притворной сделки и попадают в руки третьих лиц, которым в силу известного нам характера формальных обязательств возражение о simulatio не может быть ни в каком случае предъявлено. Отсюда ясно, что недействительность двусторонне-притворных сделок должна иметь место только в материальных обязательствах. К формальным же обязательствам она может относиться лишь постольку, поскольку они касаются юридических отношений между их первоначальными установителями. Как скоро обязательство переходит к третьему лицу, всякая притворная сделка, какая бы она ни была, получает силу действительной. 2. Все сказанное о притворных сделках должно применяться и к учению о заблуждении, так как, допустив, что один из контрагентов может заблуждаться насчет другого и оспаривать действительность заключенной им сделки на основании заблуждения, которое не было и не могло быть известно другому контрагенту, пришлось бы так стеснить возможность заключения договоров, что они совсем исчезли бы из гражданского оборота. Однако господствующая теория принимает, как мы видели, недействительность сделки на основании одностороннего заблуждения, потому что держится в этом учении принципа индивидуальной воли и приходит от него к последствиям, не допустимым с точки зрения практической жизни. Не возвращаясь к тому, что мы уже говорили, заметим только, что новые юристы отступают постепенно от этого учения, держась его все-таки в принципе и не сознавая его несостоятельности. Так, например, Иеринг, придерживающийся в учении о заблуждении по непонятному противоречию с самим собою господствующей теории, значительно исправляет ее, предоставляя обманутому контрагенту вознаградительный иск из culpa in contrahendo, который признается, кроме Иеринга, также Вангеровым, Виндшейдом и другими юристами. Далее всех прочих в отступлении от господствующего взгляда на учение о заблуждении пошли Регельсбергер и Беер. Первый ставит такое положение: «Всякий объявляющий при вступлении в договор свою волю отвечает за нее в том смысле, в котором другая сторона поняла или должна была понять ее по совокупности обстоятельств, которые ей были известны или должны были быть известны в момент заключения договора. Другая воля, за исключением заблуждения, проистекающего не из грубой неосмотрительности, не принимается в соображение, если даже она вытекает несомненно из других обстоятельств» <1>. Беер выражается определеннее и не постановляет исключения, ослабляющего всю силу положения Регельсбергера: «Кто при вступлении в договор вызывает доступным ему способом внешнее явление своей воли, из которого другая сторона заключает добросовестно, что она приобрела какое-нибудь право, тот вовсе не выслушивается с утверждением такого рода, что он не имел соответствующей воли» <2>. ——————————— <1> Civilrechtliche Erorterungen. С. 20. <2> Jahrbucher f. Dogmatik XIV. С. 401.
Эти положения, за исключением ограничения, которое делает Регельсбергер относительно извинительного заблуждения, соответствуют требованиям гражданского оборота и заслуживают поэтому полного одобрения. Но ни Регельсбергер, ни Беер не сводят своих положений ни к какому общему основанию и рассматривают их как простые юридические правила, которые не мешают им держаться теории воли, хотя она и явно противоречит выставленным правилам. Это противоречие Беер старается прикрыть фикцией воли, а Регельсбергер — каким-то компромиссом между «чистой консеквенцией права» и требованиями практической жизни, как будто последние представляют собой нечто другое, чем консеквенции права. Между тем основание сформулированных им положений было так просто видеть в общественном интересе, который не только требует признания действительными договоров, совершенных по заблуждению одной из сторон, когда другая сторона не знала или не должна была знать о нем, но идет еще далее. По соображениям, которые мы можем не повторять, заблуждение не играет в формальных обязательствах никакой роли и не обусловливается здесь в отношениях третьих лиц к должнику ни знанием заблуждения со стороны другого контрагента, ни обманом, которому подвергся должник. 3. Что касается цессии, или перехода прав по обязательствам, то мы говорили еще при изложении теории формальных и материальных обязательств о важном различии между ними в отношении этого перехода. Формальные обязательства, имеющие меновую ценность, обращаются в жизни как деньги. Поэтому переход их из рук в руки совершается посредством простой передачи, не возбуждающей никаких споров о легитимации, или посредством надписи на документе, имеющей чисто формальное значение и ограничивающей также споры и возражения должника до последней возможности. Юристы спорят до сих пор о том, считать ли эту передаточную надпись (индоссамент) цессией, полномочием или актом, устанавливающим самостоятельное право в лице каждого приобретателя формального обязательства. Мы считаем этот спор совершенно бесплодным, потому что юридические свойства индоссамента не возбуждают никаких сомнений вследствие определенности его цели и существования особых юридических норм, которыми обеспечивается достижение этой цели. Приурочивать же индоссамент непременно к одной из родственных с ним форм неправильно, потому что с каждой из них он соединяется в одном каком-нибудь общем признаке. С цессией он имеет общий момент цели — переход права по обязательству; с полномочием — одинаковое содержание: момент формальной легитимации; с актами, устанавливающими самостоятельные права, — одинаковую независимость от предшественников, свободу от возражений. Отсюда видно, что индоссамент можно называть и цессией, и полномочием, и самостоятельным образованием права, но каждое из этих названий будет по необходимости односторонне и нимало не облегчит понимания индоссамента, которое получается гораздо проще определением его цели и средств, обеспечивающих ее достижение. Такой целью индоссамента служит, очевидно, переход прав по обязательствам, но переход быстрый и обеспеченный, обусловленный природой передаваемых посредством него обязательств, а юридическим средством для достижения этой цели служит формальная легитимация и особенные правила защиты, о которых было говорено. Переход материальных обязательств совершается по другим правилам, объясняемым, в свою очередь, особым юридическим характером этих обязательств. Они не служат в гражданском обороте вместо денег и поэтому не требуют такой легкости и свободы перехода, которая характеризует формальные обязательства. Кроме того, переход материальных обязательств по передаче или по индоссаменту противоречил бы субъективному элементу этих обязательств, значение которого мы разъяснили выше. Но, с другой стороны, не имея меновой ценности, материальные обязательства имеют, несомненно, индивидуальную ценность, обусловленную верой в кредитоспособность должника и средствами принуждения, которыми располагает против него кредитор. Запрещать безусловно переход этой ценности, когда он не нарушает законного интереса должника и не противоречит субъективному элементу обязательства, значило бы уменьшать без всякого основания значение материальных обязательств в жизни и стеснять без причины интересы, для удовлетворения которых они устанавливаются. Поэтому переход материальных обязательств, когда исполнение по ним не связано с особенными качествами в лице определенного кредитора или должника, предписывается также общественным интересом, который обусловливает вместе с тем и особенные свойства этого перехода, отличающие его существенно от перехода по формальным обязательствам. Этот переход прав по материальным обязательствам называется цессией в техническом смысле и характеризуется, в отличие от перехода по формальным обязательствам, тем, что он удерживает в себе все субъективные элементы передаваемого обязательства, так что должник сохраняет против новых приобретателей его обязательства все возражения, которые он имел против его предшественников. Таким образом, мы видим, что переход прав по обязательствам представляет четыре градации, различающиеся между собою по цели передаваемых обязательств и по содержанию применяющихся к ним норм, причем различие цели и содержания переходов находится в зависимости от различного отношения их к общественному интересу. Градации эти следующие: переход по фактической передаче, переход по индоссаменту, оба формальных перехода, переход по цессии в тесном смысле слова, удерживающей в себе субъективный элемент передаваемого обязательства, и, наконец, отрицание всякого перехода в небольшой группе обязательств, исполнение по которым обусловливается определенным качеством в лице кредитора или должника. 4. О представительстве мы будем говорить впоследствии, когда придется объяснять отношение его к институту negotiorum gestio. В настоящую минуту мы заметим только, что представительство затрагивает непосредственно интересы третьих лиц и должно поэтому обсуждаться на основании правил о формальных сделках. Господствующий взгляд упускает из виду это соображение или не преследует его с необходимой последовательностью, чем и объясняются все ошибки и колебания, отмеченные нами при разборе существующих теорий о представительстве. Заключение. Показав значение общественного интереса в гражданском праве и проследив его влияние на отношения, возникающие из права собственности и прав по обязательствам, мы приобрели твердую точку опоры для исследования института negotiorum gestio. Если общественный интерес есть основание всех прав, то понятно, что это начало, а не какое иное, должно служить точкой отправления и критерием при исследовании всех вопросов, относящихся к исследуемому институту. Но понятие общественного интереса, как и всякое понятие, имеет только формальное значение, пока оно не применяется и не ставится в известное соотношение с явлениями действительной жизни. Поэтому пользование этим понятием как точкой отправления при исследовании какого бы то ни было института гражданского права обусловливается необходимо определением отношения, в котором общественный интерес находится с исследуемым институтом. Мы знаем, что все институты гражданского права существуют для удовлетворения интересов, которые составляют их цель. Следовательно, отношение общественного интереса к исследуемому институту должно определяться отношением его к интересам, удовлетворяемым посредством этого института. Если отношение его к этим интересам благоприятно, т. е. если удовлетворение их оправдывается целями сосуществования людей в обществе, то институт получает юридическое основание и должен быть необходимо признан и регламентирован законодательной властью, если она хочет быть на высоте своего назначения и не давать места произволу судей, которые, несмотря на непризнание института законодательной властью, будут постоянно наталкиваться на него в жизни и вносить в суждение о нем вредный субъективизм. Чтобы не вызывать этого субъективизма и не оставлять, с другой стороны, без удовлетворения интересы, требующие защиты, законодательство должно определить, какие юридические средства будут служить лучше всего для удовлетворения этих интересов, какие правила защиты наиболее подойдут к ним и какие, наконец, ограничения необходимо ввести в них по соображению об общественном интересе. Постановление этих правил предполагает исследование и всестороннюю оценку интересов, к защите которых они предназначаются, и такое-то исследование должно составлять, по нашему мнению, главную задачу настоящей юриспруденции. Поэтому, приступая к изложению учения о безвозмездной и добровольной деятельности в чужом интересе, мы исследуем прежде всего интересы, удовлетворяемые этой деятельностью, и отношение к ним общественного интереса, а потом уже перейдем к технической стороне института, т. е. к применяющимся к нему правилам защиты.
Печатается по: Гамбаров Ю. С. Добровольная и безвозмездная деятельность в чужом интересе вне договорного отношения и не по предписанию закона. Выпуск 1. Общественный интерес в гражданском праве. М.: Типография А. И. Мамонтова и Ко, 1879. С. 115 — 196.
——————————————————————