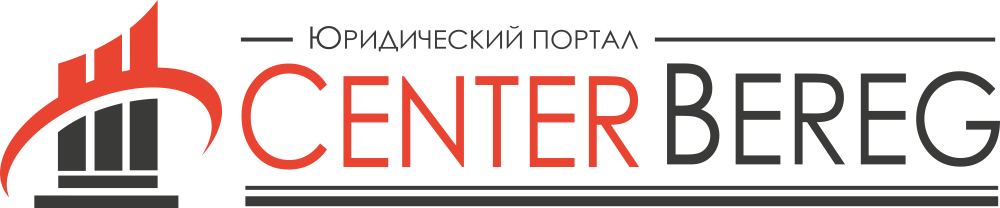Проблема вещных и личных прав в древнеримском праве
(Гримм Д.) («Вестник гражданского права», 2007, N 3)
ПРОБЛЕМА ВЕЩНЫХ И ЛИЧНЫХ ПРАВ В ДРЕВНЕРИМСКОМ ПРАВЕ
Д. ГРИММ
I. Вводные замечания
Противоречие между признанием тесной связи истории институтов гражданского права с историей хозяйственного быта и методом изолированного изучения институтов права. Связь этого традиционного метода со взглядами отцов исторической школы права. Правильная постановка вопроса. Самостоятельное изучение институтов права как задача и использование данных истории хозяйственного быта как метод. Применение этой точки зрения к обсуждению вопроса о происхождении различия между вещными и обязательственными правоотношениями. Признание тесной связи истории институтов гражданского права с историей хозяйственного быта в настоящее время едва ли кем-либо принципиально отрицается. Тем не менее эта истина на деле — при изучении истории отдельных конкретных систем гражданского права — весьма мало учитывается. Все ограничивается обычно несколькими трафаретными фразами, которые, в общем, сводятся к тому, что частная собственность, в особенности частная собственность на недвижимости, не составляет исконного явления первобытного хозяйственного и правового строя, а появляется лишь в результате более или менее продолжительного процесса хозяйственного развития; что в периоды господства натурального хозяйства не может быть речи о сколько-нибудь развитом, организованном обмене, построенном на начале свободы договоров, чем и объясняется полное почти отсутствие системы договорно-обязательственных отношений в соответствующем периоде народной жизни; это отсутствие потребности в обмене и связанное с этим отсутствие соответствующих индивидуализированных форм обмена не исключает, однако, весьма раннего появления довольно сложной системы деликтных обязательств, так как нарушение чужого права возможно при всяком строе хозяйственных отношений, и т. д., и т. д. Если не считать этих общих фраз, то в остальном история институтов гражданского права и по сей час разрабатывается так, как это было предуказано отцами исторической школы права. Последние исходили из того основного предположения, что история права вообще и история отдельных правовых институтов в частности составляет продукт некоего имманентного праву как таковому процесса, в котором отражается ход развития народного духа. С этой точки зрения представлялось естественным и занятным ограничиваться в историко-юридических исследованиях изолированным изучением тех абстрактных типов юридических институтов, в преемственном появлении, росте и смене которых якобы воплощались отдельные стадии развития раскрывающегося в них народного духа. Менее понятно, однако, что этот изоляционный метод сохранил свое господство до настоящего времени, когда предпосылки, на которых он покоился и которые служили ему оправданием, отпали. Действительно, сохранение этого метода находится в резком противоречии с признанием начала взаимной связи и обусловленности отдельных сторон социальной жизни и, в частности, явлений частноправовой и хозяйственной жизни. Это не значит, конечно, что история права не может и не должна составлять самостоятельного предмета исследования. Подобное задание — как научная задача, которую ставит себе в данном случае исследователь, — и вполне возможно, и необходимо. Этим, однако, не предрешается вопрос о приемах, при помощи которых поставленная задача достигается. В этом отношении нельзя упускать из виду, что раз сложившиеся общие формы — абстрактные типы, являясь отражением тех или иных породивших их конкретных жизненных отношений, могут вместить в себя разное содержание, в частности могут служить средствами для достижения разных хозяйственных целей, в том числе и таких, которые первоначально могли вовсе не иметься в виду, частью сохраняя при этом, а частью меняя свою первоначальную структуру. Особенно поучительна в этом отношении история институтов общего оборота — общих форм вещного и обязательственного права, которые, раз возникши, отличаются замечательной устойчивостью: основные типы их со временем дополняются новыми, но сами они редко бесследно исчезают, а имеют тенденцию удержаться наряду с вновь сложившимися позднейшими формами, подвергаясь при этом в большинстве случаев лишь сравнительно незначительным, второстепенным изменениям. Так, коллективная собственность не исчезает с появлением индивидуальной собственности, а частью сохраняется в прежних формах (семейной, родовой, общинной собственности), частью облекается в новые формы собственности (выделенного особого имущества юридических лиц разных типов); так, реальная купля-продажа сохраняет свое место в жизни и после появления соответствующего консенсуального контракта; залог в форме ручного заклада уживается с позднейшей формой ипотеки и т. д., и т. д. <1>. ——————————— <1> Ср. по этому вопросу мою статью «К вопросу о соотношении институтов гражданского права с хозяйственным бытом народа» в ж. Мин. юстиции за октябрь 1907 г.
Все это чрезвычайно осложняет задачу историка права и, в частности, делает весьма затруднительным восстановление первоначальной структуры изучаемых институтов и взаимного соотношения во времени родственных по хозяйственному назначению институтов, если только не сохранились прямые указания на этот счет. Ввиду такого положения вещей представляется весьма важным использовать тот материал, который дает для изучения институтов частного права история хозяйственного быта, и в каждом отдельном случае начинать это изучение с выяснения вопроса о том, какие именно конкретные хозяйственные отношения, приобретши типичный и массовый характер, вызвали или предположительно могли вызвать появление данного института или данных институтов, а равно оказать влияние на дальнейшую судьбу их, и в чем непосредственно сказывается связь между теми и другими. В частности, только таким путем можно надеяться пролить свет на такие вопросы, как вопрос о происхождении основного, с точки зрения цивилистов, различия между вещными и обязательственными правоотношениями, с одной стороны, и вопрос о взаимном соотношении и преемственной связи основных типов договорно-обязательственного права, с другой стороны. Характерно для современного состояния науки, что первый вопрос обычно вовсе не ставится, как будто различие между вещными и обязательственными правами составляет какую-то a priori данную величину, как будто это противоположение является чем-то логически необходимым. Наоборот, ко второму постоянно возвращаются вновь, однако без всякого видимого успеха, что объясняется, конечно, тем, что разрешение его на почве традиционных приемов представляет собою поистине сизифову работу. В дальнейшем мы попытаемся иллюстрировать сказанное, основываясь преимущественно на данных, заимствованных из истории римского частного права как системы, излюбленной творцами исторической школы права и сохранившей до наших дней как бы парадигматическое значение.
II. Относительный характер различия между вещными правами и обязательственными отношениями
Невозможность свести это различие к различию в объектах тех и других прав. Различие в объеме судебной защиты как единственный критерий. Традиционная формулировка его. Критика ее. Правильная формулировка: вещные права — те, которые презумптивно защищаются против всех и каждого, обязательственные — те, которые презумптивно защищаются только inter partes. Применение различия между вещными и личными правами в качестве классификационного признака. Позднее происхождение такого применения в римском праве: взгляд Mitteis’а. Вопрос о значении этого различия по существу. Господствующее мнение. Новейшие течения по этому вопросу в романистической доктрине. Постановка этой проблемы в германистической доктрине. Взгляды Heusler, Laband, Stobbe, Gierke. Общий вывод. Основное положение, из которого необходимо исходить при рассмотрении вопроса о происхождении различия между вещными правами и обязательственными отношениями (каковое различие не связано с той или иной конкретной системой права, а имеет совершенно общее значение), заключается в том, что означенное различие имеет не абсолютный, а лишь относительный характер, является не логической, а исторической категорией. В частности, оно не может быть сведено к различию в объектах тех и других прав. Господствующий взгляд, согласно которому объектом вещных прав являются вещи, непосредственно подчиненные господству правообладателя, а объектом личных или обязательственных прав — чужие действия, не выдерживает критики в силу одного того, что он покоится на явной quaternio terminorum: термин «объект права» в первом и во втором случае употребляется в двух различных смыслах: именно когда мы говорим, что объектом вещного права служит вещь, мы под объектом понимаем элемент отношения, на который правообладатель оказывает или, вернее, может оказать то или иное воздействие; когда же мы говорили, что объектом обязательственного права служит чужое действие, то мы под объектом понимаем тот ближайший результат, который имеет быть достигнут правообладателем: объектом же в смысле элемента отношения, на который оказывается воздействие в целях достижения соответствующего результата, является то лицо, от которого ожидается соответствующее действие, а не само действие, которое, с одной стороны, неотделимо от лица, долженствующего его совершить, а с другой стороны, до совершения его вообще не находится in rerum natura, не имеет самостоятельного бытия, а следовательно, и не может быть элементом отношения <2>. Из сказанного явствует, что противополагать друг другу можно не вещи и чужие действия, а только вещи и лица. Однако было бы ошибочно утверждать, что вещи могут служить только объектами вещных прав: они могут явиться и объектом обязательственных отношений; достаточно указать хотя бы на все те обязательственные правоотношения, которые предоставляют право пользования теми или другими вещами, как, напр. commodatum или locatio conductio rerum в римском праве и др. С другой стороны, если относительно лиц современные частноправовые системы отрицают допустимость признания их объектами вещных прав, то, во-первых, это положение не является логически необходимым, а вызвано, как всякое нормативное определение, соображениями целесообразности, и во-вторых, оно не исключает возможности признания абсолютных прав над личностью как в области семейственных, так и в области публично-правовых отношений. ——————————— <2> См. по этому вопросу мою статью «К учению об объектах прав» // «Вестник права» за сентябрь и октябрь 1905 г.
За отпадением различия в объектах остается один критерий для разграничения вещных и обязательственных прав, это различие в объеме судебной защиты, которая оказывается в надлежащих случаях правообладателю. Критерий этот по самому существу своему чисто практический, относительный и изменчивый. Не только различные правовые системы при наличии однородных в остальном правоотношений решают вопрос о том, в каких пределах, ближе — против кого должно оказывать защиту субъекту права, неодинаково; те же изменчивость и колебание подчас наблюдаются даже в пределах одной и той же правовой системы в разные моменты ее исторического развития. Примером первого рода может послужить различное положение имущественного найма в разных правовых системах; пример второго рода представляет собою история наследственной аренды в римском праве: будучи сначала чисто обязательственным отношением, она впоследствии, благодаря введению претором actio in rem vectigalis, приобретает характер вещного права. Ближе, это различие сводится обыкновенно к противоположению вещных прав как прав, ограждаемых против всех и каждого, личным или обязательственным правам как правам, ограждаемым только inter partes. Однако это определение вызывает против себя возражения с двоякой точки зрения. С одной стороны, не без основания указывают на то, что бывают правовые системы, в которых защита вещных прав подвергается ограничениям в отношении тех или иных категорий добросовестных третьих приобретателей: в частности, при этом имеются в виду ограничения, связанные с принципом германского права: Hand wahre Hand. С другой стороны, бывают случаи, в которых обязательственное отношение порождает иск не только против стороны, так или иначе нарушившей данное право требования правообладателя, но и против определенных категорий третьих лиц, напр., против третьих недобросовестных приобретателей или против третьих лиц, обогатившихся за счет правообладателя: достаточно напомнить о jus ad rem, об actiones in rem scriptae, actio Pauliana и других родственных исках. Ввиду сказанного правильнее формулировать различие между вещными и обязательственными правами следующим образом. Вещные права — те, которые презумптивно (поскольку данная правовая система не устанавливает каких-либо специальных изъятий в отношении определенных категорий лиц) пользуются охраной против всех и каждого. Наоборот, личные или обязательственные права — те, которые презумптивно (поскольку данная правовая система не расширяет пределы охраны в отношении определенных категорий лиц) пользуются охраной только inter partes. Другими словами, различие между вещными и обязательственными правами сводится к тому, что в одних случаях существует презумпция в пользу абсолютной охраны права, а в других действует обратная презумпция. Такая формулировка, обнимая всевозможные комбинации, встречающиеся на практике, вместе с тем лишний раз свидетельствует о том, что мы имеем дело с чисто практическим критерием, допускающим широкую амплитуду колебаний, а потому неизбежно изменчивым. Раз все это так, то вопрос о том, как могло вообще сложиться это различие, каково его происхождение, становится законным и обязательным. Что это различие прежде всего в систематическом смысле как классификационный признак сравнительно позднего происхождения, в настоящее время можно считать установленным даже в отношении римского права, в применении к которому противоположение между вещными и обязательственными правами издавна признавалось краеугольным. Mitteis <3> справедливо замечает, что римским юристам «была чужда принятая ныне группировка субъективных прав по содержанию; они, правда, проводят различие между носителями и объектами прав (personnae и res), но не ставят с ним в связь обусловленные этим противоположением различия по содержанию частных прав. Так, прежде всего оказывающее определяющее влияние на всю систему права противоположение между вещным правом и личным притязанием, конечно, имеется налицо, однако оно в систематическом смысле сказывается только в подразделении процессов (на vindicationes и actiones); в сфере же материального права оно если и дает всюду знать о себе, а подчас даже и формулируется (в особенности Павлом inst. 2 D. 44, 7, 3 pr.: obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat sqq.), но нигде оно не использовано в качестве основного классификационного признака. У Гая (2, 14) обязательства в качестве одного из подразделений res incorporales в систематическом отношении ставятся на одну доску с сервитутами и правом наследования. И даже те не имеющие большого значения систематические подразделения, которые встречаются в области вещного и обязательственного права, по крайней мере отчасти относятся лишь к поклассическому времени». Несколько дальше тот же Mitteis говорит <4>: «Конечно, ни одну правовую систему нельзя мыслить без всякой систематики, и мы встречаем, конечно, систематические группировки отдельных прав и здесь (т. е. у римлян); однако в основе их лежит не столько юридическая, сколько хозяйственная точка зрения. Так, эдикт во втором основном своем отделе располагает материал исходя из различия между отдельными юридически защищенными категориями имущественных благ (nach den rechtlich geschutzten Sachgutern) и рассматривает как связную группу иски, вытекающие из права собственности на телесные вещи и из повреждения таковых, причем не делается различия между вещными и личными притязаниями; дальнейшую массу образуют обязательственные иски из договоров… засим говорится о женином имуществе и имуществе пупиллов. Сходную группировку дает и система Сабина». «Итак, существует только одна область, в которой противоположение между правами резко сказывается: это процесс. Как только мы вступаем в пределы этой области, мы тотчас же встречаемся с делением исков на actiones in rem и in personam, или, согласно более ранней терминологии, с различением vindicationes и actiones (в тесном смысле)». ——————————— <3> Romisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians. I. Стр. 86. <4> Там же. Стр. 88 — 89.
Переходя к вопросу о том, насколько противоположение между вещными и обязательственными правами по существу должно быть признано исконным достоянием римского права, следует заметить, что этот вопрос огромным большинством романистов (и не только одних романистов, но и цивилистов вообще) вовсе и не ставится. Он считается a priori разрешенным в положительном смысле, ибо самое противоположение мыслится, открыто или молчаливо, как вытекающее из самой природы вещей, как нечто логически необходимое. В этом смысле весьма характерны слова Kohler’а <5>: «Без этого противоположения не может обойтись никакое право никакой эпохи, подобно тому, как ни один язык не может обойтись без различения подлежащего и сказуемого». Лишь очень немногие романисты допускают возможность иной постановки вопроса, да и то со значительными оговорками. В частности, можно различать два течения. Одно, более раннее, представителями которого являются, между прочим, H. Kruger и Kuntze, склоняется в пользу того, что в древнем праве элементы вещно-правовые преобладали над элементами обязательственными <6>. Другое, более позднее, в лице, между прочим, Rabel’а, к которому примыкает и Mitteis, наоборот, подчеркивает, что в древнем праве и само право собственности, по крайней мере поскольку оно покоится на деривативном титуле, носило не абсолютный, а относительный характер <7>. ——————————— <5> Kohler. Pfandrechtliche Forschungen. Стр. 26. Пр. 1. <6> Ср. Kuger. Geschichte der Capitis deminutio. Стр. 286 и сл.; Kuntze. Die Obligationen im rom. u. heut. Recht. Стр. 12, 17 и сл. <7> Ср. Rabel. Die Haftung des Verkaufers. Стр. 50, 56 и сл.; Mitteis. Ук. соч. Стр. 87, 88. Прим. 40.
Что касается других правовых систем, то особого внимания заслуживает франко-германское право в период, предшествующий рецепции римского права, как система, в применении к которой проблема о роли и значении противоположения между вещными и обязательственными правами также подверглась весьма тщательному анализу. Здесь нет спора о том, играло ли означенное противоположение роль в качестве классификационного признака: отрицательный ответ на этот вопрос не подлежит никакому сомнению. Спорят лишь о том, сказывается ли упомянутое противоположение, хотя бы в области процесса, на системе исковых притязаний или же следует признать, что оно вообще неизвестно германскому праву раннего Средневековья. В литературе встречаются сторонники и того и другого взгляда. Защитником того взгляда, что противоположение между вещными и обязательственными правами не чуждо средневековому германскому праву и что оно, в частности, лежит в основе германского деления исков на Klagen auf Gut и Klagen um Schuld, является, между прочим, Heusler <8>. Противоположный взгляд проводят Laband и Stobbe <9>. Среднюю позицию занимает Gierke <10>, который, с одной стороны, не находит возможным прямо отрицать существование противоположения между вещными и обязательственными правами в древнем германском праве, но, с другой стороны, признает, что «свойство нарушенного права (Die Beschaffenheit des verletzten Rechts) само по себе не оказывало влияния на квалификацию иска и всплывало лишь во время процесса (im Verlaufe des Prozesses)». ——————————— <8> Heusler. Institutionen des Deutschen Privatrechts. I. Стр. 378 и сл., стр. 384 и сл. <9> Ср. Laband. Vermogensrechtliche Klagen. Стр. 276 и сл.; Stobbe. Handbuch d. deutschen Privatrechts.1. I. Стр. 553. <10> Gierke. Deutsches Privatrecht. Стр. 260, 324 и сл.
Такое расхождение во взглядах лишний раз подтверждает правильность нашего исходного положения, что противоположение между вещными и обязательственными правами не обладает характером логической необходимости, а может быть объяснено лишь исторически. К этому историческому объяснению мы теперь и обратимся. Мы при этом — по мотивам, о которых уже было упомянуто выше, — будем пользоваться преимущественно данными, заимствованными из истории римского права, не пренебрегая, однако, в подлежащих случаях и сравнительно-историческим материалом.
III. Анализ основных моментов, влиявших на структуру древнеримского имущественного права
Вступительные замечания. Существовала ли вообще в древнем праве почва для образования различия между вещными и личными правами. Три момента. § 1. Характер древнейшего оборота. Преобладание сделок на наличные. Mancipatio, in jure cessio, взаимная традиция. Аналогии в других правовых системах. Появление заемных сделок и первоначальный характер их. Использование формы mancipatio fiduciae causa для целей займа. Nexum. Различие между обеими формами. Tabula Baetica. Mancipatio fiduciae causa подвластных детей. Fiducia cum amico contracta u nuncupationes. Общий вывод — преобладание в древнейших сделках вещно-правового элемента. § 2. Отсутствие принципиального противоположения между формами полного и неполного имущественного обладания в древнем праве. Представление о едином праве собственности с изменчивым содержанием. Проведение этого взгляда в древнегерманском праве. Gierke. Аналогичные концепции в английском и в индийском праве. Данные, подтверждающие существование той же концепции в древнеримском праве. 1. Институт fiducia. Сущность его. Роль lex (или pactum) fiduciae. Допускалась ли фидуциарная оговорка при неформальной традиции. Первоначальный характер традиции: она лишена того нейтрального характера, который ей присущ в позднейшем праве. Выводы отсюда. Общий вопрос о присоединении разного рода оговорок к акту традиции. Характер права фидуцианта на фидуцированную вещь. Указания в источниках на признание за ним ограниченного встречного права собственности на нее. Paulus Sent. Rec. II, 13, § 3; Vat. fragm. § 94; Gaj. II, 220; Paulus I. e. III, 6, § 16. Usureceptio ex fiducia: сущность этого института и основное отличие от обыкновенной usucapio. 2. Юридическая квалификация древнейших сельских сервитутов как res mancipi. Выводы отсюда. Аналогии в германском и английском праве. 3. Юридическое положение sui heredes. Gaj. II, 157; 1. II D. de lib. et post. 28, 2. Признание за ними экспектативного права собственности. Аналогии в других правовых системах. 4. Положение опекуна в древнем праве; 1. I pr. D. de tut. 26, 4; I. 27. eod. Аналогии в германском и английском праве. 5. Положение familiae autor; Gaj. II, 104. Душеприказчик древнего германского права. 6. Usurfructus как pars dominii? I. 4 D. de usufr. 7, 1; I. 25 D. de V. S. 50, 16. Суррогат узуфрукта в древнейшем праве. Выводы отсюда. Не противоречит ли допущению установления срочного пользования в форме mancipatio fiduciae causa правило I. 77 D. de R. J. 50, 17? Истинный смысл этого правила. Аналогии в других правовых системах. 7. Отражение древней концепции в позднейших институтах бонитарной собственности, bonorum possessio, bonorum venditio, missio ex decreto secundo. Конструкция дотального имущества как res uxoria. Взгляд Юстиниана в I. 30 Cod. de jur. dot. 5, 12. Общий вывод. 8. Двусторонний характер древнего виндикационного иска, основанный на взаимном утверждении: ex jure Quiritium meum esse. Аналогии древнегерманского права. § 3. Деликтный характер древнейших исковых притязаний. 1. Деликтный элемент в защите вещного права. Actio furti и вещные элементы в структуре этого иска. Actio furti concepti. Реиперсекуторный элемент в составе actio furti manifesti и concepti. Paul. Sent. Rec. II, 31, § 13 — 14. Как осуществлялся возврат in natura похищенного в этих случаях? Значение actio furti prohibiti и non exhibiti. Применение actio furti к недвижимостям. Древнейший виндикационный иск. Наличие в нем штрафного элемента. Элемент дозволенного самоуправства в структуре виндикационного иска. Неприменимость в этих случаях 1. a. per manus injectionem. Смысл condemnatio pecuniaria. 2. Деликтный элемент в области защиты договорных отношений. Происхождение взгляда на всякое нарушение договорных обязательств как на деликт. Необходимость наличия реального элемента для обоснования деликтного иска. Actio auctoritatis, a. de modo agri, actio adversus adstipulatorem ex cap. II legis Aquiliae, actio rationibus distrahendis, actio ex causa depositi in duplum, actio furti ex causa furti usus. Реиперсекуторный элемент в этих исках. Аналогии в других правовых системах. Задача наша, ввиду всего вышеизложенного, состоит в том, чтобы выяснить, в чем кроется источник противоположения между вещными и обязательственными правоотношениями, какие моменты послужили толчком к созданию его, иначе говоря, на какой почве и когда выросло различное отношение к разным категориям имущественных прав, сказывающееся в различном объеме защиты их, и как, в частности, этот процесс совершался в Риме. Предварительно, однако, для разрешения этой задачи нам необходимо остановиться на анализе некоторых характерных особенностей в общей структуре древнего имущественного права, которые, по крайней мере на первый взгляд, способны породить сомнение в том, возможно ли вообще говорить о наличии почвы для образования — в какой бы то ни было форме — различия между вещными и обязательственными правами в период господства натурального хозяйства. Три момента в этом отношении обращают на себя преимущественное внимание. Это, во-первых, отсутствие в древнем праве, благодаря именно господству натурального хозяйства, сколько-нибудь развитой системы договорно-обязательственных отношений; во-вторых, малая дифференцированность отдельных форм имущественного обладания, и наконец, в-третьих, преобладание в исковом праве системы деликтных исков. На этих трех моментах мы теперь и остановимся.
§ 1
Основная особенность зачаточного оборота, зарождающаяся в примитивных условиях первобытного натурального хозяйства, заключается в том, что едва ли не единственными формами его является мена, а со времени появления общего мерила ценности также купля-продажа на наличные, т. е. такие сделки, которые при нормальных условиях приводят непосредственно к установлению полного, окончательного обладания над подлежащими объектами, иначе говоря — с точки зрения терминологии позднейшего права, — к установлению права собственности в лице обеих договаривающихся сторон; вместе с тем все моменты, предшествующие моменту реального обмена, лишены самостоятельного юридического значения: ни взаимное соглашение, ни даже исполнение одной из сторон ее договорных обязанностей сами по себе не играют роли. Прототипом этих сделок в Риме являются древнейшая манципация (до превращения ее в imaginaria venditio) и одновременная взаимная традиция; косвенным подтверждением такого характера древнейшего римского оборота служит и тот факт, что и позднейший договор купли-продажи (emtio venditio), прежде чем стать консенсуальным контрактом, имел характер реального контракта <11>, что само по себе уже указывает на преемственную связь его с более древней формой купли-продажи на наличные. К этому надо прибавить, что аналогичные же явления наблюдаются и в других правовых системах и, в частности, в древнем германском праве <12>. ——————————— <11> Ср. Karlowa. Rom. Rechtsgeschichte. II. Стр. 363 и сл., стр. 612 и сл. <12> Ср. Schroder. Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte.5. Стр. 64, 300.
При этом достойно внимания, что когда появляются заемные отношения, то и они на первых порах облекаются в форму двусторонних сделок на наличные, поскольку они соединяются с предоставлением кредитору реального обеспечения. В Риме для этой цели служила mancipatio fiduciae causa, фидуциарная манципация, которая первоначально не дополняла, а заменяла договор займа в форме nexum и содержала оговорку, согласно которой в случае возврата номинальным отчуждателем-манципантом, а de facto должником по займу полученной суммы подлежит возврату номинально проданный, а de facto служащий обеспечением возврата долга объект <13>. Особенность этого отношения, которое, правда, может быть реконструировано лишь гипотетически, заключается в том, что элемент кредитования здесь еще совершенно затушеван, как затушеван и элемент личной ответственности должника за долг: он отвечает только отданными в обеспечение долга вещами. Что такие сделки формально были возможны, едва ли подлежит сомнению; что они должны были фактически встречаться, тому служат порукой аналогичные явления в других правовых системах, в частности в древнем германском праве <14>. ——————————— <13> Ср. Voigt. Die XII Tafeln. ll. Стр. 182 — 183. <14> Ср. Schroder. Ук. соч. Стр. 286; Heusler. Institutionen d. deutschen Privatrechts. II. Стр. 134 и сл.
Впрочем, наряду с этой формой довольно рано появляется в Риме другая форма займа, при которой элемент личного долга и личной ответственности приобретает самостоятельное значение. Эта форма — nexum: при нем обеспечением кредитора служит, по существу, личность должника, на которую обращается взыскание в случае неуплаты долга. Нам нет необходимости останавливаться на весьма спорном вопросе о том, какова формально-юридическая природа этого отношения, в частности, следует ли усматривать в nexum акт самопродажи или самозалога должника или просто торжественную форму совершения займа, как равно на вопросе о том, приравнивался ли должник по nexum в случае неуплаты долга сразу к judicatus или нет <15>; ибо, как бы мы ни относились к этим вопросам, конечный вывод от этого не меняется: так или иначе, но в конце концов, если должник не был в состоянии погасить долг и никто за него не заступался, ему грозила addictio со стороны магистрата и в дальнейшем — продажа в рабство trans Tiberim. Для нас в настоящий момент представляет интерес другая сторона дела. Nexum не предполагает сам по себе одновременного или последующего соединения займа с предоставлением кредитору реального обеспечения, но и не исключает подобной комбинации. Такое соединение возможно в такой форме, что не взамен, а наряду с nexum дополнительно совершается mancipatio fiduciae causa: это и будет позднейшая fiducia cum creditore в техническом смысле. От более ранней своей формы эта фидуциарная манципация отличается тем, что она именно привходит к другому, главному обязательству, nexum, которым создается самостоятельное долговое отношение между кредитором и должником. Естественно, что новая форма, более гарантирующая интерес кредитора, должна была вытеснить более раннюю форму, сводящуюся, строго говоря, к продаже с правом выкупа проданной вещи в обмен на полученную сумму. Это не лишает более древнюю форму ее важного показательного значения как переходной формы от сделок на наличные к сделкам кредитным. ——————————— <15> Ср. по этому вопросу: Girard. Manuelelem. de droit Romain.5. Стр. 478 и сл., где дается подробный обзор литературы. Из новейших специальных исследований по этому вопросу обращают на себя внимание Schlossmann, Altromisches Schuldrecht und Schuldverfahren, который различает Personen — u. Sachen-Nexum и характеризует личный nexum как самозалог должника, стр. 49 и сл., и H. Pfluger. Nexum und Mancipium, который, по примеру Lenel’а, отрицает всякую связь nexum с займом и рассматривает его как самостоятельный договор, на основании которого должник отдает себя в долговую кабалу, стр. 8 и сл., 87 и сл.
Правда, на первый взгляд против существования упомянутой более древней формы говорит дошедший до нас текст mancipatio fidi fiduciae causa, составляющий содержащие tabula aenea Baetica <16>: здесь упоминается о том, что mancipatio fidi fiduciae causa совершается sestertio nummo uno, т. е. указывается фиктивная плата, а не реально полученная в долг сумма. Из этого обыкновенно делается вывод, что это — общая форма для всякой фидуциарной манципации <17>. При таких условиях как будто не остается места для той разновидности ее, о которой мы говорили выше и сущность которой заключается в том, что заемная операция с внешней стороны облекается в форму настоящей купли-продажи. По этому поводу следует, однако, заметить, во-первых, что сама доска относится к весьма позднему времени (I — II века после Р. Хр.), когда охарактеризованная нами древняя форма фидуциарной манципации едва ли могла еще встречаться на практике, a nexum в свою очередь заменен был mutuum и стипуляцией, во-вторых, что даже в отношении fiducia cum creditore позднейшей формации на основании tabula Baetica трудно решить, не указывалась ли если не в тексте самого манципационного акта, то в сопроводительном pactum fiduciae сумма долга, в обеспечение которого совершалась манципация, так как мы в данном случае имеем дело не с конкретной сделкой, а с общим формуляром для совершения фидуциарно-залоговых актов, в каковом настоящая, реальная валюта, полученная должником, и не может быть указана, тем более что в тексте формуляра идет речь об обеспечении не только настоящих, но и будущих заемных обязательств (vert.: quam pecuniam L. Titius L. Bajanio dedit, dederit, credidit, crediderit et rel.), в-третьих, что, с другой стороны, существует спор по вопросу о том, включалось ли и при настоящей манципационной купле-продаже, после превращения манципации в imaginaria venditio, в формулу манципации указание на действительно выговоренную покупную плату <18>, и в-четвертых, что ввиду всего изложенного та или иная редакция манципационной формулы вообще не предрешает существа сделки. ——————————— <16> Ср. Bruns. Fontes juris Romani ant. 4. P. II, I, 1. Стр. 200. <17> Ср. Sohm. Institutionen d. Rom. Rechts.13. Стр. 67. <18> Ср. Karlowa. Rom. Rechtsgeschichte. II. Стр. 376 и сл.
В заключение настоящего экскурса о fiducia cum creditore остается сказать, что объектом такой манципации могли служить не только предметы внешнего мира и несвободные лица, но также свободные лица, состоящие под властью pater familias — uxor in manu и filii (filiae) familias, которые в таком случае попадали в положение liberum caput in mancipio и становились у временного своего господина servorum loco. Источники, правда, об использовании свободных подвластных лиц для подобных целей почти не упоминают, если не считать косвенного указания Павла, Sent. Rec. V, I, 1, в связи с чем этот вопрос обыкновенно обходится молчанием и в литературе <19>. Между тем есть полное основание думать, что именно этот случай — наряду с манципацией в целях notae deditio — должен был играть выдающуюся роль в древности. Это вытекает, прежде всего в силу принципа а majore minus, из признанного древнейшим правом общего права продажи подвластных лиц <20>. ——————————— <19> Исключение составляет Schulin, Lehrbuch d. Geschichte d. Rom. Rechts, стр. 385, который усматривает в этих случаях особый антихретический договор, совершенный в форме nexum. Ср. также: Voigt M. Die XII Tafeln. II. Стр. 267. <20> Ср. Karlowa. R. R. II. Стр. 233 и сл.; Voigt M. Ук. соч. Стр. 290; Baron. Institutionen. Стр. 49.
Это подтверждается, далее, известным правилом: si pater filium ter venumduit, которое предусматривает злоупотребление отцом его правом продажи подвластных и имеет целью ограничить его. Это правило, которое, вероятно, сложилось еще до общего ограничения срока продажи подвластных детей сроком пересоставления цензуальных списков (Gaj. I, 140), должно было приобрести наибольшее практическое значение именно в тех случаях, когда продажа преследовала не полное отчуждение, а временное предоставление подвластного в распоряжение манципанта, как это и имело место при mancipatio fiduciae causa. Наконец, тот факт, что юрист Павел в своих Sententiae Receptae V, I, 1 упоминает о существовавшем в его время специальном запрете такого fiduciae dari подвластных детей с указанием, что кредитор, нарушивший этот запрет умышленно, — sciens creditor — подлежит ссылке, deportatur, свидетельствует о том, насколько широкое распространение должен был получить этот институт, раз потребовались столь героические меры для борьбы с этим злом, как те, о которых говорит юрист. Наряду с указанными формами сделок на наличные и древним займом, в форме mancipatio fiduciae causa и в форме nexum, для полноты картины необходимо еще упомянуть о fiducia cum amico contracta <21> (которая так же, как и fiducia cum creditore позднейшей формации, встречается не только при mancipatio, но и при in jure cessio) и о nuncupationes, о которых источники теперь упоминают как об особом виде оговорок, сопровождающих обряд манципации <22>. Все эти оговорки лишены самостоятельной силы: они приобретают значение только вследствие присоединения их к основному акту, направленному на переход данного объекта из одной имущественной сферы в другую. ——————————— <21> Ср. Oertmann. Die Fiducia. Стр. 135 и сл. <22> Ср. o nuncipationes Baron. Institutionen. Стр. 196; Karlowa. Rom. Rechtsgeschichte. II. Стр. 575.
Сказанным исчерпывается круг отношений, возникших на почве древнейшего оборота. Что касается отношений, покоящихся на завещательных распоряжениях, в частности, легатов, то, не говоря уже о том, что их лишь в весьма условном смысле можно причислить к отношениям оборота, следует сказать, что они, во всяком случае, значительно более позднего происхождения, чем древнейшие negotia inter vivos. В конечном результате мы приходим к выводу, что в древнейшем обороте ясно преобладают сделки, в которых, с точки зрения терминологии позднейшего права, на первый план выдвигается элемент вещно-правовой, а не обязательственный. Этот элемент определенно сказывается даже в структуре древнейшей формы договора займа — в nexum, который в практическом результате приводит к установлению долговой кабалы над личностью неоплатного должника.
§ 2
Наряду со слабым развитием договорно-обязательственных отношений есть и второй момент, способный вызвать сомнение по вопросу о том, насколько древнейшее право вообще представляет собою почву для принципиального разграничения вещных и обязательственных правоотношений. Дело в том, что резкое разграничение форм полного и неполного обладания в смысле противоположения права собственности, с одной стороны, вещных и личных (обязательственных) прав на чужие вещи, с другой стороны, в древнейшем праве не встречается. Последнее, напротив, исходит из представления единого родового права, права собственности, которое бывает лишь различной силы или интенсивности: оно может быть полным и неполным — пожизненным, срочным, условным, будущим (экспектативным), ограниченным по содержанию. Для древнего германского права эта концепция в настоящее время вне спора. Так, Гирке <23> констатирует, что «древнегерманское право исходило из единого понятия правового господства над вещами, которое, однако, допускало разнообразные модификации. Его можно характеризовать как право собственности с изменчивым содержанием (wandelbarer Eigentumsbegriff), что равносильно утверждению, что оно не совпадает ни с римским, ни с современным понятием права собственности. Наряду с переходящим по наследству правом собственности имеется пожизненное, наряду с вечным — срочное и резолютивно обусловленное, наряду с наличным — суспензивно обусловленное и экспектативное, ожидаемое (anwartschaftliches) право собственности. Точно так же свободному, полному и неограниченному праву собственности противополагается связанное, ограниченное или обремененное право собственности. Таким образом, этот порядок допускает в установленных им рамках совмещение нескольких прав господства в применении к одной и той же вещи, которые в отношении правомочий по владению, распоряжению и пользованию друг друга взаимно ограничивают и дополняют. Даже больше: объединение всего вещно-правового господства в одних руках вообще встречается только в отношении движимостей. Господство же над недвижимостями с самого начала благодаря перекрещивающимся правам союзов и отдельных лиц распределяется между несколькими точками и развивается в направлении все растущего распыления (Zerlegung). В силу права семьи собственность отдельного лица сталкивается с экспектативной собственностью членов его семьи; в силу права общины индивидуальная собственность связывается и ограничивается общим правом и общей собственностью; в силу права короля или иного властителя верховное его господство в разном объеме суживает право непосредственного собственника недвижимости». ——————————— <23> Gierke. Ук. соч. II. Стр. 351. Ср. также: Heusler. Ук. соч. II. Стр. 15; Brunner. Forschungen. Стр. 32; Schroder. Ук. соч. Стр. 287; Planck. D. deutsche Gerichtsverfahren im. M.-A. Стр. 396, 397, 698.
В английском праве та же концепция в значительной мере сохранилась даже до настоящего времени в своеобразной системе построения прав на недвижимости, которые все подводятся под единое понятие estate. «Estate означает всякое право распоряжения и пользования в отношении недвижимости, какого бы то ни было объема; при этом под понятие estate подводят не только те права, которые (безусловно, бессрочно или же с включением тех или иных условий, или на тот или иной срок) доставляют полное осуществление права собственности, но принципиально и incorporeal hereditaments (к которым причисляются реальные сервитуты, реальные тягости, известные регалии, право патроната и ряд публично-правных правомочий), которые доставляют только частичные права, частичное пользование… estates, таким образом… могут быть характеризованы как разновидности качественно единого вещного права господства над недвижимостями» <24>. При этом, соответственно дуализму common law и equity, различаются legal и equitable estates. ——————————— <24> Ср. Heymann E. Ueberblickuber d. englische Privatrecht в Holtzendorff. Enzyklopadie der Rechtswissenschaft. 6-е изд. I. Стр. 814.
На аналогичные явления в древнем индийском праве указывает B. Leist <25>. ——————————— <25> Leist B. Alt-arisches Jus gentium. Стр. 469, 493.
Что касается римского права, то до самого последнего времени всегда считалось аксиомой, что оно в данном отношении спокон веку занимало совершенно иную позицию: право собственности — как неограниченное право господства над вещью — с этой точки зрения всегда противополагалось у римлян всем остальным вещным и личным правам на чужие вещи. Между тем имеется целый ряд указаний на то, что и древнее римское право в этом отношении не составляло исключения из общего правила. 1. В частности, нельзя прежде всего не обратить внимания на своеобразный институт fiducia. Если вникнуть в сущность этого института в двух его видах — fiducia cum creditore и fiducia cum amico, о которых сообщает Гай (Inst. II, 60), то остается только констатировать, что в древнем римском праве различные правоотношения, которые позднее вылились в ряд самостоятельных институтов, противополагаемых праву собственности и устанавливающих те или иные весьма различные по содержанию, частью вещные, частью личные (обязательственные) права и соответствующие обязанности относительно подлежащих объектов, рассматривались как разновидности единого вещного права, права собственности, которое с этой точки зрения могло быть полным и неполным, вечным и установленным на срок, безусловным и условным, существующим в собственном или в прокураторном интересе. Lex или pactum fiduciae, т. е. фидуциарная оговорка, присоединяемая в подлежащих случаях по соглашению сторон к mancipatio или in jure cessio, с этой точки зрения составляет тот сопровождающий акт отчуждения соответствующего объекта момент, который индивидуализирует этот акт и сообщает устанавливаемой разновидности права собственности свойственный ей характер <26>. На первый взгляд против этого можно возразить, что fiducia не имела общего значения, так как она не встречается при простой, неформальной традиции, которая служила нормальным способом приобретения res mancipi, и что, следовательно, одной ссылкой на этот институт нельзя обосновать тот общий вывод, который был формулирован выше. Но, во-первых, сам вопрос о том, не допускалась ли фидуциарная оговорка и при неформальной традиции, составляет предмет спора и некоторыми учеными разрешается в утвердительном смысле <27>, как, с другой стороны, спорят о том, не допускалась ли первоначально манципация, по крайней мере факультативно, также в применении к res nec mancipi, в пользу чего теперь раздаются голоса <28>. Во-вторых, как бы там ни было, нельзя во всяком случае не заметить, что если из одного факта существования института fiducia не вытекает в качестве бесспорного вывода, что и римское право на первых порах рассматривало разные формы обладания вещами как разновидности одного единого права, то тем менее из нейтрального акта традиции как такового вытекает противоположный вывод: из этого акта, изолированно взятого, вообще нельзя заключать о том, каково было его юридическое значение в древнем праве — порождал ли он всегда только одно и то же правоотношение, в частности окончательное, полное право обладания, иначе именуемое правом собственности, или же на этой почве могли возникать разные правоотношения, и если да, то как они внешним образом оттенялись, как они отличались друг от друга и как они мыслились — как качественно различные вещные и личные права на подлежащие объекты с различением в составе первых права собственности и ограниченных вещных прав (jura in re aliena) или же как разновидности одного единого права: a priori одинаково возможно и то и другое. Весы, однако, решительно склоняются в пользу последней альтернативы, если принять во внимание следующие обстоятельства. Прежде всего, на это указывает характер древнейших сделок как сделок на наличные, что стоит в связи с отсутствием почвы для создания личного кредита. Засим нельзя не обратить внимания на тот факт, что основными типами этих сделок являются мена и купля-продажа, которые появляются ранее других сделок именно потому, что они при нормальных условиях приводят взаимные отношения между сторонами к немедленной и полной ликвидации, так как они направлены на окончательное предоставление подлежащих объектов в полное обладание, иначе говоря, на перенесение полного права на них, каковым с точки зрения позднейшей терминологии и является право собственности. Отсюда с представлением об исполнительных (по отношению к подлежащим сделкам) и одновременно установительных (по отношению к возникающим на этой почве правам) актах, в которых проявляется обмен на наличные, независимо от формального или неформального характера их (а следовательно, в применении к римскому праву независимо от того, идет ли речь о манципации, in jure cessio или простой традиции), естественно, должно было ассоциироваться представление о том, что это акты, устанавливающие именно окончательное и полное право на подлежащие объекты. Когда засим под влиянием усложнения хозяйственной жизни постепенно начинают появляться сделки нового типа, преследующие отчасти прежние, отчасти и новые хозяйственные цели путем представления тех или иных объектов в неполное, ограниченное по времени, по содержанию и т. д. обладание, эти новые формы начинают пробиваться на первых порах под личиной старых, успевших уже пустить корни форм, причем, в частности, момент обмена на наличные в течение первого времени по возможности сохраняется (как о том красноречиво свидетельствует, между прочим, древний заем, соединяемый с предоставлением — под видом эквивалента — реального обеспечения займодавцу). А так как вместе с тем сохраняются и прежние установительные акты, то естественно ожидать такую концепцию, при которой вновь нарождающиеся правоотношения начинают рассматриваться именно как простые модификации ранее известного единого права: противоположение их друг другу и полному праву собственности с указанной точки зрения соответствует уже более поздней стадии развития, когда соответствующие сделки и возникающие на почве их правоотношения успели приобрести массовый характер, дифференцироваться и индивидуализироваться, т. е. вылиться в особые типы со специфическими, резко бросающимися в глаза, отличными друг от друга чертами и юридическими последствиями. Из сказанного явствует, что вопрос о том, допускалась ли в древнем римском праве фидуциарная оговорка в техническом смысле или какие-нибудь заменяющие ее заявления или действия в тех случаях, в которых актом, завершающим обмен на наличные, служила или могла служить простая неформальная традиция, имеет второстепенное значение при разрешении основного вопроса, занимающего нас в настоящее время. Даже отрицательное разрешение первого вопроса вовсе не означает, что традиция с первых же шагов является тем нейтральным актом, каким она представляется с точки зрения позднейшего права, когда она вне связи с конкретной causa traditionis не дает возможности судить о том, какого рода право имеется в виду установить относительно объекта традиции в данном частном случае. Из отрицательного разрешения указанного вопроса вытекает только один вывод: либо акт традиции первоначально не порождал никакого права (таков должен быть вывод относительно res mancipi), либо (в отношении res nec mancipi) им устанавливалось нормальное с точки зрения древнейшего оборота, выражающегося в обмене на наличные, конкретное правоотношение, каковым является предоставление объекта в окончательное, иначе говоря, полное обладание приобретателя; если же стороны в данном частном случае желали внести какие-нибудь модификации в подлежащие отношения, то приходилось обращаться к тому формальному установительному акту, который, по свидетельству источников (Ulp. lib. sing, regul. XIX, 9), как бы мы ни относились к допустимости манципации, во всяком случае допускался относительно res nec mancipi, т. е. к in jure cessio, при которой фидуциарная оговорка могла иметь место. К сказанному остается прибавить, что в данном случае еще и tertium datur, а именно: если даже допустить, что при традиции фидуциарная оговорка в техническом смысле не практиковалась, то отсюда не следует, чтобы взамен нее не могли сложиться другие оговорки, устанавливающие в отдельных случаях те или иные уклонения от обычного шаблона, подобно тому, как это имело место в древнем германском праве <29>: из таких оговорок, сопровождающих акт традиции, со временем могли выкристаллизоваться самостоятельные договорные типы, в частности основные реальные и некоторые консенсуальные контракты. Мы к этому вопросу вернемся, а пока заметим лишь, что источники прямо об этом не упоминают, если не считать 1. 48 D. de pact. 2, 14; этот фрагмент гласит: in traditionibus rerum quodcumque pactum sit, id valere manifestissimum est. Вопрос, однако, в том, не имеем ли мы в данном случае дела с интерполяцией: не заменен ли термин mancipationibus словом <30> traditionibus? Как бы там ни было, даже полное молчание источников само по себе еще не опровергает данной гипотезы, ибо не следует упускать из виду, что главные наши сведения по настоящему вопросу относятся к такому времени, когда противоположение между правом собственности, с одной стороны, и ограниченными вещными и личными правами, с другой стороны, успело уже пустить корни, когда разнообразные формы договоров стали обычным жизненным явлением, а когда вместе с тем традиция окончательно приобрела тот характер нейтрального акта, который присущ ей в позднейшем праве. ——————————— <26> Ср. по вопросу о формальной структуре и материальном характере фидуциарной оговорки: Oertmann. Ук. соч. Стр. 86 и сл.; О соответствующих индивидуализирующих акт отчуждения оговорках в древнем германском праве ср.: Gierke. Ук. соч. 11. Стр. 351. Прим. 11; стр. 352. Прим. 13; стр. 277. Прим. 50. <27> Ср. обзор литературы по этому вопросу у Oertmann. Ук. соч. Стр. 73 и сл. <28> Ср. Rabel. Die Haftung des Verkaufers. Стр. 59. <29> См.: выше примеч. 26 на стр. 159. <30> Так смотрит на дело Lenel. Palingenesia. I. Стр. 244. Пр. 2.
Такова одна сторона вопроса о фидуциарном отчуждении (в только что разобранном, широком смысле). Есть, однако, еще вторая, не менее важная. Она сводится к следующему. Наряду с правом фидуциара на вещь существует известное право фидуцианта на нее, проявляющееся в первую голову в праве требовать возврата ее по истечении условленного срока или по наступлении соответствующих обстоятельств. Спрашивается: рассматривалось ли это встречное право фидуцианта тоже как разновидность права собственности, и если да, то представляло ли оно собой до момента, когда можно было требовать возврата фидуцированной вещи, только одно nudum jus или же оно имело и реальное содержание? Источники по первому из этих двух вопросов прямых указаний не дают, и это понятно, так как все они относятся к такому времени, когда, как выше было указано, противоположение между правом собственности и ограниченными вещными и личными правами на вещи давно получило право господства в мировоззрении римской юриспруденции. За всем тем имеется, однако, целый ряд косвенных указаний в отношении fiducia в техническом смысле, которые до сих пор считались весьма загадочными и которые позволяют дать положительный ответ на поставленный вопрос <31>. Дело в том, что еще в императорском периоде в целом ряде отношений за фидуциантом признается право распоряжения фидуцированными вещами, в основе чего лежит мысль о том, что эти вещи как бы продолжают входить в состав его имущества. Сюда относится: во-первых, право фидуцианта продать фидуцированную вещь всякому, за исключением кредитора (Paul. II, 13, § 3); во-вторых, право его предоставить такую вещь в приданое (Vat. fr. § 94); в-третьих, право отказать такую вещь по завещанию в форме legatum per praeceptionem (Gaj. II, 220). Характерно, что Гай в данном случае подчеркивает, что этим устанавливается исключение из общего правила: nihil aliud… per praeceptionem legari posse, nisi quod testatoris sit, так как в данном случае речь идет о res aliena. Он со своей точки зрения, разумеется, совершенно прав, утверждая, что формально res fiduciae data является res aliena, ибо в его время оно так и было. Но почему же было допущено такое исключение? Ответ ясен: мы и в данном случае, как во всех остальных вышеприведенных примерах, имеем дело с рефлексами, с отражениями изжитого, более древнего правопорядка, который в области фидуциарных отношений продолжает еще проявлять живучесть. В-четвертых, к приведенным случаям тесно примыкает следующий случай, на который справедливо указывает Karlowa <32>: по общему правилу последующее отчуждение отказанной вещи со стороны завещателя рассматривалось как (молчаливая) отмена легата. И вот любопытно, что Павел (III, 6, § 16) разъясняет, что подобной отмены нельзя усматривать в rem pignori vel fiduciae dare: rem legatam testator si postea pignori vel fiduciae dederit, ex eo voluntatem mutasse non videtur: яркое свидетельство в пользу того, что fiducia не приравнивалась к полному отчуждению вещи. ——————————— <31> Ср. Oertmann. Ук. соч. Стр. 172. Там же обзор прежней, додернбурговской литературы вопроса, целый ряд представителей которой близко подходит к правильному разрешению вопроса. См.: Ук. соч. Стр. 161 и сл. <32> Karlowa. Ук. соч. II. Стр. 389 — 390.
Серьезным возражением против всего сказанного является на первый взгляд ссылка на институт usureceptio ex fiducia, о котором упоминает Гай (II, 59, 60; III, 201). Вот что он говорит по этому поводу: adhuc etiam ex aliis causis sciens quisque rem alienam usucapit. Nam qui rem alieni fiduciae causa mancipio dederit vel in jure cesserit, si eandem ipse possederit, potest usucapere, anno scilicet, (etiamsi) soli si sit… Et siquidem cum amico contracta sit fiducia, sane omnimodo conpetit usureceptio; si vero cum creditore, soluta quidem pecunia omnimodo conpetit, nondum vero soluta ita demum conpetit, si neque conduxerit eam rem a creditore debitor, neque precario rogaverit, ut eam rem possidere liceat. По этому поводу следует сказать: то обстоятельство, что Гай характеризует фидуцированную вещь как res aliena, как выше было уже указано, не имеет значения, ибо этим не предрешается характер отношения фидуцианта к такой вещи в древнем праве. С другой стороны, usureceptio ex fiducia сама по себе устанавливает лишь дополнительный способ прекращения встречного права фидуциара на вещь, опять-таки не предрешая вопроса о характере права самого фидуцианта на нее. Вместе с тем нельзя не обратить внимания на то, что настоящий институт носит специальное техническое наименование usureceptio в противоположность обыкновенной usucapio. Это стоит в связи с тем, что usucapio касается чужих вещей и составляет (в историческом аспекте своем) прототип приобретательной давности, а usureceptio касается собственных вещей и представляет собой прототип погасительной давности: это вытекает из того, что признание встречного права фидуциара при fiducia cum creditore, выражающееся в conducere или precario rogare rem a creditore, препятствует течению давностного срока. К тому же конечному выводу можно подойти и с другой стороны: если бы фидуцированные вещи считались чужими, то пришлось бы признать, что захватом их без ведома фидуциара фидуциант совершает furtum; res furtivae же издавна не могли быть узукапированы (Gaj. II, 45, 49). Между тем в данном случае не только допускается usureceptio, но она обставляется еще и льготными условиями. Таким образом, в окончательном выводе оказывается, что институт usureceptio ex fiducia не только не подрывает нашей гипотезы, а, напротив, служит лишним подтверждением правильности ее. Что касается, в заключение, вопроса о том, насколько право фидуцианта на вещь, рассматриваемое как разновидность права собственности, имело реальное содержание при существовании встречного права собственности фидуциара, то ответ на этот вопрос вытекает уже из предшествующих рассуждений; некоторые дополнительные соображения будут предоставлены ниже, в своем месте. 2. Мы идем дальше. Не менее доказательное значение, чем институт fiducia, имеют некоторые другие факты, о которых свидетельствуют нам римские источники, в особенности если сопоставить их с соответствующими фактами, заимствуемыми из истории других правовых систем и, в частности, из истории германского права. Сюда относится прежде всего тот факт, что сельские сервитуты причислялись к res mancipi и подобно остальным res mancipi приобретались per mancipationem (Gaj. II, 17; Ulp. XIX, 1). Объясняется это тем, что приобретение этих сервитутов (древнейших из всех) подводилось под понятие приобретения неполного, ограниченного права собственности на соответствующие части praedia, которые в остальном считались собственностью собственника служащих участков, — точка зрения, близко соприкасающаяся с точкой зрения древнего германского права <33> и доныне отражающаяся в английском праве <34>. ——————————— <33> Heusler. Ук. соч. I. Стр. 339 — 340. <34> Heymann. Ук. соч. Стр. 815, 819. Реальные сервитуты в английском праве причисляются к incorporeal hereditaments и рассматриваются как объекты разных estates.
3. Весьма характерен также взгляд древнего римского права на юридическое положение sui heredes, которые, по свидетельству Гая (II, 157), vivo quoque parente quodammodo domini existi-mantur, в связи с чем стоит известный факт приобретения ими наследства, оставшегося после домовладыки, ipso jure. Другими словами, отношение sui heredes к будущему наследству рассматривалось как экспектативное право собственности, сосуществующее с наличным правом собственности домовладыки, как это весьма определенно формулировано Павлом в 1. II D. de lib. et post. 28, 2: in suis heredibus evidentius apparet continuationem domini eo rem perducere, ut nulla videatur hereditas fuisse, quasi olim hi domini essent, qui etiam vivo patre quodammodo domini existi-mantur, unde etiam filius familias appelatur sicut paterfamilias sola nota haec adjecta, per quam distingitur genitor ab eo, qui genitus est; itaque post mortem patris non hereditatem suscipere videntur, sed magis liberam bonorum administrationem consequntur. Hac ex causa, licet non sint heredes instituti, domini sunt, nec obstat, quod licet eos exheredare, quod et occidere licebat. И здесь можно указать, с одной стороны, на любопытную аналогию индийского и греческого права с их учением о бесспорном и спорном порядке наследования <35>, с другой стороны, на anwartschaftliches Eigentum древнего германского права <36> и на estates in expectancy английского права <37>, в основе каковых институтов лежат сходные взгляды. ——————————— <35> Leist. Alt-arisches jus civile. Стр. 191. <36> Gierke. Ук. соч. II. Стр. 352, 785. <37> Heymann. Ук. соч. Стр. 815, 819.
4. В связи со сказанным получает свое надлежащее освещение и юридическое положение опекуна в древнем праве. Tutela impuberum характеризуется как jus ac potestas in capite libero ad tuendum eum, qui propter aetatem suam sponte se defendere nequit, jure civili data ac permissa (§ 1. I. de test. D. I, 13, 1. 1 pr. D. de tut. 26, 1). Введение ее, приписываемое XII таблицам, обосновывается тем, ut qui sperarernt hanc successionem, iidem tuerentur bona, ne dilapi-darentur (I. I pr. D. h. t. 26, 4). Наконец, характеризуя пределы прав опекуна по заведованию имуществом пупилла, еще императорские юристы говорят, что он считается domini loco или vice domini, сдабривая эту архаическую характеристику лишь неизбежной для их эпохи оговоркой, что tutor, qui tutelam gerit, quantum ad providentiam pupillarem domini loco habere debet (1. 27 D. h. t. 26, 7), чем, конечно, сама характеристика в практическом результате превращается в пустую словесность. Ясно, однако, что первоначально она имела весьма реальное значение: с точки зрения древнего права и отношение опекуна к имуществу пупилла рассматривалось как разновидность единого общего понятия собственности <38>, которое конкурировало с правом собственности на это имущество самого пупилла. И опять-таки та же точка зрения встречается и в древнем германском праве, которое также допускает в качестве особой разновидности основного вещного права господства вещное право опекуна относительно имущества, в частности относительно недвижимого имущества подопечного, воплощаемого в особой Vormundschafts-Gewehre <39>. Равным образом и в древнем английском праве за опекуном над недвижимым имуществом подопечного признавался специфический estate, т. е. и его отношение к имуществу подопечного квалифицировалось как разновидность единого вещного права <40>. ——————————— <38> Ср. также: Mitteis. Ук. соч. I. Стр. 76. Прим. 10. То же самое следует сказать и относительно древнего curator furiosi, ср. Karlowa. R. R. II. Стр. 309; Mitteis. Ук. соч. II. Стр. 209, 210. Прим. 18; 1. 157 D. 50, 17 verb.: vel dominis, vel his, qui vice dominorum sunt, veluti tutoribus et curatoribus. Ср. еще Schulin. Lehrbuch d. Geschichte d. R. R. Стр. 188 и сл. <39> Ср. Heusler. Ук. соч. II. Стр. 18 — 19; Schroder. Ук. соч. Стр. 287. <40> Heymann. Ук. соч. Стр. 844.
5. Сходным характером отличается также положение familiae emtor при древнем манципационном завещании (Gaj. Inst. II, 104) <41>, которое, в свою очередь, напоминает душеприказчик древнего германского права <42>. ——————————— <41> Ср. об этом очень спорном вопросе Mitteis. Ук. соч. II. Стр. 77. Прим. 11. Ср. Karlowa. Ук. соч. II. Стр. 845, который прямо характеризует familiae curator как «eine Art Salmann, ein Testamentsvollstrecker». <42> Heusler. Ук. соч. II. Стр. 652.
6. Быть может, некоторым отдаленным отражением взглядов древнего римского права на разбираемый нами вопрос является также сомнение по вопросу о квалификации узуфрукта, которое встречается у римских юристов императорского времени: составляет ли узуфрукт pars dominii или нет? Так, например, юрист Павел не только ставит этот вопрос, но дает два диаметрально противоположных ответа на него. В 1. 4 D. de usufr. 7, 1 он говорит: ususfructus in multis casibus pars dominii est, а в 1. 25 D. de V. S. 50, 16 он же утверждает: recte dicimus eum fundum totum nostrum esse, etiam quum ususfructus alienus est, quia ususfructus non dominii pars, sed servitutis sit, ut via et iter… hoc et Julianus, et est verius. Где корень этого спора? Узуфрукт в качестве самостоятельного jus in re aliena, несомненно, появился довольно поздно, быть может, под влиянием греческого права <43>. Но из этого не следует, чтобы до того времени не существовало никакой формы ограниченного, срочного пользования: fiducia, несомненно, могла служить и для этой цели сначала, вероятно, в качестве одной из разновидностей fiducia cum creditore как форма антихретического пользования, а засим и в других случаях как форма обыкновенного пользования, предоставленного пожизненно или на известный срок, на возмездном или безмездном основании. Раз это так, то и срочное пользование, устанавливаемое в форме fiducia, подходило в древнем праве под понятие одной из разновидностей единого вещного права, права собственности. В соответствии с этим и возникло представление о том, что в таких случаях из plena proprietas выделяется функция пользования (и извлечения плодов), образуя самостоятельную часть или разновидность общего понятия собственности, pars dominii, за вычетом которой остается только nuda proprietas, вплоть до того момента, когда вновь, за прекращением этого временного пользования, nudae proprietatis dominus incipit plenam in re habere potestatem (§ 4 J. II, 4); отсюда в дальнейшем, после превращения узуфрукта в самостоятельное вещное право, могло возникнуть и то сомнение, на которое было указано выше. Сомнение это в свое время не было даже вполне беспочвенным, если принять во внимание, что в классическом праве fiducia продолжала существовать, а следовательно, заинтересованные лица в подлежащих случаях могли прибегнуть либо к форме фидуциарной собственности, либо к форме узуфрукта. Сказанным вместе с тем проливается свет на вышеприведенные изречения Павла. В них нельзя усмотреть противоречия, если только допустить, что в первом фрагменте, где он говорит о multi casus, когда узуфрукт pars dominii est, он имеет в виду случаи, в которых узуфрукт с внешней стороны облечен в форму фидуциарной собственности, а во втором фрагменте, где оказывается, что узуфрукт non dominii pars, sed servitutis est, он имеет в виду узуфрукт в техническом смысле, как самостоятельное вещное право, отличное от права собственности, а посему составляющее разновидность (pars) не этого понятия, а понятия сервитута, подобно дорожным сервитутам (ut via et iter). Правда, против всей этой дедукции может быть сделано одно на первый взгляд прямо убийственное возражение, а именно: допущение мысли о возможности предоставления срочного пользования в форме фидуциарной собственности противоречит как специальному правилу римского права, согласно которому actus legitimi, к числу которых, конечно, принадлежали mancipatio и in jure cessio, non recipiunt diem vel condicionem (1. 77 D. de R. J. 50, 17), так и тому общему правилу, которое запрещает установление права собственности на срок, каковой запрет впоследствии был смягчен претором и окончательно снят только Юстинианом <44>. По этому поводу следует заметить: прежде всего неизвестно, существовали ли эти правила с самого начала и не явились ли они скорее плодом позднейшего резкого обособления права собственности как неограниченного права обладания от всех остальных ограниченных имущественных прав. Что же касается позднейшего времени, то приведенное возражение устраняется тем, что dies ad quem и не включался в текст манципационной или in jure цессионной формулы, он фигурировал лишь в pactum fiduciae, которое сопровождало акт манципации или in jure cessio, но не являлось непосредственно составной частью этого акта, на это pactum только указывали сакраментальные слова fidi fiduciae causa, включаемые в саму формулу <45>. Поэтому формально не существовало никаких препятствий к установлению в этом порядке срочного пользования, между прочим, и в тех целях, ради которых нормально устанавливался узуфрукт, т. е. в целях оказания пожизненно материальной поддержки соответствующему дестинатору. ——————————— <43> Ср. Karlowa. Ук. соч. II. Стр. 533; Voigt M. Rom. Rechtsgeschichte. I. Стр. 445. <44> Ср. Mitteis. Ук. соч. I. Стр. 191 и сл.; Regelsberger. Pandekten. I. Стр. 579. <45> Ср. текст tabula Bantina y Bruns, Fontes juris Rom. ant. Стр. 200; Oertmann. Ук. соч. Стр. 93 — 95.
Неудобство этой формы заключалось в том, что fiducia была рассчитана только на negotia inter vivos. Это неудобство, неразрывно связанное с фидуциарной передачей собственности, кстати сказать, и могло послужить одним из главных оснований, чтобы искать выхода из создавшегося положения в направлении создания новой, менее стеснительной в этом отношении формы, обеспечивающей достижение преследуемых заинтересованными лицами целей и в порядке завещательном. С этим предположением гармонирует тот факт, что узуфрукт устанавливался первоначально именно в завещании. Что касается параллелей в германском и английском праве, то они слишком известны, чтобы на них останавливаться. 7. К сказанному остается прибавить, что косвенным подтверждением всего вышеизложенного может послужить и ссылка на некоторые другие институты, несомненно, позднейшего происхождения, сама возможность появления которых и форма, в которую они вылились, свидетельствуют о живучести установленной нами концепции древнего имущественного права. Сюда относятся институт in bonis esse, о котором Гай, II, 40, говорит: sed postea divisionem accepit dominium, ut alius possit esse ex jure Quiritium dominus, alius in bonis habere; аналогичный характер носят институты bonorum possessio и bonorum venditio, о которых тот же Гай говорит: (III, 80): neque autem bonorum possesorum neque bonorum autorum res pleno jure riant, sed in bonis efficiantur; ex jure Quiritium autem ita demum adquirantur, si usuceperunt, равно как missio in possessionem praedii ex decreto secundo в случае отказа противной стороны в выдаче cautio damni infecti <46>. При этом любопытно отметить, что лежащая в основе этих построений теория о divisio dominii и соответствующая конструкция упомянутых отношений составляют продукт технического творчества римской юриспруденции, которая, по всей вероятности, руководствовалась в данном случае аналогиями, какие представляли дошедшие до нее отдельные пережитки вышеохарактеризованного древнего правопорядка. С этой точки зрения получает надлежащее свое освещение и взгляд на дотальное имущество как на res uxoria, нашедший отражение в преторском дотальном иске — actio rei uxoriae, и как отдаленнейший последний отголосок — своеобразная теория Юстиниана о двойственной природе того же дотального имущества, излагаемая им в 1. 30 Cod. 5, 12: eaedem res (sc. res dotales) et ab initio fuerant et naturaliter in ejus permanserunt dominio. Non enim quod legum subtilitate transitus earum in mariti patrimonium videtur fieri, ideo rei veritas deleta vel confusa est. Наконец, заслуживает внимания также и недопущение actio furti в отношениях между супругами в случае тайного присвоения одним из них вещей другого, взамен чего был введен особый иск — actio rerum amotarum, причем еще Нерва и Кассий Лонгин объясняли это тем, что ne quidem furtum earn (т. е. uxorem) facere, quia ocietas vitae quodammodo dominam earn faceret (I. 1 pr. D. de act. rer. amot. 25, 2). Конечно, не следует преувеличивать доказательное значение этих теорий: вне связи с данными, которые непосредственно отражают первоначальный строй и систему формы обладания, из них никаких определенных выводов в интересующем нас смысле не вытекало бы, ибо сами отношения, которых эти теории касаются (за исключением брачно-имущественных отношений), относятся к такому времени, когда дифференциация отдельных форм обладания несомненно уже стала совершившимся фактом. Тем не менее в связи с только что упомянутыми данными появление именно таких теорий весьма знаменательно. Истинный смысл их с указанной точки зрения заключается в том, что они являются (пусть даже неосознанными) отголосками седой старины: в них вновь оживает, вновь возрождается к жизни, в сравнительно узкой сфере отношений, идея, которая в свое время определяла всю систему форм имущественного обладания. ——————————— <46> Ср. об этом Karlowa. Ук. соч. II. Стр. 1220 — 1221.
8. В заключение настоящего чрезмерно разросшегося экскурса необходимо остановиться еще на одном институте процессуального права, проливающем яркий свет на отношение древнего римского права к настоящему вопросу: мы говорим о структуре древнего виндикационного иска, который, как известно, носил двусторонний характер: на иск истца ответчик должен был реагировать, по существу, предъявлением встречного иска. В частности, Гай в своих Институциях (IV, 16), излагая legis actio sacramento in rem, следующим образом описывает производство in jure интересующей нас части: 1) qui vindicabat, festucam tenebat; deinde ipsam rem adprehendebat, veluti hominem, et ita dicebat: «hunc ego hominem ex jure Quiritium meum esse ajo secundum suam causam; sicut dixi, ecce tibi vindictam imposui», — et simul festucam imponebat; 2) adversarius eadem similiter dicebat et faciebat; 3) cum uterque vindicasset, praetor dicebat: «mittite ambo hominem»; illi mittebant; 4) qui prior vindica (verat, ita alterum interroga) bat: «postulo, anne dicas, qua ex causa vindicaveris»; 5) ille respondebat: «jus feci sicut vindictam imposui»; 6) deinde qui prior vindicaverat, dicebat: «quendo tu injuria vindicavisti, D aeris sacramento te provoco»; 7) adversarius quoque dicebat: «similiter et ego te». Из этого описания явствует, что обе стороны противополагают друг другу ссылку на одно и то же право: ex jure Quiritium meum esse. Ни о каком другом обосновании ни первоначального, ни встречного иска ссылкой на какое-либо иное, хотя бы и вещное, право не упоминается. Такая постановка вопроса вполне гармонирует с предположением о том, что в то время признавалось одно единое (вещное) право, допускавшее разные оттенки, и вместе с тем она противоречит всякому иному предположению. В связи с этим нельзя не обратить внимания и на то обстоятельство, что виндикационный иск — с сохранением формулы (ex jure Quiritium) meum esse — служил и для охраны права властвования над свободными лицами, в частности над подвластными детьми, как о том свидетельствуют Гай (I, 134) и Ульпиан (I. 1, § 2 D. 6, 1). Отсюда естественно напрашивается вывод, что и права властвования над свободной личностью рассматривались первоначально как особые проявления все того же единого права господства, одинаково охватывавшего и res и personaei <47>. К сказанному остается прибавить, что древнее германское право и по вопросу о двустороннем характере и общей структуре виндикационного иска представляет поразительные аналогии с древним римским правом, в особенности поскольку речь идет о виндикации недвижимостей <48>. ——————————— <47> На это обратил внимание еще Ihering. Geist d. Rom. Rechts. II.3. § 32. Стр. 163, со ссылкой на Christiansen. Die Wissenschaft der rom. Rechtsgeschichte. I. Стр. 136 и сл. Из новейших см.: Mitteis. Ук. соч. I. Стр. 75 — 78. <48> Ср. Heusler. Ук. соч. II. Стр. 44, 211; Schroder. Ук. соч. Стр. 391.
§ 3
1. Сверх отмеченных нами двух моментов — именно своеобразного характера древнейших имущественных сделок как сделок на наличные, с одной стороны, и взгляда древнего права на отдельные формы полного и неполного обладания как на разновидности или оттенки одного и того же единого права господства, с другой стороны, — имеется еще третий момент, который равным образом способен породить сомнение в том, насколько древнее право дает почву для разграничения вещных и обязательственных правоотношений. Речь идет о деликтном характере древнейших исковых притязаний. На этот характер древнего искового права — в применении к римскому праву — обратил внимание еще Иеринг <49>. С тех пор вопрос неоднократно подвергался вновь рассмотрению <50>. Не повторяя высказанного другими, мы ограничимся лишь следующими замечаниями. Во-первых, прежде всего обращает на себя внимание деликтный элемент в защите вещного права, отождествляемого, как выше было указано, с правом собственности. Он проявляется прежде всего в широкой сфере применения actio furti. Этот штрафной иск в древнем праве, как неоднократно уже было отмечено в литературе <51>, приближается к типу вещных исков, так как он предъявляется не только в качестве actio furti manifesti и nec manifesti против вора, но в качестве actio furti concepti против всякого, у кого при обыске найдена краденая вещь, quamvis fur non sit с предоставлением ему права предъявить в порядке регресса actio furti oblati против того, кто подкинул ему эту вещь (ср. Gaj. J. II, 183 — 187; § 3, 4 J. IV, 1). К этому надо прибавить, что, по свидетельству Павла (Sent. Rec. II, 31, § 13 — 14), actio furti concepti (так же как и actio furti manifesti) направлена не только на уплату штрафа, но и на ipsius rei repetitio. Другими словами, оба эти иска содержали и реиперсекуторный момент, каковое обстоятельство уже окончательно сближало первый из них с вещными исками. Правда, свидетельство Павла не подтверждается другими источниками (ср. Gaj. J. IV, 8), а в литературе большинством писателей оно обходится полным молчанием <52>. Но следует ли отсюда, что оно должно быть совершенно отброшено и что в древнем праве в подлежащих случаях вопрос о возврате украденного не возникал вовсе или что в этих пределах древнее право с самого начала отсылало потерпевшего к виндикации в форме legis actio sacramento in rem? Едва ли это было так <53>. Скорее всего, следует признать, что вопрос о возврате украденного в натуре, возникавший, поскольку речь шла об индивидуально-определенных вещах, implicite разрешался вместе с признанием уважительной претензии истца об уплате штрафа, осуществление же признанного притязания в соответствующей части входило в сферу дозволенного самоуправства. В пользу этого говорит прежде всего вся структура furtum manifestum в древнем праве, которая допускала самоуправство в самых широких размерах, вплоть до убийства fur nocturnus и всякого вообще fur manifestus, si is telo se defendat (I. 4, § 1 D. ad leg. Aqu. 9, 2). Далее, достойно внимания, что сам обыск, предшествовавший предъявлению actio furti concepti, производился внесудебным порядком (Gaj. J. III, 186, 193) и что позднее претор в связи с этим ввел два дополнительных иска: actio, furti prohibiti против того, кто препятствовал производству обыска (Gaj. III, 188), и actio furti non exhibiti против того, кто не выдавал найденной у него при обыске вещи, qui furtivam rem apud se quaesitam et inventam non exhibuit (§ 4 J. de obl. quae ex del. IV, 1). Сама возможность введения этих дополнительных исков в сравнительно позднее время свидетельствует о том, насколько широка была в данной области сфера дозволенного самоуправства в древнем праве: ведь цель обоих исков, очевидно, заключалась в том, чтобы сузить эту сферу. Сопоставляя все эти данные, мы приходим к выводу, что правы те, кто полагает, что первоначально едва ли существовала почва для появления чисто реиперсекуторного вещного иска, поскольку речь шла о движимых вещах. Действительно, пока не была разработана субъективная сторона виновности, пока всякое третье лицо, у которого находили украденную вещь, отвечало на actio furti concepti, quamvis fur non sit, этот иск в связи с предъявляемыми inter partes исками — actio furti manifesti и nec manifesti — с избытком отвечал самым широким требованиям потерпевшего. ——————————— <49> Ср. известную статью «D. Schuldmoment im Rom. Privatrecht» в его Vermischte Schriften. Стр. 155 и сл., в особ. 185 и сл. <50> В русской литературе он обстоятельно разобран в книге проф. Гусакова «Деликты и договоры». Стр. 81 и сл. <51> Ср., напр.: Schulin. Lehrbuch d. Geschichte d. Rom. Rechts. Стр. 234; Гусаков. Ук. соч. Стр. 82. <52> Ср., напр.: Baron. Institutionen. Стр. 201; Girard. Manuel elem de droit Romain.1. Стр. 406 и сл. <53> Ср. по всему этому вопросу Mommsen. Rom. Strafrecht. Стр. 752 — 753, который со ссылкой на Павла допускает в этих случаях «Ersatz mit Strafzuschlag», утверждая, что сообщение actiones furti чисто штрафного характера относится к более позднему времени.
Что касается недвижимостей, то вопрос представляется более спорным. С одной стороны, Авл Геллий и Гай сообщают нам, что еще в начале империи римские юристы спорили по вопросу о том, могут ли недвижимости служить объектом furtum (Gell. XI, 18, 3; Gaj. Jnst. II, 51). С другой стороны, однако, мы ничего не знаем о том, к какому времени относится появление этого взгляда и насколько широко он был распространен. Несомненно одно, что структура тех actiones furti, о которых упоминают источники, непосредственно была рассчитана только на движимые вещи <54>. ——————————— <54> См. по этому вопросу: Mommsen. Rom. Strafrecht. Стр. 739, 740. Прим. 2.
Вместе с тем трудно и даже невозможно предположить, чтобы римская крестьянская община, для которой недвижимости успели приобрести весьма реальную ценность и стать твердым достоянием сначала коллективного (семейного и родового), а впоследствии и индивидуального обладания, не создала особых средств судебной охраны спокойного владения и пользования этими ценнейшими для крестьянской семьи объектами, довольствуясь в течение довольно продолжительного времени, как это, по-видимому, допускает Schulin <55>, системой голого самоуправства и кулачного права. Структура соответствующих средств судебной защиты при этом, естественно, предопределялась тем, что речь шла, с одной стороны, об объектах особой ценности и даже, если угодно, святости, с другой стороны, об объектах, которых ни сокрыть, ни бесследно уничтожить нельзя было. Отсюда, естественно, реиперсекуторный момент — в смысле требования status quo, возврата in natura — должен был выдвинуться на первый план. На этой почве и складывается древнейшая legis actio sacramento in rem. За всем тем весьма любопытно проследить, насколько в структуре этого иска все еще силен, с одной стороны, элемент штрафной, с другой стороны, элемент дозволенного самоуправства. Что касается штрафного элемента, то он сказывается в двояком отношении <56>: во-первых, сторона, проигравшая дело, теряет summam sacramenti; во-вторых, в связи с vindicias dicere претора, т. е. с предоставлением владения спорным участком одной из сторон на время процесса, сторона, вступавшая во владение, в случае проигрыша дела обязана была возместить противной стороне двойную стоимость извлеченных ею плодов (fructus duplione damnum decidere). ——————————— <55> Там же. Стр. 282. <56> Ср. Ihering. Vermischte Schriften. Стр. 169.
Элемент самоуправства проявляется в исполнительной стадии производства. При рассмотрении этого вопроса необходимо иметь в виду следующее. С одной стороны, производство in judicio формально заканчивалось постановлением решения о том, cujus sacramentum justum, cujus injustum sit <57>; однако, по существу, в противоположность позднейшей системе, основанной на начале condemnatio pecuniaria, решение имело в виду именно ipsam rem, как это явствует из слов Гая (IV, 48): judex non ipsam rem condemnat eum, cum quo actum est, sicut olim fieri solebat, (sed) aestimata re pecuniam eum condemnat. С другой стороны, совершенно очевидно, что legis actio per manus injectionem в качестве формы исполнительного производства к случаям этого рода была неприменима: достаточно сослаться на формулу этой legis actio, сообщаемой Гаем (IV, 21), чтобы убедиться в том, что она касалась только ликвидации денежных долгов между сторонами <58>. При таких условиях естественно предположить, что приведение решения в исполнение предоставлялось самому заинтересованному лицу. Дело на практике упрощалось тем, что в древности разбирательство спора происходило re praesente, в частности, относительно недвижимостей — на самом участке. Непосредственно этот порядок засвидетельствован Гаем только относительно производства in jure (Gaj. IV, 17), причем в этой стадии производства относительно недвижимостей и громоздких движимостей были допущены известные послабления (pars aliqua inde sumebatur); дальше в сохранившейся рукописи следует невосстановимый пробел. Однако раз praesentia rei (реальная или символическая) требовалась даже в этой стадии, когда это могло иметь значение только для установления факта нахождения спорного объекта in rerum natura, то тем более она должна была быть обязательной для второй стадии производства, когда спор решался по существу и когда суду, не отвлекаемому, подобно магистрату, другими текущими делами, ничто не мешало в подлежащих случаях отправляться для разбора дела на место нахождения спорного объекта. А раз это так, то выигравший дело, естественно, тут же, по признании его правоты, вступал во владение вещью (если только он не владел участком и до этого в порядке vindicias dicere претора). Это предположение подтверждается и такими выражениями, как auferre, abducere rem, duci servum ab eo, qui vicisset, которые встречаются еще в императорское время и которые явно исходят из того предположения, что не проигравший обязан доставить спорный объект, а выигравший сам его забирает <59>. С указанной точки зрения получает надлежащее освещение и введение condemnatio pecuniaria в отмену порядка, olim существовавшего: смысл нового порядка в том, что захват присужденного объекта уже не может иметь места против воли ответчика-владельца, contumatia которого влечет за собой лишь невыгодную для него переоценку стоимости спорного предмета на деньги, на основании jus jurandum in litem истца. Другими словами, condemnatio pecuniaria, подобно actio furti non exhibiti, о которой говорилось выше, является одним из тех средств, к которым прибегает позднейшее право в борьбе против самоуправства. При этом весьма характерно, что достигается желательный результат и в данном случае путем привнесения в структуру вещного иска штрафного, деликтного элемента <60>. ——————————— <57> Утверждение H. Kruger’а, d. Geschichte des capitis deminutio, стр. 211 и passim, что дело после этого вновь поступало к претору, который аддицировал спорный объект выигравшему дело, ни на чем не основано. <58> Ср. Sohm. Institutionen.13. Стр. 275; Schulin. Ук. соч. Стр. 532; ср. Schlossmann. Altromisches Schuldrecht. Стр. 140. Противоположного взгляда, нарочно придуманного для обоснования своей теории об аддикции спорного объекта претором, придерживается Kruger. Ук. соч. Стр. 201. <59> Ср. I. 57 pr. D. 21, 2, 1. 67 lod., 1. 30 D. 40, 12. На эти фрагменты с несколько иной точки зрения, чем мы, обратил внимание Иеринг. Geist d. R. R. III.1. 1. Стр. 191. <60> Правда, против сказанного может быть выдвинуто одно существенное на первый взгляд возражение: одновременно с vindicias dicere магистрат обязывал сторону, secundum quem vindiciae dicebantur, предоставить противной стороне praedes litis et vindiciarum, id est rei et fructuum, как поясняет Гай (IV, 16). Возникает вопрос: не ограничивалось ли право невладеющей стороны, выигравшей дело, в случае отказа ответчика добровольно подчиниться решению суда, возможностью привлечь к ответственности этих praedes? Мы думаем, что такое предположение не соответствует духу древнего права: обращение к praedes имело место тогда, когда попытка выигравшей дело стороны добиться возврата вещи in natura силами собственными не увенчалась успехом или когда она с самого начала, предвидя безуспешность такой попытки, отказывалась от нее.
2. Что касается области договорных отношений, то и здесь роль деликтного элемента в древнем праве очень велика. Это, как известно, стоит в связи с весьма глубокими общими причинами, которые вообще благоприятствовали преобладанию — во взаимных столкновениях отдельных субъектов в сфере имущественных отношений — деликтных моментов. При отсутствии сколько-нибудь развитого нормального оборота всякое столкновение приобретало неизбежно характер правонарушения, деликта, требовавшего — в форме ли реакции, обращенной против личности (кровная месть, талион в виде увечья, истязание или лишение свободы), или против имущества (талион в виде ответного уничтожения или повреждения тех или иных вещей, система композиций и штрафов) — известного возмездия за содеянное. Неудивительно, что этот взгляд — после появления зачатков оборота — в течение некоторого времени продолжал сказываться: недостижение нормального результата, связываемого с совершением данной сделки, в силу ли коллизии приобретателя с правом третьего лица или в силу ненадлежащего исполнения договорного соглашения, затяжки в возврате полученного и т. д., трактовалось как деликт и порождало соответствующий приобретающий деликтную окраску иск. Далее следует отметить, что в тех случаях, в которых источники упоминают о деликтных исках, возникающих на почве несомненно договорных или квазидоговорных (с точки зрения позднейшего права) отношений, речь нигде не идет о простом неисполнении договорного соглашения как такового; напротив, для обоснования деликтной ответственности и деликтного иска требуется известный реальный момент, которому, независимо от договорного соглашения, и придается решающее значение: этот реальный момент выражается в наличии известного вреда, причиненного потерпевшему образом действия противной стороны, при одновременной невозможности или затруднительности подвести соответствующие случаи под типичные категории furtum и damnum injuria datum. В виде примера можно указать: на actio auctoritatis, где реальный элемент заключается в том, что манципант получил от приобретателя плату, а между тем не в состоянии обеспечить ему спокойное обладание манципированной вещью; на actio de modo agri, где манципированный участок не соответствует по размеру тому, за которой была произведена уплата; на actio depensi sponsor’а, где реальный элемент заключается в том, что главный должник не возвращает суммы, уплаченной за него кредитору sponsor’ом; на actio ex capite II legis Aquiliae adversus adstipulatorem, qui pecuniam in fraudem stipulatoris aeeeptam fecerit, — иск, который дается damni nomine, причем damnum заключается в утрате главным кредитором возможности получить причитающийся ему долг с должника; на actio rationibus distrahendis против опекуна, qui in tutela gerenda rem ex bonis pupilli abstulerit, где мы имеем дело с растратой, причем, однако, actio furti оказывается неприменимой, так как tutor, как мы видели, в древнем праве сам считался domini loco или vice domini <61>; на неизвестного наименования иск, якобы покоящийся на законах XII таблиц, о котором упоминает Павел (Sent. Rec. II, 12, 11) и который характеризуется им как actio ex causa depositi in duplum, каковой иск в отношении случаев fiducia cum amico, по всей вероятности, является предтечей (или прообразом) позднейшей actio fiduciae. На этой же почве сложилось, несомненно, и понятие furtum usus, выработанное ранней республиканской юриспруденцией (ср. Gell. VII (VI), 15): этим открывалась возможность распространительного применения actio furti к случаю неправильного пользования вещами, отданными в целях хранения или специально указанного пользования; реальный элемент в этих случаях заключается если не в самой порче, то в опасности порчи подлежащих вещей от неправомерного пользования ими <62>. ——————————— <61> В том же смысле высказывается Karlowa. Ук. соч. II. Стр. 278. <62> Ср. по этому вопросу Voigt M. D. XII Tafeln. II. Стр. 479 и сл.
В связи со сказанным следует отметить, что штрафной элемент если не во всех, то в большинстве перечисленных случаев соединяется в той или иной форме с элементом реиперсекуторным, на что до сих пор не обращалось должного внимания, но что вполне гармонирует с гибридным характером самых отношений, на почве которых выросли упомянутые иски. Этот смешанный характер прямо выступает наружу, поскольку речь идет о возврате или возмещении денежных платежей, как при actio auctoritatis и actio depensi; в других случаях его подчеркивают сами источники, как это имеет место в отношении actio adversus adstipulatorem, относительно которой Гай говорит, что quanti ea res est, tanti actio constituitur. Такой же смешанный характер носит и actio rationibus distrahendis, относительно которой Павел сообщает: haecactio licet in duplum sit, in simplum rei persecutionem continet, non tota dupli poena est (I. 2 § 2 D. 27, 3). To же, по-видимому, следует сказать и относительно упоминаемой Павлом actio ex causa depositi in duplum (Sent. Rec. II, 12, 11) <63>. При таких условиях становится более чем вероятным, что смешанным же характером отличалась и actio furti, преследующая furtum usus; в пользу этого, независимо даже от значения, которое приобретают в данном случае слова Павла о реиперсекуторном элементе в структуре actio furti manifesti и actio furti concepti, о чем речь была выше, говорит именно аналогия этого иска с actio rationibus distrahendis. ——————————— <63> Ср. Baron. Institutionen. Стр. 202.
В заключение остается прибавить, что однородные явления наблюдаются и в других правовых системах <64> и, в частности, в древнем германском праве <65>. ——————————— <64> Ср. Leist B. Alt-arisches jus civile. Стр. 58; Post. Grundriss der ethnologischen Jurisprudenz. II. § 178. I. Прим. 1. Стр. 623 — 625. <65> Schroder. Ук. соч. Стр. 85, 369, 385, 391; Heusler. Ук. соч. II. Стр. 230, 231.
IV. Процесс обособления вещных и личных прав в древнеримском праве
§ 1. Основные черты хозяйственного и государственного строя древнейших времен Рима. 1. Важнейшие способы установления хозяйственных отношений. Единообразие содержания древнейших отношений. Характер их по отношению к третьим лицам: преобладание отношений полного обладания. Внутренние отношения в составе отдельных семейных организаций: чисто технический характер наблюдаемой в этих отношениях дифференциации отдельных форм обладания. Малое влияние первичного оборота на формы нормального обладания. 2. Исходные моменты для разграничения отдельных категорий притязаний. Два основных типа имущественных деликтов: furtum и damnum injuria datum. Основное различие между ними: лишение в первом случае потерпевшего данного объекта и переход похищенного в другие руки и возникновение в связи с этим вопроса о возврате отнятого как со стороны делинквента, так и со стороны третьих лиц, к которым вещь могла перейти. Появление на этой почве различия между вещными и личными исками. Это различие исков не отражает специфического противоположения вещных и личных прав, характеризующего классическое римское право. Равным образом из него нельзя вывести заключение о признании древнейшим правом права собственности как абсолютного права. Обоснование этих положений. Роль раннего перехода от системы семейного имущества к системе личного имущества в дальнейшем процессе развития имущественных отношений Рима. § 2. Роль раннего оборота в процессе разграничения вещных и личных исков. Вещно-правовые и обязательные элементы его. 1. Краткая рекапитуляция сказанного раньше о характере древнейших римских сделок. Преобладание в них элементов вещно-правовых. 2. Обязательственные элементы в сделках раннего оборота. Обязательственный элемент в сделках на наличные. Actio auctoritatis и a. de modo agri. Обязательственный элемент в nexum. Первоначальный характер nexum. Позднейшие модификации, внесенные XII таблицами и lex Vallia. 3. Обязательственный элемент в случаях фидуциарного отчуждения. Pactum fiduciae и actio fiduciae. Предтечи actio fiduciae: actio ex causa depositi in duplum. Furtum usus и a. furti ex causa furti usus. Сфера применения этих исков. Отсутствие особого личного иска для случаев fiducia cum creditore. Вывод отсюда. Предшествующее изложение имело целью разобраться в некоторых основных вопросах древнего имущественного права, тесно связанных с поставленным нами в данный момент вопросом о происхождении различия между вещными и обязательственными правами. Как нами выше уже было указано, этот вопрос в конкретной форме (в противоположность чисто схематической постановке его) может быть разрешен только путем самостоятельного исследования каждой данной правовой системы в отдельности. Ибо сколь сходны бы ни были отдельные элементы, которые входят в качестве компонентов в данную проблему, конкретная комбинация, конкретное соотношение их неизбежно отличаются в каждом данном случае специфическими чертами. Наша задача — проследить этот процесс в истории Древнего Рима. Для этого нам необходимо сопоставить добытые нами выводы с теми данными, которые характеризуют общий хозяйственный и частноправовой строй древнейших времен Рима.
§ 1
1. Мы исходим из того, что на первых порах, пока отсутствует сколько-нибудь развитый оборот, конкретные отношения между отдельными, образующими основные социальные ячейки группами лиц и подчиняемыми их власти или воздействию посторонними по отношению к данной группе лицами и окружающими их предметами внешнего мира, поскольку эти отношения сводятся к типу хозяйственных отношений, возникают нормально либо в порядке одностороннего захвата (особенно во время войны и вообще набегов на другие племена и группы), либо в порядке регулируемых обычаем распределения внутри каждой такой группы добытых захватом или трудом участников группы благ; распределение в этих случаях регулируется частью санкционированными обычаем распорядительными актами подлежащих групповых авторитетов (pater familias, сход родичей и т. п.), частью — нарождающимися на почве обычного права зачаточными формами права наследования. К этому позднее присоединяются пожалование со стороны власти и незапамятная давность (например, в форме ссылки на характер данной имущественной массы как на bona paterna avitaque). Естественно, что возникающие на этой почве отношения частью единоличного, а большей частью коллективного обладания в отношении третьих, посторонних лиц и групп отличаются единообразием содержания — нет в этом отношении определенной дифференциации отдельных форм обладания. Это не значит, чтобы непременно преобладала та форма, которая на более сложных ступенях общественного и, в частности, хозяйственного развития характеризуется как полное или неограниченное право собственности: в частности, обладание может быть чисто временным, особенно обладание земельными участками, пока господствует кочевой быт и пока вообще существуют земельный простор и экстенсивное хозяйство. Все же такие временного типа отношения первоначально составляют исключение, и появление их объясняется особыми условиями. В общем, при наличии первобытных условий жизни и отсутствии кредита формы имущественного обладания в отношении третьих лиц должны были отличаться характером постоянства, иначе говоря, должны были преобладать отношения, характеризующиеся с точки зрения содержания их как отношения полного господства или обладания. Несколько иначе обстоит дело, когда речь идет о внутригрупповых отношениях. Здесь почва для более или менее определенной дифференциации отдельных форм обладания становится более благоприятной по мере того, как яснее вырисовываются роль и специфическая организация подлежащих коллективных родовых и семейных организаций, образующих основные социальные и правовые ячейки первобытного жизненного уклада, и, в частности, по мере того, как эти организации приобретают характер самостоятельных, обособленных центров хозяйственной жизни. Ход этого процесса у разных племен и народностей, конечно, весьма различный. Что касается, в частности, Рима, то решающую роль сыграл тот факт, что весьма рано на первый план в качестве хозяйственных центров выдвигаются не родовые, а именно семейные организации, притом строго централизованного под единоличной распорядительной властью домовладыки, pater familias, типа. На этой почве создается, с одной стороны, представление о семейном характере того недвижимого и движимого имущества, которое сосредоточивается в руках каждой такой организации: имущество данной организации противополагается имуществу всякой другой организации как имущество, исключительно принадлежащее ей, на которое никакая посторонняя организация претендовать не может. С другой стороны, в недрах отдельных семейных организаций, на почве возрастающей концентрации всех распорядительных функций в руках домовладыки, pater familias, взаимные отношения остальных участников семейной организации выливаются в формы временного, неполного, ограниченного, зависящего от воли и усмотрения pater familias обладания подлежащими объектами, служащими частью орудиями производства (как скот, рабы, орудия для обработки земли, для охоты и т. д.), частью предметами потребления (как носильное платье, украшения разного рода и т. д.). Однако — и это весьма важно помнить — складывающаяся на этой почве дифференциация форм обладания носит чисто технический характер, но не имеет самостоятельного юридического значения: ибо никаких самостоятельных прав за отдельными участниками ни перед pater familias, ни друг перед другом, ни перед третьими лицами не признается. Появление зачаточного оборота в форме обмена на наличные на первых порах мало меняет дело. Мы видели, что даже после того, как наряду с простейшими сделками на наличные, под внешним ли видом таковых или же в более или менее чистом виде, начинают совершаться сделки кредитного типа, построенные на обязательстве возврата полученного в зависимости от наступления известных условий или сроков, — формы полного и неполного обладания, складывающиеся на этой почве, расцениваются лишь как разновидности, как разные оттенки единого права господства или обладания: то, чем я в данное время на законном основании владею, во всех случаях одинаково мое, meum est, и разница только в том, что оно либо мое навсегда, либо только на определенное время или под известным условием. Другими словами, формы нормального обладания и после зарождения оборота в течение довольно долгого времени остаются сравнительно малодифференцированными. 2. Все указанные обстоятельства сами по себе уже не могли не отразиться на структуре тех исковых притязаний, которые стали возникать в качестве средств защиты соответствующих отношений на случай нарушения их, порождая тенденцию к известному единообразию этой структуры. Это не значит, однако, чтобы отсутствовала всякая почва для разграничения разных категорий притязаний. В известном смысле такая почва, несмотря на все, имеется налицо с самого начала: этому не противоречит и преобладание деликтного элемента в структуре древнейших исковых притязаний. Ибо хотя, ввиду отсутствия или крайне слабого развития оборота, коллизии в сфере имущественных отношений возникают почти исключительно на почве деликта, однако в составе этих имущественных деликтов с самого начала приходится различать два главных типа: furtum (в широком смысле, с отнесением сюда не только случаев непосредственного незакономерного присвоения чужих вещей, но и случаев завладения потерянными вещами, удержания сбежавших рабов и животных, случайно занесенных на чужой участок силой стихии вещей и т. п.) и damnum injuria datum. Основное различие между обеими категориями случаев — между незакономерным присвоением чужого добра, с одной стороны, и порчей, повреждением и уничтожением его, с другой стороны, — с интересующей нас в данное время точки зрения сводится к тому, что в первом случае вторжение в чужую имущественную сферу выражается в лишении потерпевшего лица данного объекта с одновременным переходом его в другие (а в дальнейшем, быть может, в третьи, четвертые и т. д.) руки, во втором же случае этот последний момент отпадает. Из сказанного, конечно, не вытекает, чтобы это основное различие с логической необходимостью влекло за собой различную постановку системы защиты интересов потерпевших в том и другом случае; несомненно, однако, что различие в постановке этого вопроса логически мыслимо и на практике встречается. Для этого имеются два повода: с одной стороны, в случаях присвоения чужого добра, наряду с вопросом о возмещении убытка или о штрафе, силой вещей выдвигается и вопрос о возврате самих спорных объектов, поскольку таковые принадлежат к категории индивидуально-определенных, незаменимых вещей или поскольку вообще идентификация похищенного и обнаруженного может быть еще произведена; с другой стороны, в этих случаях может возникнуть и дальнейший вопрос об обратном вытребовании незаконно присвоенного делинквентом объекта от третьих лиц, к которым этот объект мог перейти. То и другое отпадает в тех случаях, где речь идет о порче или уничтожении тех или иных объектов: здесь встает только вопрос о возмещении убытка или о штрафе <66>. ——————————— <66> Вопрос о привлечении, наряду с самим виновным или вместо него, лиц, так или иначе связанных с ним, как-то: властелинов, пособников, родичей и т. д., — вопрос, который может возникнуть как при furtum, так и при damnum injuria datum, — нас в настоящее время не интересует, и мы оставляем его в стороне. Равным образом остается в стороне вопрос об ответственности виновника своей личностью и вопрос о талионе.
Повторим: мыслимо, что данная правовая система игнорирует эти моменты, ограничиваясь, например, в том и другом случае привлечением непосредственного виновника и уплатой штрафа. Однако даже a priori маловероятно, чтобы такой порядок, если бы даже он где-нибудь существовал в чистом виде, мог удержаться: слишком уж он противоречит естественному и законному побуждению потерпевшего, которого лишили принадлежавшей ему вещи, в случае разыскания ее добиваться ее возвращения. Что касается, в частности, римского права, то оно издавна разграничивает обе указанные категории случаев. С одной стороны, чисто личный характер носят иски, возникающие в случае порчи, повреждения или уничтожения чужих вещей; к ним примыкают иски, предусматривающие увечья и телесные повреждения. Вопрос в этих пределах может идти лишь о том, ограничивается ли репрессия против соответствующих деликтов установлением штрафов или возмещением (в той или иной форме, обыкновенно с примесью штрафного элемента) причиненного убытка или же сверх этого возникает вопрос о капитальной ответственности виновного или о талионе <67>. Но не подлежит никакому сомнению, что иски направляются против самого виновного и не носят, да и не могут носить вещного характера. ——————————— <67> См. подробности у M. Voigt. D. XII Tafeln. II. § 131 и сл. Стр. 526 и сл. В связи с этим возникает любопытный вопрос о том, в какой форме производилось в подлежащих случаях возмещение убытка. Подробное рассмотрение этого вопроса, весьма заслуживающего самостоятельного разбора, выходит за пределы нашей задачи. Отметим лишь, что Voigt, ук. соч., II, стр. 531 и сл., высказывает предположение, что в этих случаях в довольно широких размерах практиковался принцип par pari referre в форме возмещения убытка в натуре — т. н. noxiam sarcire — либо в виде восстановления или отремонтирования разрушенных или попорченных виновным объектов, либо в виде замены этих объектов (напр., убитого раба или скота) однородными, служащими как бы дубликатом прежних. В подтверждение этого предположения Voigt ссылается, наряду с указанием на родственный принцип талиона, на термин sarcire, который в соответствующих комбинациях встречается и у позднейших юристов и означает: восстановить — исправить — починить. Впрочем, Voigt тут же оговаривается: он допускает существование соответствующей обязанности в лице виновного только до момента постановления судебного решения, когда судья производит переоценку причиненного убытка на деньги. Это, безусловно, справедливо, поскольку мы имеем в виду порядки позднейшего времени. Но как обстояло дело в то время, когда еще не было общего мерила ценностей — денег и когда решение судьи сводилось к pronuntiatio (в порядке legis actio sacramento in personam): cujus sacramentum justum? Не предоставлялось ли в то отдаленное время самому потерпевшему озаботиться приведением решения в исполнение собственными силами, как это имело место при actio furti и rei vindicatio (см. выше III, 3), и не является ли позднейшая замена прямого sarcire — aestimatione damnum sarcire проявлением все той же тактики позднейшего права, преследующей ограничение пределов дозволенного самоуправства?
С другой стороны, вещный элемент, бесспорно, присущ, как выше было показано, тем искам, в основе которых лежит насильственный или тайный захват или присвоение чужих незаменимых вещей. Эти иски могут быть предъявлены не только inter partes, но и против третьих лиц, к которым спорный объект перешел от первоначального виновника. Различие между actio furti и древней rei vindicatio с этой точки зрения заключается лишь в том, что в первом случае преобладает элемент штрафной, а во втором — элемент реиперсекуторный и что actio furti, поскольку она направляется против третьих лиц, к которым перешла краденая вещь, носит — по крайней мере у позднейших римских юристов — техническое наименование actio furti concepti. Но существо дела от этого не меняется, тем более что и actio furti (по крайней мере implicite) содержит в себе и rei repetitionem. Таким образом, мы в конечном результате приходим к выводу, что уже римское право древнейшей формации успело выработать противоположение между вещными и личными притязаниями. Но было бы совершенно ошибочно думать, что установлением указанного факта поставленная нами задача разрешена. Ибо из того, что древнему праву не чуждо противоположение между вещными и личными исками, отнюдь не следует, чтобы это противоположение между двумя категориями древнейших исков отражало то специфическое противоположение между вещными и обязательственными правами, которое характеризует римское право времен классической юриспруденции или эпохи Юстиниана, не говоря уже о современном римском праве, в котором это противоположение приобрело еще более заостренный характер. Мало того, из установленного нами факта не вытекает даже вывода о признании древнейшим правом права собственности как абсолютного права. В самом деле, из сказанного нами до сих пор бесспорно следует только одно, а именно что обладатель вещи, лишившийся ее помимо своей воли, может потребовать возврата ее не только от первого захватчика, но и от третьих лиц, к которым она также поступила sine justa causa, ибо при отсутствии или весьма слабом развитии нормального оборота всякое третье лицо, к которому вещь перешла от того, кто первый незаконно завладел ею, по крайней мере in dubio, является либо соучастником, либо укрывателем, либо в свою очередь захватчиком по отношению к своему непосредственному предшественнику. Другими словами, древнее право предусматривает prima facie только такие коллизии в сфере имущественных отношений, при которых сталкиваются неодинаковые по силе права или не более сильное право с менее сильным, абсолютное с относительным, вещное с обязательственным, а сталкиваются попросту право и голый факт, признанное, освященное обычаем или законом конкретное отношение, не покоящееся на каком-либо признанном основании, причем в этих случаях перевес оказывается на стороне носителя (субъективного) права. Но каков характер этого защищенного права, отсюда вывести нельзя. Этот вопрос может возникнуть лишь тогда, когда становятся возможными коллизии не только между правом и неправом, но и между разными правами, что в свою очередь предполагает уже существование оборота, существование обмена. Ибо только в обороте зарождаются и постепенно дифференцируются разные формы обладания — полного и неполного, неограниченного и ограниченного. История права показывает, что этот процесс дифференциации отдельных форм обладания совершался довольно медленно. В Риме он был ускорен отчасти благодаря своеобразному ходу развития римской семьи. Централизация всей семейной власти в руках pater familias с перенесением на него всей полноты распорядительных функций по заведованию имуществом подготовила быстрый и решительный переход от типа коллективного семейного имущества к типу единоличного имущества, воплощаемого в принципе частной собственности. Внешним проявлением этого процесса служит тот факт, что весьма рано — еще до первого выступления Рима на арене истории — уже успел сложиться принцип отчуждаемости недвижимой собственности. Вместе с тем начало семейной или родовой собственности, если память о нем и не вполне исчезла, все же к этому времени настолько ослабло, что о сколько-нибудь определенном содержании его, о каких-либо конкретных формах, в которых оно могло бы проявиться, а следственно, и о какой-либо серьезной конкуренции его с началом личной собственности, по крайней мере при жизни дееспособного pater familias, хотя бы в виде признания за семьею или родом какого-либо права участия, контроля или поворота в отношении отчуждения отдельных недвижимостей <68> нет и речи <69>. Иное дело — распоряжение всей имущественной массой на случай смерти: в этом отношении не подлежит сомнению, что древнее право свободы завещаний не признавало: самый характер древнейших форм завещания — testamentum in comitiis calatis и in procinctu — свидетельствует о том, что первоначально лишь в виде исключения — надо думать, при отсутствии агнатов — могла быть испрошена санкция народного собрания (попросту говоря, схода полноправных крестьян-домовладык, ведь Рим того времени был не более как самоуправляющейся крестьянской общиной, во главе которой стоял пожизненно избранный волостной старшина, rex) на отступление от общего, освященного обычаем порядка наследования: такой порядок по самому существу своему представляет собой отрицание свободы завещаний <70>. ——————————— <68> Подобно тому, как мы это встречаем в германском праве в различных формах: Beispruchsrecht, Erbenlaub, Vorkaufsrecht, Nachbarlosung и т. д. Ср. Schroder. Ук. соч. Стр. 287; Heusler. Ук. соч. I. Стр. 227 и сл., 236 и сл. <69> Более или менее определенно семейный характер древнего имущества сказывается лишь в сфере опеки и попечительства, где агнаты пользовались широкими правами в древнем праве. <70> Ср. Ihering. Geist d. R. R. I.1. Стр. 145 и сл.; Mommsen. Staatsrecht. III. 1. Стр. 21, 319 и сл.; Contra Karlowa. Ук. соч. II. Стр. 848. Компромиссный характер носит взгляд Mitteis, Rom. P.-R. I. Стр. 82. Прим. 24.
Переходя от этих общих замечаний к более подробному анализу тех моментов, которые в связи с появлением и дальнейшим развитием оборота оказали влияние на выработку римской системы имущественных прав, мы начнем с выяснения тех ближайших практических последствий, к которым должен был привести нарождающийся оборот, в связи со взглядом на отдельные, последовательно создаваемые жизнью формы обладания как на различные оттенки одного и того же, единого в существе своем права.
§ 2
1. Переходя к рассмотрению поставленного нами вопроса, мы должны прежде всего отличить общее направление, в котором стал развиваться римский оборот, и формы, в которые вылился этот процесс. Вопрос этот в общих чертах был уже затронут нами выше. Мы видели, что в Риме, как всюду, дело начинается с обыкновенных сделок на наличные — мены и купли-продажи. Характерная особенность этих сделок состоит в том, что все моменты, предшествующие моменту реального обмена, лишены самостоятельного юридического значения. Другими словами, значение приобретает только момент, совпадающий с передачей обеим сторонам подлежащих объектов в полное, окончательное обладание, иначе говоря, в полную собственность. Дальнейший шаг, как тоже было отмечено, состоял в появлении сделок, заключающихся в предоставлении тех или иных благ на время или под известным условием: к числу этих сделок относятся, с одной стороны, сделки фидуциарного типа, в частности mancipatio и in jure cessio fiduciae causa, с другой стороны, древний заем, частью соединенный с предоставлением кредитору известного реального обеспечения, частью совершаемый без такового в форме nexum. Особенность этих сделок заключается в том, что при них ex professo возникает вопрос о возврате полученного по наступлении тех обстоятельств, которыми было обусловлено возвращение. В связи с этим приобретает основное значение вопрос о том, о каких вещах в подлежащих случаях идет речь — об индивидуально-распознаваемых, незаменимых вещах или о вещах заменимых; с этим вопросом в большинстве случаев практически совпадает вопрос о том, подлежат ли возврату переданные вещи in natura или tantundem ejusdem qualitatis, как это имеет место при займе: ясно, что с точки зрения возможного объема защиты последний момент не может не играть первенствующей роли. Этим круг сделок, характеризующий первые стадии развития оборота, ограничивается. Появление самостоятельных реальных договоров (если не считать таковым nexum), а также стипуляции — последней в качестве сделки нормального оборота <71> — относится уже к более позднему времени. Реальные договоры предполагают уже весьма далеко зашедшую в правовом сознании дифференциацию отдельных форм обладания и, в частности, появление сознательного противоположения между правом собственности, с одной стороны, и ограниченными вещными и обязательственными правами обладания, с другой стороны. Что касается стипуляции как сделки общего оборота и вообще договоров, направленных на исполнение тех или иных обещаний в будущем (в противоположность обязательствам по возврату ранее реально полученного), то следует заметить, что такого рода договоры в качестве самостоятельной разновидности договорных отношений (а не только в качестве соглашений, привходящих к отношениям, уже возникшим на иной почве) немыслимы без развития личного кредита и предполагают уже осознанную потребность рационализации процесса хозяйствования в смысле создания форм, обеспечивающих будущие хозяйственные операции, необходимые для осуществления определенного хозяйственного плана. ——————————— <71> Первоначальная сфера зарождения стипуляции и, в частности, древнейшей формы ее — Sponsio составляет предмет спора. Наиболее вероятной является гипотеза Mitteis’а, согласно которой она возникла на почве процесса, в частности деликтного процесса, в связи с переходом от системы талиона к системе композиций. Состояла она первоначально в предоставлении противной стороне — в подкрепление и обеспечение обещания по уплате композиции, по явке в суд, по исполнению ожидаемого судебного решении и т. д. — заложников или поручителей (vindex, vas, sponsor), которые в соответствующей форме принимали на себя ответственность вместо должника. Позднее в форме Sponsio начало допускаться и самопоручительство должника, которое в свою очередь превращается в формальное обещание его как главного должника, направленное на исполнение или возврат. Ср. Mitteis. Rom. Privatrecht. I. Стр. 268 и сл. Об аналогичных явлениях в древнем германском праве см.: Heusler. Ук. соч. II. Стр. 230 и сл.
Итак, древнейший оборот слагается из сделок на наличные и из сделок, состоящих в предоставлении одним из контрагентов другому известных объектов с обязательством возврата их при наличности определенных, предусмотренных соответствующим соглашением обстоятельств. Такой характер оборота, в особенности если прибавить к этому факт отсутствия дифференцированных форм обладания и сведения всех этих форм к различным оттенкам одного и того же общего права господства, свидетельствует о преобладании элементов вещно-правовых над элементами обязательственными. 2. Это не значит, однако, чтобы обязательственные элементы совершенно отсутствовали в сделках раннего оборота. Обязательственный элемент не чужд даже сделкам на наличные: и эти сделки могут при известных условиях повлечь за собой наряду с нормальным эффектом, к которому они приводят, — т. е. с переходом соответствующих объектов из одной имущественной сферы в другую, — известные побочные последствия, как, напр., в случае манципации чужой вещи или вещи, не удовлетворяющей обещанным качествам: в первом случае возникает actio auctoritatis, во втором — actio de modo agri, причем оба иска — иски деликтного типа. С другой стороны, обязательственный элемент определенно присущ займу в форме nexum. Ибо, как бы мы ни конструировали это отношение в остальном, все же несомненно, что prima facie существует личный долг заемщика, за который он несет ответственность собственной личностью. Соответствовал ли, однако, этому долгу самостоятельный личный иск, и если да, то как он назывался, мы не знаем <72>. Не вдаваясь в этом отношении в подробности, мы наметим лишь вкратце наш взгляд по данному вопросу. Весьма вероятно, что первоначально такого иска и не существовало и что невозвращение в условленный срок долга со стороны damnatus, если кредитор не соглашался на versura <73>, формально являлось лишь условием для обращения взыскания непосредственно на личность должника в смысле окончательной реализации приобретенного в отношении ее — на основании nexum с его формулой damnas esto dare или reddere — экспектативного вещного права, причем позволительно думать, что первоначально это право осуществлялось собственными силами кредитора. В пользу такого предположения говорит прежде всего то, что речь нормально шла об отношении общеизвестном и в этом смысле бесспорном: трудно допустить, чтобы должник мог решиться на заключение nexum, пока была какая-нибудь возможность использовать фидуциарное отчуждение — fiducia cum creditore первоначального типа; напротив, на этот шаг могли решиться только в крайности, а такая крайность, учитывая весьма примитивные условия жизни всей среды и тот факт, что nexum совершалось в присутствии не менее пяти свидетелей и весовщика, не могла не получить широкой огласки. Это одно. С другой стороны, следует принять во внимание, что сам должник, на случай неоплатности своей, заранее соглашался на потерю свободы, а с несвободным не спорили, его ловили и отводили к себе, если он сам добровольно не предоставлял себя в распоряжение своего господина-кредитора. Ко времени XII таблиц мы встречаемся уже со смягчением этого сурового порядка <74>: так, устанавливаются известные льготные сроки (XXX dies justi); производится известная суммарная проверка наличия соответствующего долгового отношения перед магистратом в порядке legis actio per manus injectionem; требуется формальная addictio должника со стороны того же магистрата и т. д. Наконец, последний шаг до издания lex Poetelia заключался в том, что legeVallia, excepto judicato et eo, pro quo depensum est, ceteris omnibus, cum quibus per manus injectionem agebatur, permissum est sibi manum depellere et pro se agere (Gaj. IV, 25), с тем что в случае проигрыша дела должник присуждается к уплате duplum <75>. С этого времени притязание кредитора по nexum против должника приобретает характер личного иска с примесью деликтного элемента, а суровые последствия, связанные по-прежнему (вплоть до издания lex Poetelia) с присуждением должника, являются уже не столько специфическим последствием договора nexum как такового, сколько составным элементом общей системы исполнительного производства по денежным долгам вообще. ——————————— <72> Voigt. D. XII Tafeln. II. Стр. 485, который признает существование такого иска, говорит, что техническое название его «по всей вероятности» было actio nuncupatae pecuniae и что процессуальной формой осуществления его служила legis actio sacramento. <73> Karlowa. Ук. соч. II. Стр. 555. <74> Аналогичная мысль у Kuntze. Die Obligationen im rom. u. heut. Recht. Стр. 20. <75> Ср. Baron. Institutionen. Стр. 392 — 393.
3. Что касается засим случаев фидуциарного отчуждения в форме mancipatio и in jure cessio fiduciae causa, то здесь вопрос о роли обязательственного элемента представляется в следующем виде. Прежде всего необходимо иметь в виду, что pactum fiduciae не является самостоятельным договором. Формально это только побочное соглашение, сопровождающее акт манципации или in jure цессии, в формулу которого включалась оговорка: fidi fiduciae causa. Из этих слов явствовало, что вещь в данном случае передается приобретателю-фидуциару на известных условиях, с возложением на него обязанности эвентуально реманципировать (или рецедировать in jure) полученное; при этом конкретные обстоятельства, при наличии которых наступала эта обязанность, составляли quaestio facti и выводились из присоединяемого к манципационному акту неформального соглашения. Таким образом, функция pactum fiduciae, по меткой характеристике Oertmann’а <76>, первоначально состояла главным образом в том, чтобы доставить judex’у необходимый для разрешения фидуциарного спора фактический материал и чтобы осветить вообще истинный смысл сделки: оно служило комментарием к словам «fidi fiduciae causa», каковой юридически мог и отсутствовать, но в собственном интересе сторон едва ли часто опускался. Несмотря на такой несамостоятельный, чисто вспомогательный характер фидуциарного соглашения, источники все же упоминают об особом личном иске — actio fiduciae, который предъявляется в качестве actio directa отчуждателем фидуциантом и в качестве actio contraria приобретателем фидуциаром, причем этот иск носит чисто реиперсекуторный характер и к тому же относится к actiones bonae fidei, хотя вместе с тем actio fiduciae directa причисляется к actiones famosae <77>. ——————————— <76> Oertmann. Die Fiducia. Стр. 95. <77> Ср. Oertmann. Ук. соч. Стр. 214 и сл., 222 и сл.
Объяснение этой странной на первый взгляд несогласованности в смысле отсутствия самостоятельного значения pactum fiduciae при одновременном допущении самостоятельного личного иска следует искать в сравнительно позднем появлении actio fiduciae. He говоря уже об actio contraria, которая, несомненно, составляет плод довольно позднего творчества претора, и actio directa является далеко не сразу. Об этом независимо от вышеуказанной весьма тонкой общей структуры иска свидетельствуют прежде всего два факта. С одной стороны, на это указывает упоминаемая юристом Павлом actio ex causa depositi in duplum, которая относится им ко времени законодательства XII таблиц (Sent. Rec., II, 12, § II); этот иск представляет собой, по всему вероятию, предтечу позднейшей actio fiduciae, обнимая случаи т. н. fiducia cum amico contracta <78>: в пользу этого говорят как тот факт, что о самостоятельной роли депозита как такового в то время не может быть речи, так и прямое свидетельство Гая, констатирующего, что fiducia contrahitur… cum amico, quo tutius nostrae res apud eum sint (Gaj. II, 60). Как технически назывался этот иск, описательную характеристику которого дает Павел, в частности, носит ли он специальное название actio de perfidia, неизвестно. Второй, весьма показательный, факт — выработка ранней республиканской юриспруденцией понятия furtum usus, каковое специально предусматривает случаи нарушения обязанностей, возлагаемых на фидуциара по fiducia cum amico contracta, выражающиеся в неправильном пользовании res servandae datae и utendae datae. В самом деле, едва ли может подлежать сомнению, что самое появление учения о furtum usus может быть объяснено только отсутствием в то время не только actio depositi и commodati, но и actio fiduciae, на основании которой фидуциар отвечал, раз он не действовал так, ut inter bonos bene agere opportet et sine fraudatione. К сказанному остается прибавить, что, в свою очередь, учение о furtum usus тоже не с неба свалилось: оно свидетельствует о том, что процесс дифференциации отдельных форм обладания, приобретения ими индивидуальных, специфических черт к моменту появления этого учения успел уже весьма определенно обозначиться, на что, очевидно, тоже потребовалось время. С другой стороны, furtum usus охватывает лишь сравнительно узкую сферу случаев возможных коллизий между заинтересованными лицами, именно только случаи неправильного пользования фидуцированными вещами, не касаясь вопроса о последствиях, связанных с фактом невозвращения полученного по истечении условленного срока, наступления предусмотренных соглашением обстоятельств и т. п. Вместе с тем furtum usus, по крайней мере первоначально, как явствует из слов Авла Геллия <79>, так же как и actio ex causa depositi in duplum, касалась только случаев fiducia cum amico contracta и не распространялась на fiducia cum creditore. ——————————— <78> Ср. Voigt. D. XII Tafeln. II. Стр. 479; Его же. D. Jus naturale. III. Стр. 521. Прим. 860. Возражения Oertmann’а (Ук. соч. Стр. 60 и сл.) против гипотезы Voigt’а совершенно неубедительны. <79> Gellius A. Noct. Att. VI (VII), 15. Ср. Гусаков. Ук. соч. Стр. 90 и сл.
Все это приводит к выводу, что названные исковые притязания не были единственными средствами защиты фидуциарных отношений до появления actio fiduciae. О каком же еще средстве судебной защиты кроме упомянутых исков может идти речь в данном случае? Ответ, на наш взгляд, напрашивается сам собой: этим дополнительным, вернее, основным иском, направленным на окончательную ликвидацию в подлежащих случаях отношений, возникших на почве fiducia, в смысле восстановления прежнего status quo, служила древняя двусторонняя виндикация. Вопрос этот имеет первостепенное значение для выяснения истинной природы древнего имущественного права и, в частности, права собственности. § 3. Система ограниченных встречных прав собственности в качестве фактора в процессе формирования вещных и личных прав. 1. Отсутствие почвы для реальных коллизий в отношении случаев экспектативной собственности. 2. Взаимные отношения между опекунами и опекаемыми. Возможность коллизий как в сфере обязательственной (actio rationibus distrahendia), так и вещно-правовой (виндикация). 3. Роль виндикации в случаях фидуциарного отчуждения. Необходимость поставить вопрос в связи с вопросом об объеме характера древнеримского права собственности. Вопрос об относительном характере древнеримской собственности в новейшей романистической литературе. Правильная постановка вопроса: центр тяжести не в относительном, а в изменчивом характере ее; вопрос о содержании права собственности и об объеме защиты его требует отдельного рассмотрения для каждой группы случаев. 4. В частности: a) вопрос о предъявлении виндикационного иска inter partes со стороны фидуцианта против фидуциара. Вывод: допущение виндикации против фидуциара; b) вопрос о предъявлении виндикационного иска со стороны фидуцианта против третьих лиц. Данные в пользу отрицательного решения вопроса. 5. Возможны ли были аналогичные явления в случае неформальной традиции? § 4. Продолжение. Притязания встречных собственников против третьих лиц во время существования встречных отношений. 1. Случаи экспектативной собственности. 2. Tutela mulierum. Необходимость совместного lege agere. 3. Tutela impuberum. 4. Отношения no fiducia. § 5. Итоги. Формы имущественного обладания как оттенки единого права господства или права собственности. Классификация основных видов древнего права собственности с точки зрения содержания: 1) полная собственность; 2) nudum jus; 3) собственность, ограниченная реальными встречными правами собственности. Классификация основных видов древнего права собственности с точки зрения объема защиты: 1) случаи абсолютной защиты; 2) случаи отсутствия защиты; 3) случаи относительной защиты — inter partes. Оба деления не совпадают. Причины этого. Моменты, повлиявшие на выработку системы вещных и личных прав: всякое право на вещь первоначально являлось правом вещным, а не личным; противоположение между вещными и личными исками возникло первоначально на деликтной почве. Сопоставление римской схемы со схемой древнегерманского права.
§ 3
Основные положения, вытекающие из предшествующих наших рассуждений <80>, сводятся к следующему. ——————————— <80> См. начало настоящей статьи в «Трудах русских ученых за границей». Т. 1. Стр. 22 — 64.
Древнее римское право, подобно другим примитивным правовым системам, не знало противоположения между правом собственности и ограниченными вещными и личными правами на чужие вещи. Всякое отношение к вещи мыслилось как разновидность единого права — права собственности тоже. Это право либо было полным, сосредоточиваясь в руках одного лица, одного субъекта, либо оно являлось неполным, ограниченным встречными, однородными с ним правами других лиц. Так именно расценивались, в частности, отношения pater familias и подвластных ему членов семьи к общему, семейному имуществу (вернее, к отдельным вещам, входящим в состав этого имущества), отношения опекунов и опекаемых по отношению к имуществу, над которым учреждена опека, отношения наследодателя и familiae emtor к имуществу первого, составляющему (будущую) наследственную массу, отношения фидуцианта и фидуциара к фидуцированным вещам, отношения собственника (служащего) участка и обладателей права iter, via, actus, aquaeductus и т. д. к подлежащему участку <81>. ——————————— <81> Там же. Стр. 35 — 47.
Во всех подобных случаях наряду с правом собственности на подлежащие вещи данного лица признавались существующие с этим правом встречные права (ограниченной, частичной, временной, условной, иногда чисто экспектативной) собственности других лиц. Такая постановка вопроса стояла в связи с общим характером древнего оборота, малоподвижного, бедного формами, а поэтому малоспособного к выработке дифференцированных форм обладания. Из этого характера оборота вытекали вместе с тем и две дальнейшие особенности древнего правопорядка, а именно: с одной стороны, слабое развитие договорно-обязательственных отношений и преобладание деликтных обязательств (явление, свойственное вообще всякому примитивному, натурально-хозяйственному строю жизни); с другой стороны, преобладание в отношениях, порождаемых первобытным оборотом, вещно-правовых элементов над обязательственными <82>. ——————————— <82> Там же. Стр. 31 — 34. Ср. стр. 47 — 53.
Последнее обстоятельство в свою очередь должно было наложить своеобразный отпечаток на характер притязаний, порождаемых неизбежными конфликтами, которые по разным поводам могли возникать между лицами, участвующими в той или иной роли в обороте. В составе этих притязаний необходимо различать личные и вещные притязания. К числу первых относятся, с одной стороны, упомянутые нами в своем месте <83> actio auctoritatis и actio de modo agri, возникающие в подлежащих случаях на почве возмездного отчуждения вещей в порядке манципации, с другой стороны, actio fiduciae и предтечи этого иска — actio ex causa depositi и actio furti (ex fuito usus), связанные с фидуциарным отчуждением. Сюда же следует также отнести actio rationibus distrahendis, иск, возникающий на почве отношений по опеке. ——————————— <83> Там же. Стр. 61 — 64.
Упомянутые личные иски играли, однако, лишь второстепенную роль. Это относится в особенности к специальным личным искам, возникающим из фидуциарных отношений, до появления actio fiduciae. В связи с этим приобретает важное значение вопрос о значении древней двусторонней виндикации — этого вещно-правового иска par excellence. Выяснение роли, которую пришлось сыграть этому иску, имеет первостепенное значение для полного уразумения истинной природы всего древнейшего имущественного права Рима и, в частности, для уразумения своеобразной природы древнейшего права собственности. 1. Проще всего вопрос обстоит в тех случаях, где реальному, действительному праву собственности одного лица противопоставляется чисто экспектативное встречное право собственности определенного другого лица или определенных других лиц, как это имеет место в отношениях между pater familias и подвластными ему членами семьи, с одной стороны, и между наследодателем и familiae emtor при манципационном завещании, с другой стороны. В том и другом случае упомянутое экспектативное право собственности представляет собой в полном смысле слова nudum jus, по крайней мере наши источники не сохранили ни малейших указаний на какое-нибудь реальное содержание его, пока pater familias или завещатель находится в живых. Сказанное касается одинаково как внутренних отношений, отношений inter partes между pater familias и его подвластными, между завещателем и familiae emtor, так и отношений к третьим лицам, которые так или иначе посягают на подлежащие объекты. Другими словами, каков бы ни был характер конфликта, затрагивающий подлежащее экспектативное право, и чем бы он ни был вызван, им не порождается никакое притязание в пользу обладателя или обладателей означенного экспектативного права. Вдобавок это положение ipsissimis verbis выражено в отношении sui, относительно которых Гай (II, 96) прямо говорит: cum enim istarum personarum nihil suum esse possit, conveniens est scilicet, ut nihil suum esse in jure vindicare possint. He подлежит оно сомнению и относительно familiae emtor, который, как известно, считался в то время heredis loco (Gaj. II, 103): наследник при жизни наследодателя никаких реальных прав на завещанное имущество не имеет. 2. Совсем иной характер носили в древнем праве отношения между опекуном и подопечными, которые, как известно, встречались в двух видах: tutela impuberum и tutela mulierum. В основе древнейшего типа той и другой опеки — tutela legitima agnatorum, несомненно, лежала та же мысль о семейном характере имущества, которая определяла и отношения между pater familias и его sui: опекунами являлись ближайшие агнаты малолетнего или женщины, т. е. те лица, которые эвентуально должны были наследовать после них, ср. I.1 pr. D. 26, 4: legitimae tutelae lege XII tabularum adgnatis delatae sunt… ut qui sperarent hanc successionem, idem tuerentur bona, ne dilapidarentur. Этим и объясняется, что их отношение к имуществу подопечных рассматривалось как разновидность права собственности и сами они считались еще много позже vice domini. Однако их право на имущество подопечных не ограничивалось простой экспектацией, простым ожиданием будущих благ, как право sui heredes. С другой стороны, и встречное право подопечных, по крайней мере по общему правилу, не являлось пустым звуком. Мы уже не будем говорить о tutela mulierum, которая в историческое время представляется уже в значительно смягченном виде, ограничиваясь тем, что для совершения женщиной известных актов, в том числе для манципационных и in jure цессионных актов, требуется участие опекуна в форме auctoritatis interpositio <84>. Но и в отношении tutela impuberum действует в качестве общего правила то начало, что опекун лишь в случае крайности должен действовать помимо опекаемого <85>; всюду же, где это возможно, оба при совершении сделок действуют сообща, причем опять-таки участие опекуна выражается в auctoritatis interpositio, а известные акты, в том числе mancipatio и in jure cessio, а в доимператорском периоде и traditio, только и могли быть совершаемы этим путем <86>. Практически это означало, что в древности <87> унаследованный малолетним имущественный фонд, bona paterna avitaque, не мог подвергаться никаким изменениям иначе как в порядке совместных действий опекуна с подопечным. Сказанное проливает свет на истинную природу auctoritas tutoris, на первоначальный ее характер. Auctoritas, которая должна была иметь место тут же (statim) и безоговорочно (pure) при самом совершении сделки <88>, нечто большее, чем простой consensus, согласие, даваемое в интересах подопечного, — это форма непосредственного участия в сделке. Корень ее — общий с тем Beispruchsrecht родственников, в частности ближайших наследников, которое встречается в разных формах в древнем германском праве в качестве одного из условий, соблюдение коих требуется при отчуждении недвижимостей <89>. С другой стороны, из того, что акты отчуждения имущества подопечного могли быть совершаемы только совместно опекуном и опекаемым, вытекало то последствие, что в случае нарушения опекуном этого правила подопечный после прекращения опеки мог оспорить состоявшийся без его участия акт отчуждения посредством предъявления reivindicatio, несмотря на то что отношение опекуна к имуществу подопечного, так же как и отношение последнего, рассматривалось как разновидность одного и того же права, права собственности, как meum esse. Другими словами, реальная коллизия между однородными по существу правами опекаемого и опекуна уже в древнем праве возможна была не только в сфере обязательственной, где проявлением ее служит actio rationibus distrahendis, о которой было говорено выше, но и в сфере вещно-правовой, где она порождала виндикацию <90>. Мог ли последний иск быть предъявлен не только к третьим лицам, но и inter partes, заменяя в этом отношении позднейшую actio tutelae directa? Формально эта возможность ее была исключена, поскольку те или иные вещи подопечного после прекращения опеки продолжали находиться во владении опекуна; другой вопрос, существовала ли практическая потребность в предъявлении виндикации; ввиду существования actio rationibus distrahendis, которая licet in duplum sit, in simplo rei persecutionera coutinet (I. 2 § 2 D. 27, 3), в наличии такой потребности позволительно усомниться <91>. ——————————— <84> Ср. Baron. Institutionen. Стр. 110 — 111. <85> Ср. Pernice. Labeo. I. Стр. 497; Brinz. Lehrbuch d. Pandekten. III.2. Стр. 809. <86> Ср. Mitteis. Rom. Priv. R. I. Стр. 208 и сл. <87> Позднейшее право, как известно, создало целый ряд лазеек для обвода тех неудобств, к которым приводило на практике строгое проведение этого начала, см.: Mitteis. 1. c.; Windscheid. Lehrb. d. Pandekten. II.7. § 442. Стр. 606. Прим. 2. <88> § 2 J. 1, 21. <89> Schroder. Ук. соч. Стр. 287. <90> На совершенно иных началах построен позднейший запрет опекунам отчуждать имущество подопечного без особого разрешения органов опекунского надзора, основанный на Oratio Divi Severi и на ряде последующих узаконений. Ср. об этом Baron. Institutionen. Стр. 109. <91> Что касается древнейших двух видов cara-cura furiosi и cura prodigi, то о них см.: Karlowa. Ук. соч. II. Стр. 302 и сл. По-видимому, legitimus curator furiosi первоначально имел только право распоряжаться pecunia, а не familia своего куранда, что было равносильно тому, что основной имущественный фонд умалишенного вообще не мог быть изменяем, а в частности, уменьшаем, ср. также Mitteis. Rom. P. R. I. Стр. 81. Впоследствии за ним было признано и право отчуждения от собственного имени res mancipi, что Mitteis правильно объясняет как проявление его «quasi-dominikale Gewalt» (Там же. I. Стр. 210. Пр. 18). Что касается агнатического curator prodigi, то его «квазидоминикальное» право распространялось только на bona paterna avitaque расточителя (Paul, III, 4.a, § 47).
3. Иначе опять ставится вопрос о роли виндикации в случаях фидуциарного отчуждения. Этот вопрос гораздо сложнее, чем его обыкновенно представляют. Традиционно он сводится к тому, имел ли фидуциар право отчуждения фидуцированной вещи помимо особого pactum de vendendo, и если нет, то какие последствия влекло за собой отчуждение, совершенное помимо соответствующего дополнительного соглашения, в частности, переходило ли в таком случае право собственности на третьего приобретателя с сохранением лишь личного иска (actio fiduciae) со стороны фидуцианта против фидуциара или же, напротив, фидуциант в подобных случаях мог виндицировать подлежащую вещь у третьего лица. В дальнейшем проблема упрощается еще больше в том смысле, что она подвергается обсуждению только в отношении fiducia cum creditore, причем допускается совершенно произвольное предположение, будто actio fiduciae возникла одновременно с самим появлением фидуциарного отчуждения. На самом деле вопрос должен быть поставлен гораздо шире. Для правильного разрешения его необходимо связать его с вопросом об общем характере древнеримского права собственности с точки зрения объема защиты его. В этом отношении за последнее время все более укрепляется взгляд, согласно которому право собственности, по крайней мере поскольку оно покоится на производных способах приобретения, первоначально носило относительный, а не абсолютный характер. В этом смысле высказываются, между прочим, N. Pfliiger <92>, Rabel <93>, Mitteis <94>, Sohm <95> и др. ——————————— <92> Pfluger H. H. D. legis actio sacramento. Стр. 41 — 43 (в частн., относительно недвижимости). <93> Rabel. D. Haftung des Verkaufers wegen Mangels im Recht. Стр. 50 и сл., стр. 56 и сл. <94> Mitteis. Rom. Priv. R. I. Стр. 87, 88. Прим. 40. <95> Sohm. Institutionen.13. Стр. 279 — 280. Прим. 13.
В подтверждение этого положения указывают прежде всего на аналогии в других правовых системах <96>, в том числе в праве греческом (ближе — афинском) <97>, а также в праве германском <98>: аналогии эти проявляются отчасти в сходстве общей структуры права собственности, отчасти в разительном сходстве некоторых других тесно связанных с общим характером права собственности институтов материального права и процесса. В частности, в этом отношении ссылаются на два главных момента: во-первых, на структуру древней виндикации как строго двустороннего иска, и во-вторых, на своеобразную постановку в древнем праве института ответственности за эвикцию. В первом отношении Mitteis в применении к римскому праву замечает <99>: «…кто вспомнит, что древний виндикационный процесс (legis actio sacramento in rem) предполагает двустороннюю виндикацию и отнюдь не обеспечивает владельцу как таковому провизорное владение и роль ответчика, тот не сможет уйти от мысли, что при таком порядке производства нельзя было настаивать на представлении доказательств абсолютной собственности, так как иначе создалось бы безвыходное положение, раз ни одна из сторон не оказалась в состоянии представить такие доказательства». И дальше: «…следует также помнить, что не ответчик вопрошает истца, на каком основании тот предъявляет к нему виндикацию, а наоборот, истец, в форме вопроса: postulo anne dicas qua ex causa vindicaveris, предлагает ответчику оправдать его контравиндикацию: и эта перестановка естественного порядка выступлений сторон едва ли не производит впечатления пережитка, сохранившегося от такого времени, когда виндикационное притязание истца ссылалось не на абстрактную и незримую собственность, а на реальное вторжение в прежнюю его правовую сферу». Что касается второго из вышеуказанных двух моментов, то на него обратил особое внимание Rabel, который отмечает, что основная обязанность auctor’а — это обязанность взять на себя защиту покупщика, причем auctor, по-видимому (как это имело место в древнем германском праве), вступал в спор не в качестве третьего лица, а непосредственно становился на место ответчика <100>. Останавливаясь дальше на анализе stipulatio habere licere, которая дополняет обязанность выступить на защиту покупщика обязанностью обеспечить ему спокойное обладание вещью, Rabel указывает на то, что эта стипуляция встречается в двух редакциях <101>, более сильной, гласящей примерно: neque per te neque per quemquam omnino fieri, quominus nobis habere liceat, и более слабой, сводящейся к обещанию: per te (venientesque a te personas), non fieri или neque per te neque per heredem tuum fieri quominus mini (heredique meo) hominem habere liceat. Чем объяснить эту вторую редакцию? Ведь prima facie, казалось бы, обязанность правопредшественника не вставлять своему правопреемнику палки в колеса, представляет собой нечто само собой разумеющееся, о чем особо условливаться не приходилось. Rabel усматривает в этом лучшее доказательство того, что приобретение, основанное на производном титуле, первоначально сообщало не абсолютное, а лишь относительное право собственности. «Понятие деривативно приобретенного, со всех сторон неограниченного права господства над вещью, — говорит он <102>, — я склонен считать… за абстракцию, которая постепенно сложилась на почве признания обычаем того положения, которое создано договорным соглашением, должно быть уважаемо продавцом и защищаемо им против третьих лиц». Ближе он представляет себе дело так <103>: первоначально в Риме при купле-продаже на наличные обязательственный элемент играл господствующую роль, вследствие чего владение и традиция приобретали полную силу только в связи со сделкой купли (mit dem Kaufgeschaft). В частности, простая традиция с точки зрения строго формального цивильного права не являлась достаточным моментом для укрепления купли-продажи на наличные; для этого существовало только два пути: манципация и заменяющая последнюю в этом отношении в применении к res nec mancipi stipulatio habere licere. В подтверждение того, что стипуляция могла вообще играть роль фактора, с которым связывается переход от установления обязательственного к установлению вещного права, Rabel ссылается на своеобразный способ приобретения сервитутов pactionibus et stipulationibus. ——————————— <96> Ср. Rabel. Ук. соч. Стр. 48 и сл.; Leist. Alt-arisches Jusgentium. Стр. 469 и сл., стр. 565 — 566. <97> Mitteis. Reichsrecht und Volksrecht. Стр. 501 и сл.; с некоторыми оговорками — Lipsius. D. Attische Recht und Reichsverfahren. II. 2. Стр. 465, пр. 8, 678 и сл. <98> Ср. Heusler. Ук. соч. Стр. 99 и сл. (относительно недвижимостей), стр. 212 (относит. движимостей). Ср. также Schroder. Ук. соч. Стр. 286, 292; Gierke. Deutsches Priv. R. II. Стр. 558. <99> Mitteis. Rom. P. R. I. Стр. 87. <100> Ук. соч. Стр. 14 и сл. До Rabel’а в этом же смысле высказывался Pfluger в указанной выше работе. <101> Там же. Стр. 34 и сл. <102> Там же. Стр. 55. <103> Там же. Стр. 58 — 60.
В приведенных рассуждениях Rabel’а наряду с правильными соображениями содержится и много спорного и даже прямо неверного. Утверждение его, что для укрепления позиции приобретателя ex causa emtionis в смысле вещно-правовом к моменту традиции должен был присоединиться момент заключения stipulatio habere licere, чисто априорное и не подтверждается никакими данными. Ссылка на аналогию, которую якобы можно извлечь из существования института приобретения сервитутов pactionibus et stipulationibus, более чем слаба. Не говоря уже о том, что здесь сопоставляются институты, возникшие в разное время и в разных местах, под влиянием различных практических потребностей, нельзя не отметить, что в последнем случае стипуляция привходит не к традиции, а к неформальному pactum, причем источники мотивируют это тем, quia nulla ejusmodi juris vacua traditio esset (I. 20 D. 8, 1, ср. 1. 3 § 2 D. 19, 1), т. е. подчеркивают, что стипуляция служит суррогатом неприменимой в данном случае традиции <104>; к тому же стипуляция, приводящая к pactum, соединяется с обещанием неустойки, тогда как стипуляция habere licere самим Rabel’ем противополагается stipulatio duplae при купле-продаже. С другой стороны, Rabel весьма мало останавливается на выяснении истинного смысла старинной формулы, касающейся вступления в спор auctor’а, редакция которой в передаче Проба гласит: quando in jure te conspicuo, postulo anne fuas auctor, высказываясь лишь против предположения Pfliiger’а и других, согласно которому это есть исковая формула, с которой виндикант обращался к вступающему в спор (взамен первоначального контравиндиканта) auctor’а <105>. Между тем как раз это предположение, весьма важное с точки зрения защищаемой нашим автором гипотезы об относительном характере древнеримского права собственности, основанного на деривативном титуле, представляется весьма правдоподобным. В самом деле: с одной стороны, формула носит характер проверочного вопроса, который, естественно, предлагается именно виндикантом лицу, на которое противная сторона указала в качестве auctor’а; с другой стороны, дело происходит in jure, где вопросы могут быть предлагаемы только противнику <106>. Обращение, следовательно, направлено к auctor’у как участнику в споре. Этим, правда, не предрешается еще вопрос о том, в какой роли последний привлекается: в качестве ли третьего лица, наряду с первоначальным контравиндикантом, или непосредственно в качестве новой стороны в деле. Однако в пользу последнего предположения говорит, как правильно указывает Pfliiger, тот факт, что Цицерон упоминает именно об actio in auctorem praesentem (Cic. pro Gaecina 19, 54). Вместе с тем этот вывод подкрепляется как тем общим соображением, что в древнем процессе вообще не может быть места столь сложным институтам, как институт вступления в дело в качестве третьего лица, так в особенности и весьма убедительной в данном случае ссылкой на аналогию в лице греческого и древнегерманского права. Но, конечно, следует думать, что довольно рано и у римлян стала допускаться та же альтернатива, которая встречается и в греческом праве <107>, именно право контравиндиканта либо отсылать истца к auctor’у, либо брать ведение дела на себя (avtomaxeiv), лишь опираясь в нужном случае на своего auctor’а. Дальнейший ход свелся к тому, что второй порядок постепенно стал господствующим, а затем и совсем вытеснил прежний, настолько, что даже о самом существовании этого прежнего порядка успели забыть. ——————————— <104> Quasi traditio или patientia, о которой упоминают источники, конечно, ничего общего с традицией не имеет. Ср. Dernburg. Pandecten. I.7. § 251. Стр. 611. <105> См., с одной стороны, Rabel, ук. соч., стр. 15, 19, с другой стороны, Pfliier, d. legis actio sacramento, стр. 35 и сл. <106> Ср. Girard. Manuel. Стр. 1003, 1004. Прим. 1. <107> Ср. Lipsius. D. attiscbe Recht u. Rechtverfahren. II. 2. Стр. 746 — 747.
Мы рассмотрели те доводы, которые до настоящего времени выдвигались в романистической литературе сторонниками того взгляда, что право собственности в древнем Риме не сразу приобрело тот характер абсолютного, неограниченного права господства, который присущ ему в классическом и юстиниановском праве, и что, в частности, собственность, покоящаяся на деривативном титуле, первоначально носила относительный характер. Эти доводы, несомненно, заслуживают полного внимания. Однако главный, основной и решающий довод в пользу того, что право собственности в Древнем Риме, притом как в отношении содержания предоставляемых им правомочий, так и в отношении объема защиты, представляло собой не столько относительную, сколько изменчивую величину, до сих пор не выдвигался, и по очень простой причине. До настоящего времени не обращалось внимания на то, что и древнее римское право исходило первоначально из того предположения, что все отдельные формы имущественного обладания составляют простые разновидности, простые оттенки одного и того же единого права на вещи — права, характеризуемого формулой: meum est. Раз уж это можно считать установленным — а мы смеем думать, что предшествующие рассуждения наши непререкаемо установили наличность такой концепции в древнем римском праве <108>, — то становится ясным, что говорить при таких условиях о едином по существу, всегда себе равном понятии права собственности в смысле права абсолютного, ничем не ограниченного, никоим образом не приходится. Вместе с тем следует признать, что теория об относительном характере древнеримской собственности, как она формулируется Mitteis’ом и другими, вызывает ряд возражений. Прежде всего сторонники этой теории употребляют термин «относительная собственность», relatives Eigentum, не всегда в одинаковом смысле. В одних случаях древнее право собственности называется относительным в том смысле, что в виндикационном процессе в старину побеждал тот, кто докажет, что на его стороне относительно более сильное, чем у его противника, право на вещь; в других случаях это право называется относительным в том смысле, что оно пользуется охраной не против всех и каждого. Тут и там вопрос ставится, очевидно, в различных плоскостях: в первом случае выдвигается процессуальная, во втором — материально-правовая сторона вопроса. Второй существенный упрек, который можно сделать настоящей теории, заключается в том, что она совершенно игнорирует тот факт, что древнеримское право собственности представляется изменчивым не только в смысле объема защиты, но и в смысле содержания своего. И в том и в другом отношении отдельные «оттенки» или разновидности права собственности представляют собой зачастую совершенно несоизмеримые величины: достаточно сопоставить между собою чисто экспектативное, лишенное всякого реального содержания право собственности sui heredes на семейное имущество при жизни домовладыки или столь же бессодержательное право faimliae emtor относительно будущей наследственной массы при жизни завещателя, с одной стороны, и право собственности опекуна на имущество подопечного или право собственности фидуциара на фидуцированную вещь, с другой стороны, и в свою очередь сравнить все эти разновидности права собственности с правом собственности, приобретенным на основании обыкновенной, безоговорочной (не фидуциарной) манципации или традиции, или тем более с правом собственности на buna paterna avitaque <109>, чтобы убедиться в том, как велика амплитуда колебаний, с которой приходится иметь дело в данном случае: она обнимает всевозможные переходы от nudum jus до plenum jus. Основной вывод, который вытекает отсюда, заключается в том, что центр тяжести вопроса состоит не в относительном или абсолютном характере защиты древней собственности, а в изменчивости ее. Вместе с тем из сказанного вытекает еще и второй вывод, а именно: вопрос о содержании права собственности и об объеме защиты ее в отношении каждой отдельной категории случаев, в отношении каждой разновидности этого права должен быть разрешен особо. ——————————— <108> Ср.: Труды русских ученых за границей. Т. I. Стр. 35 — 47. <109> Какое значение придавалось последним, явствует из того, что отчуждение их долгое время осуждалось и влекло за собой notam censoriam, ср. Quint S. O. VI. 3, 44: tunc paterna emancupare praedia turpius habebatur: Karlowa. Ук. соч. II. Стр. 304.
В этом отношении не вызывают никаких затруднений как те случаи, в которых имеется налицо полное, не ограниченное никакими встречными правами других лиц право собственности на данную вещь (напр., вещь перешла в единоличное обладание собственника в составе bona paterna avitaque или в качестве военной добычи или она приобретена им на полном праве у лица, в свою очередь имевшего полное право на нее, и т. д.), так и те случаи, в которых встречное право представляет собой одно только nudum jus, лишенное реального содержания (как, напр., право собственности sui heredes на семейное имущество при жизни pater familias, право familiae emtor на наследственную массу при жизни завещателя и т. д.). Трудности представляют, наоборот, те случаи, в которых право собственности одного лица на вещь неразрывно связано с реальными встречными правами на нее других лиц, как это, в частности, имеет место в отношениях опекунов и опекаемых, поскольку речь идет об имуществе последних, а также в отношениях между фидуциантом и фидуциаром, поскольку речь идет о фидуцированной вещи. Из этих двух последних комбинаций первая была уже рассмотрена выше. Остается вторая. Частично — именно поскольку в связи с нею между заинтересованными лицами возникали деликтные личные иски — actio ex causa depositi in duplnm и actio furti ex farto usus — о ней тоже уже было говорено. В настоящее время речь идет о том, допускался ли древним правом в случаях фидуциарного отчуждения виндикационный иск в лице фидуцианта, и если да, то против кого. 4. Поставленный вопрос необходимо расчленить; во-первых: мог ли виндикационный иск быть предъявлен inter partes? во-вторых: мог ли он быть предъявлен фидуциантом против третьих лиц, к которым фидуцированная вещь перешла от фидуциара? А. Что касается прежде всего вопроса о возможности предъявления виндикационного иска inter partes, в частности со стороны фидуцианта к фидуциару, то следует заметить, что этот вопрос приобретает практическое значение главным образом в применении к случаям fiducia cum creditore, так как в этих случаях оказывалась неприменимой actio ex causa depositi in duplum, которая возникала при fiducia cum amico в случае невозвращения фидуцированной вещи. Прежде всего ясно одно: из того факта, что для случаев fiducia cum creditore не был создан корреспондирующий с только что названной actio личный штрафной иск, никак нельзя вывести заключение, что фидуциант до введения actio fiduciae оставался совершенно беззащитным в случае невозвращения фидуцированной вещи, несмотря на уплату долга. Правда, на первый взгляд может показаться, что он и не нуждался в особом иске, так как он имел возможность добиться возврата вещи без доведения дела до суда, предлагая уплату долга лишь под условием одновременного возвращения фидуцированной вещи. Нельзя, однако, не заметить, что при таких условиях возврат вещи, служащей обеспечением долга, уже всецело зависел бы от усмотрения кредитора. Это далеко не всегда могло устроить должника, в особенности если стоимость фидуцированной вещи значительно превышала сумму долга. Вместе с тем это не соответствовало и взгляду на взаимные отношения сторон римского оборота, лучшим доказательством чего служит широко распространенная еще в позднейшее время, вплоть до империи (когда право фидуцианта на вещь давно успело превратиться из встречного вещного права собственности, конкурирующего с однородным правом собственности на нее фидуциара, в простое личное требование о возврате в подлежащих случаях фидуцированной вещи на основании actio fiduciae), практика заключения особых pacta de vendendo и leges comissoriae: первое обеспечивало за фидуциаром право продажи заложенной вещи в случае неуплаты долга в срок, а вторая предоставляла ему право при тех же условиях оставить вещь окончательно за собой <110>. Насколько важное значение придавалось притом указанным дополнительным соглашениям и, в частности, pactum de vendendo, явствует из того, что лишь в императорском периоде право продажи фидуцированной вещи в случае неуплаты долга в срок было признано за кредитором и при отсутствии особого pactum de vendendo <111>. Выводить это ограничение свободы действия фидуциара из начала bona fides, определявшего взаимные отношения между фидуциаром и фидуциантом по actio fiduciae, никак нельзя: bona fides сама по себе требует только, чтобы единственный (в формальном смысле) собственник, каковым, несомненно, с точки зрения позднейшего римского права являлся только фидуциар, не злоупотреблял своим формальным правом и не продавал фидуцированной вещи до наступления срока обеспеченному ею долгу, но из этого начала отнюдь не вытекает, чтобы он не мог иметь этого права и после истечения этого срока и наступления просрочки в уплате, раз не было особого уговора на этот случай, т. е. pactum de non vendendo. Между тем все это объясняется как нельзя лучше, если признать, что указанное ограничение права продажи вытекало в старину из встречного права собственности фидуцианта, реальные следы которого нам удалось подметить и в других отношениях, о чем было упомянуто выше <112>. Но раз это встречное право существовало и имело реальное содержание, в чем же оно могло и должно было проявляться в случае коллизии между фидуциаром и фидуциантом? Ответ напрашивается сам собой: в том, в чем подобные коллизии проявлялись и в других случаях, в которых мы встречаемся с такими же однородными реальными встречными правами, т. е. в предъявлении иска, защищающего вообще всякое реальное право собственности, вернее, все имеющие реальное значение оттенки этого права. Таким иском является старинная виндикация, на которую противная сторона отвечала в подлежащих случаях контравиндикацией. Иск этот практически отпадал лишь в том случае, если наряду с ним успел сложиться личный штрафной иск, частью направленный на rei persecutionem, частью на уплату штрафа, как это имело место в отношении fiducia cum amico в лице неоднократно упоминавшейся actio ex causa depositi. ——————————— <110> Ср. об этом Dernburg. D. Pfandrecht nach den Gtundsatzen des heut. rom. Rechts. Т. I. Стр. 19 и сл. <111> Там же. Стр. 22. <112> См.: Труды русск. уч. за гран. Т. I. Стр. 40.
Итак, мы приходим к выводу, что в отношениях между фидуциаром и фидуциантом, вытекавших ex causa crediti, в лице фидуцианта против фидуциара возникала rei vindicatio, раз долг был погашен (причем безразлично, был ли он погашен в срок или уже после того, что фидуциант оказался in mora) и раз фидуциар, продолжающий владеть фидуцированной вещью, не возвращал ее. Б. Переходим ко второму вопросу: могла ли быть предъявлена в подлежащих случаях виндикация не только inter partes, но и против третьих лиц, к которым вещь ex titulo derivativo singulari перешла от фидуциара? Самостоятельная постановка этого вопроса до настоящего времени, естественно, никому не могла приходить в голову, так как отсутствовало правильное представление об истинном характере древнеримской собственности как о величине изменчивой. С нашей точки зрения, мы должны будем сказать: a priori одинаково возможен и утвердительный, и отрицательный ответ на этот вопрос. Все зависит от анализа конкретного материала, которым мы располагаем в этом отношении. Аналогия других правовых систем и, в частности, германского права с его принципом Hand wahre Hand (применимым, впрочем, только в отношении движимостей), показывает, что не только логически мыслим, но и практически встречается такой правовой строй, при котором виндикационный иск допускается inter partes, но отпадает в отношении третьих лиц, приобретших спорную вещь у того, к кому она поступила с ведома и согласия прежнего собственника, причем первоначально не требуется даже со стороны этих третьих приобретателей bona fides <113>. Отрицать a limine возможность аналогичных явлений в древнеримском праве после всего сказанного выше, очевидно, не приходится. ——————————— <113> См. Heusler. Ук. соч. II. Стр. 214.
Что касается положительного материала, которым мы располагаем в данном случае, то он сводится к следующему. Начать с того, что никаких прямых указаний на возможность предъявления виндикации со стороны фидуцианта против сингулярных правопреемников фидуциара в источниках не имеется. Вывести такую возможность из того факта, что фидуциар не должен был продавать фидуцированной вещи помимо особого pactum de vendendo (каковое входило в подлежащих случаях в pactum fidiciae в качестве составной части последнего), нельзя. Ибо насколько существование этого pactum ценно для обоснования того положения, что фидуциант в старину и после манципации или in jure цессии вещи сохранял относительно нее самостоятельное вещное право, однородное с встречным правом фидуциара, а вместе с тем и право предъявления виндикации против последнего, продолжающего владеть вещью после прекращения соответствующего обязательственного отношения, настолько мало оно в состоянии служить доказательством того, что продажа, совершенная вопреки отсутствия подобного дополнительного соглашения, являлась не только актом злоупотребления доверием perfidia, в отношении непосредственного контрагента — фидуцианта, но что такая продажа не влекла за собой нормальных последствий всякой продажи, совершенной собственником. В последнем моменте центр тяжести. В самом деле, ведь факт оставался налицо — отчуждение было произведено не вором, не fur, и не лицом, auctor которого не обладал правом собственности на нее, а именно лицом, право которого основывалось на праве прежнего собственника, возникло с согласия последнего и было однородно с ним по существу, т. е. тоже представляло собой одну из разновидностей единого общего права господства. Вместе с тем в древнем праве не существовало общего правила, что при наличии нескольких встречных прав относительно одной и той же вещи, возникших на почве отсутствия дифференциации отдельных форм обладания, отчуждение вещи возможно только в форме совместного акта или с ведома и согласия всех подлежащих лиц. Так, напр., сила акта отчуждения, совершенного paterfamilias или завещателем по манципационному завещанию, отнюдь не зависела от участия или хотя бы согласия sui в первом случае, familiae emtor — во втором. Вообще, Риму был чужд Beispruchsrecht ближайших родственников или наследников при отчуждении недвижимостей — момент, который (наряду с моментом публичности) сыграл главную роль в германском праве в деле ограничения принципа Hand wahre Hand случаями отчуждения движимых вещей. С другой стороны, там, где требовалось совместное участие конкурирующих собственников в актах отчуждения (отчасти и приобретения), как это имело место в подлежащих случаях в отношениях по опеке, необходимость совместного выступления особо оговаривалась. Таким образом, с формальной стороны препятствий к признанию нормальной силы за актами отчуждения, совершенными фидуциаром хотя бы и вопреки bona fides, несмотря на наличие встречного вещного права фидуцианта, не было; в результате встречное вещное право фидуцианта в случае такого отчуждения прекращалось. Этот результат был достигнут, конечно, не только на почве одних формальных соображений: здесь сыграла роль и борьба весьма реальных интересов. Носителями противоположных интересов в данном случае являлись: с одной стороны, третьи приобретатели и их auctor’ы — фидуциары, с другой стороны, первоначальные собственники — фидуцианты. В этой борьбе взяли верх третьи приобретатели, что достойно внимания, так как об ограждении их интересов при столкновении с интересами собственника римское право, как известно, в общем, заботилось далеко не в достаточной мере. Если они в данном случае победили, то этот благоприятный с их точки зрения результат объясняется прежде всего тем, что в данном случае реальный момент подкреплялся моментом формальным: в их руках оказался тот огромный козырь, что они приобрели вещь, на которую притязал фидуциант, пусть у прокураторного, но все же у признанного собственника ее — фидуциара, с которым обладателю встречного права, фидуцианту, и предоставлялось ведаться. Нужны ли еще дальнейшие доказательства? Если да, то их можно найти в нескольких направлениях. Во-первых, все вышесказанное подтверждается структурой личного иска, actio fiduciae, который явился сначала наряду с виндикацией против фидуциара, а засим вытеснил ее, а вместе с тем — в области отношений по fiducia cum amico — и древний штрафной иск, actio ex causa depositi. Actio fiduciae всецело построен на том предположении, что фидуциар, не исполнивший ex fide bona своих обязанностей по отношению к фидуцианту и, в частности, лишивший его возможности обратного получения фидуцированной вещи, допустил perfidiam. Как последствие такого perfide agere является инфамирующий характер иска <114>. Второе соображение сводится к следующему. Если бы фидуциант, в силу своего права собственности на фидуцированную вещь, в случае погашения долга (при fiducia cum creditore) или наступления соответствующего срока и т. д. (при fiducia cum amico) мог бы первоначально предъявить rei vindicatio против третьих приобретателей, то нужно было бы по меньшей мере ожидать, что в интересах этих приобретателей были бы созданы какие-нибудь коррективы хотя бы в смысле ускоренного и облегченного приобретения по давности вещей, перешедших к ним как-никак от лица, которому эти вещи были манципированы в свое время самим виндикантом и которое формально тоже считалось собственником, подобно тому, как это было сделано: косвенно — для лиц, приобретших фидуцированную вещь у фидуцианта до реманципации ее последнему, благодаря введению usureceptio ex fiducia, и непосредственно — для лиц, приобретших от femina sui juris rem mancipi sine tutoris auctoritate, на основании т. н. usucapio ex Rutiliana constitutione (Vat. fr., 1). Полное молчание источников в этом отношении более чем красноречиво свидетельствует о том, что самого вопроса о необходимости специального ограждения интересов третьих приобретателей в данном случае не возникло. Наконец, нельзя не обратить внимания на общее направление, в котором в дальнейшем пошло как развитие системы реальных договоров commodati, depositi и pignoris вообще, так и развитие дополнительных форм залога — pignus, hypothcea, в частности: последние построены именно на осознании необходимости в создании таких форм, которые гарантировали бы должнику возможность обратного получения заложенной вещи по уплате долга не только в отношении кредитора, но и в отношении третьих приобретателей. Это предполагает, что fiducia не удовлетворяла указанной потребности. Итак, наш конечный вывод сводится к тому, что в случае фидуциарного отчуждения фидуциант сохранял относительное право собственности: он мог предъявлять виндикацию против фидуциара, если тот не возвращал ему вещи, несмотря на наступление соответствующего срока или условия, но не мог предъявлять этого иска против третьих приобретателей, приобретших вещь у фидуциара. ——————————— <114> Ср. Ihering. Schuldmoment. I. C. Стр. 187.
Особенность римского права по сравнению с древним германским правом в данном отношении заключается в том, что ограничение виндикационного иска касалось не только движимых, но и недвижимых вещей, уступленных fidi fiduciae causa. Главной причиной этого отличия является, несомненно, отсутствие в Риме того Beispruchsrecht, того права участия и контроля в отношении формального отчуждения недвижимостей, которым в широкой степени пользовались в древнегерманском праве ближайшие родственники и наследники. Не следует, однако, преувеличивать практическое значение этого различия. Прежде всего случаи fiducia cum amico в применении к недвижимости едва ли могли играть сколько-нибудь заметную роль: формой, заменявшей эту разновидность fiduciae, служило предоставление участка в прекарное пользование, каковое представляет собой первый пример начинающейся дифференциации форм обладания: нечто подобное, кстати сказать, встречается и в древнем германском праве в виде т. н. Bodenleihe <115>. Таким образом, серьезное значение в отношении недвижимостей имела только fiducia cum creditore. Но как раз соответствующие ей формы Kauf auf Wiederkauf и Satzung, притом с однородным юридическим эффектом, встречались, как выше было отмечено, и в германском праве. ——————————— <115> Ср. Gierke. Deutsch. Priv. Recht. II. Стр. 353.
5. Нам остается рассмотреть еще один вопрос. Он сводится к следующему. Распространялся ли изложенный порядок и на те случаи, в которых вещь была передана другому лицу с соответствующими оговорками на основании простой, неформальной традиции? Вопрос этот принадлежит к числу наитруднейших, и едва ли не приходится практиковать в этом отношении artem nesciendi. Ведь мы даже не знаем, допускались ли вообще, — и если да, то в какой форме, — соответствующие оговорки при традиции; столь же мало мы знаем, когда возникло деление вещей на res mancipi и nec mancipi и каков был первоначальный его смысл. Несомненно одно: круг этих вещей не оставался неизменным; мы имеем, напротив, прямые указания на то, что он еще в сравнительно позднее время подвергался изменениям, что по этому вопросу существовал спор еще в начале империи между сабинианцами и прокулеанцами <116>. С другой стороны, взвешивание меди, этот центральный момент при negotia per aes es libram! — до появления чеканной монеты вызывалось необходимостью независимо от характера отчуждаемых вещей. Вернее всего, что первоначально вообще не существовало формального различия между res mancipi и nec mancipi, что круг применения манципации, с одной стороны, и традиции, с другой стороны, определялся чисто фактическими признаками: прибегать к сложному обряду, когда речь шла о малоценных предметах потребления, не имело смысла или обряд в этих случаях соблюдался лишь частично, напр., медь взвешивалась, но остальные формальности, в частности присутствие пяти свидетелей, отпадали. Весьма скоро под влиянием практических потребностей, на которых нам сейчас нет надобности останавливаться, выдвинулся известный более тесный круг вещей, в отношении которых соблюдение манципационного обряда начало считаться формально обязательным <117>, тогда как в отношении остальных он сохранил факультативное значение. С тех пор установилось формальное различие между res mancipi и nec mancipi. Вместе с тем вопрос о том, какие вещи должны быть отнесены к числу res mancipi, с этого времени получил важное практическое значение; естественно, что на этой почве сталкивались различные интересы и что круг res mancipi не сразу окончательно консолидировался. Последовал ли после этого еще один дальнейший шаг в смысле признания того, что res nec mancipi даже факультативно не могут быть приобретаемы per mancipationem, что для них остается открытой только традиция и in jure cessio (применимая и к res mancipi), — это предмет спора. Господствующее мнение, которое вообще игнорирует весь вышеизложенный процесс развития, только и признает последнюю комбинацию: для него mancipatio propria species alienationis est rerum mancipi (Ulp. XIX, § 3) и больше ничего. Другие, и в первую голову Voigt, напротив, считают, что допущение этой последней комбинации основано на недоразумении и что факультативно манципация всегда оставалась применимой к res nes mancipi <118>. Как бы там ни было, достаточно допустить, что в древнем праве наряду с in jure cessio существовала возможность факультативной манципации res nes mancipi, для того чтобы усомниться в том, могла ли при таких условиях ощущаться реальная потребность в использовании традиции для фидуциарных целей, неформальный характер которой в этом отношении, при отсутствии дифференцированных форм обладания и соответствующей системе самостоятельных договорных отношений, даже в чисто техническом отношении создавал серьезные затруднения в смысле трудности доказать в случае спора наличие тех или иных оговорок при неформальной передаче вещи. Ввиду сказанного мы полагаем, что на поставленный вопрос следует дать отрицательный ответ. Но, конечно, все это остается в области гипотез: сколько-нибудь полная уверенность в данном вопросе, по крайней мере в настоящее время, представляется недостижимой. ——————————— <116> Ср. по всему этому вопросу Karlowa. Ук. соч. II. Стр. 354 и сл.; Voigt. Rom. Rechtsgeschichte. I. Стр. 428 и сл.; Sohm. Institutionen.13. Стр. 41, 359 и сл. <117> Согласно господствующему взгляду это были вещи, сугубо важные с точки зрения древнего крестьянского хозяйства: земля и главные орудия древнего сельскохозяйственного производства — рабы и вьючный скот. Наряду с этим моментом, вероятно, играл роль и другой момент — тенденция сделать обладание этими объектами привилегией одних римских граждан с устранением перегринов. <118> Voigt. D. XII Tafeln. II. Стр. 129. Прим. 7; ср. Rabel. Ук. соч. Стр. 59.
§ 4
Мы подходим к концу нашего анализа моментов, определявших общую структуру имущественных отношений в древнем праве. Прежде, однако, чем подводить итоги, нам необходимо коснуться еще одной стороны интересующей нас проблемы. До сих пор, говоря о притязаниях, возникающих против третьих лиц, мы имели в виду то положение вещей, которое создавалось на почве прекращения на будущее время взаимных встречных отношений между опекунами и опекаемыми, фидуциантом и фидуциаром и т. д. Остается выяснить, как вопрос об этих притязаниях ставился в течение того времени, пока соответствующие взаимоотношения между участниками продолжали быть налицо, т. е. пока продолжалась опека, пока длились отношения no fiducia и т. д. В частности, спрашивается: кто в случае нарушения третьими лицами соответствующих прав путем незаконного захвата подлежащих вещей, порчи или уничтожения их и т. д. имел право иска против нарушителя, а в подлежащих случаях и против дальнейших лиц, к которым эти вещи могли перейти? 1. Обращаясь к разрешению этого вопроса, мы, естественно, оставляем в стороне чисто экспектативные права sui heredes и familiae emtor, которые, как неоднократно уже было замечено, представляют собой в полном смысле слова nudum jus. 2. Что касается отношений по опеке, то проще всего рисуются отношения по tutela mulierum: всякое lege agere, всякое вступление в процесс, требовало в древнем праве совместных действий женщины и опекуна ее, который должен был auctoritatem interponere (Ulp. XI, 27). 3. Сложнее положение дел при tutela impuberum. Infans вообще не мог выступать на суде, impubes infantia major нуждался в tutoris auctoritas (I. 1 § 2 D. de adm. et per. 26, 7), а следовательно, вопрос о самостоятельном праве защиты их против третьих лиц во время существования опеки не возникал. Что касается самих опекунов, то они издревле имели право предъявления исков против третьих лиц по поводу опекунских дел. Вопрос может идти лишь о том, действовали ли они в таких случаях в древнем праве suo nomine, опираясь на свое (встречное по отношению к подопечным) право собственности на подлежащее имущество, или же nomine tutorio в качестве законных представителей опекаемых. Римское предание гласило, что они выступали alieno nomine, ср. pr. I. de his, per quos IV, 10, cum olim in usu fuisset alterius nomine agere non posse, nisi pro populo, pro libertate, pro tutela. Это сообщение до настоящего времени принималось на веру. Мы думаем, однако, что оно представляет собой лишь позднейшую стилизацию соответствующих отношений, объясняемую коренным изменением, которому подверглось юридическое положение опекуна, и что первоначально опекуны выступали на суде suo nomine. В пользу этого можно привести целый ряд соображений. Прежде всего необходимо иметь в виду общий строй древнего процесса, рассчитанного лишь на самые элементарные отношения: с этой точки зрения институт процессуального представительства, неизбежно предполагающий наличность целого ряда довольно сложных технических предпосылок, совершенно не согласуется с примитивной структурой легисакционного производства, каковой, наоборот, вполне соответствует старинное правило: nemo alieno nomine agere potest. Далее, нельзя не обратить внимания на своеобразный характер тех трех exceptae causae, которые указываются в институциях Юстиниана в качестве изъятий из только что приведенного общего начала: случаи agere pro populo, pro libertate, pro tutela. Что касается выступлений отдельных частных лиц pro populo, то они сравнительно позднего происхождения и к тому же обнимают весьма разнородные случаи, в которых переплетаются элементы гражданского и уголовного (аккузационного) процесса, вследствие чего они малопригодны для освещения интересующей нас в настоящее время проблемы. В частности, мы встречаемся здесь с указаниями двоякого рода. С одной стороны, из источников явствует, что даже в чисто уголовных делах инициатор дела — обвинитель выступал формально от собственного имени, а не как представитель народа; так, текст заявления по обвинению в прелюбодеянии, по словам Павла (I. 3 pr. D. de accus. 48, 2), гласил: libellorum inscriptionis conceptio talis est: consul et dies. Apud illum praetorem vel proconsulem L. Titiut professus est se Meviam lege Julia de adulteriis ream deferre, quod dicas eam cum C. Sejo in civitate illa, domo illius, mense illo, consulibus illis adulterium commisisse. С другой стороны, в отношении interdictum quod vi aut clam, которое могло быть предъявлено в качестве interdictum populare всяким по поводу незаконного возведения каких-либо сооружений в пределах locus publicus, тот же Павел (I. 8 § 3 D. de op. novinunt. 39, 1) говорил: quodsi nuntiavero tibi, ne quid contra leges in loco publico facias, promittere debebis, quoniam de eo opere alieno jure contendo, non meo, et tanquam alieni juris petitor repromissione contentus esse debeo. При таких условиях и принимая во внимание, что оба показания относятся к весьма позднему времени, мы должны признать, что сами по себе они мало дают по вопросу о порядке, в котором совершалось выступление pro populo в древнем праве. Все же нельзя признать в достаточной мере симптоматичным тот факт, что даже в столь позднее время встречались случаи выступления pro populo от собственного имени; это само по себе дает уже известное основание считать — в особенности в связи с тем, что нам известно о структуре древнего процесса, — что такие случаи первоначально должны были составлять общее правило и что противоположный порядок стал устанавливаться лишь постепенно; в частности, в отношении actiones populares цивильно-правового типа на изменение первоначальной практики могло оказать влияние то обстоятельство, что в целом ряде случаев с интересом общим конкурировал интерес частный: в таких случаях actio popularis приобретала субсидиарный характер, что должно было отразиться на процессуальной формулировке этих исков в смысле необходимости более точного указания роли, в которой выступал истец; толчок же, раз данный в этом отношении, мог со временем привести вообще к замене прежнего порядка выступлений новым <119>. Переходя к выступлениям pro libertate, следует заметить, что они встречались в двух формах: данное лицо выступает в одних случаях взамен истца в роли adsertor in libertatem при vindicatio in libertatem, в других случаях взамен ответчика в роли vindex при legis actio per manus injectionem <120>. В обоих случаях он действовал suo nomine, как это прямо засвидетельствовано Гаем относительно vindex (Gaj. IV, 21): vindicem dabat, qni pro se causam agere solebat, и как это вытекает из существа дела в отношении adsertor in libertatem, который, очевидно, не мог формально выступать от имени лица, о свободе которого шел спор и которое само даже не могло выступать на суде. Нечего доказывать, насколько важное значение имеет это прямое свидетельство источников, подтверждающих правильность нашей гипотезы. Итак, в отношении выступлений pro populo существует значительная степень вероятности в пользу того, что все они первоначально совершались от собственного имени; в отношении выступлений pro libertate это вне сомнения. В связи с этим позволительно будет указать на те данные, которые свидетельствуют, что и выступление auctor’а по иску об эвикции в древнем праве также совершалось suo nomine, а не в сложной форме вступления в дело в качестве постороннего лица <121>. — Если прибавить ко всему сказанному, что опекун, выступая на суде в защиту имущества, которое он опекал, обладал самостоятельным, однородным с правом собственности опекаемого, правом на это имущество, то едва ли может остаться какое-нибудь сомнение по вопросу о том, что он действовал в этих случаях именно suo nomine. То обстоятельство, что юрист Марциан говорит о том, что tutoribus pupilli nomine… agere posse (I. 30 § 1 D. de inoff test 5, 2), конечно, никоим образом не способно опровергнуть правильности нашего вывода, так как это утверждение относится опять-таки к столь позднему времени, когда юридическое положение опекунов самым коренным образом изменилось. Сказанное об опекунах относится mutatis mutandis и к древнему агнатическому куратору. ——————————— <119> Ср. по этому вопросу Voigt. Rom. Rechtsgeschichte. I. § 29. Стр. 327 и сл., особенно стр. 330. Прим. 8. <120> Ср. Voigt. D. XII Tafeln. I. Стр. 575. <121> См. выше. Стр. 50.
4. Что касается, наконец, случаев фидуциарного отчуждения, то поставленный нами вопрос разрешается сравнительно просто. Раз фидуциант не мог предъявлять виндикационного иска против третьих приобретателей даже после наступления обстоятельств, влекущих за собой прекращение фидуциарных отношений на будущее время, то тем менее, конечно, может быть речь об этом за тот период времени, пока эти отношения оставались в силе. Ведь за это время фидуциант в материально-правовом смысле не имел права предъявлять виндикацию и против фидуциара, и по очень простой причине: виндикация направлена на возврат фидуцированной вещи, возврата же нельзя было требовать, пока фидуциарные отношения не прекратились. По той же причине нельзя было предъявлять в течение указанного времени и личный штрафной иск — actio ex causa depositi. В видах восполнения получающегося на этой почве пробела, очевидно, и была выдвинута в свое время теория о furtum usus и о возможности предъявления в подлежащих случаях особо квалифицированной actio furti; этот иск (до введения actio fidudae, на основании которой весь вопрос о взаимных отношениях inter partes был поставлен в более широком масштабе) <122> предусматривал, в частности, случаи нарушения интересов фидуцианта, связанные, в противоположность незаконному присвоению вещи, с неправильным пользованием ее, пока длятся отношения по fiduda, чем и объясняется тот факт, что по иску отвечал конкурент фидуцианта, по праву собственности на нее — фидуциар. Под понятие furtum usus легко мог быть подведен и факт предоставления вещи третьему лицу, ибо с таким же основанием, с каким республиканские юристы говорили о furtum usus, если заинтересованное лицо jumentum aliorsum duxerat quam quo utendum acceperat или если оно longius produxerat quam in quem locum petierat и т. д., они могли говорить о том же, если возможность usus предоставлялась фидуциаром — вопреки уговору — третьему лицу. От этого, конечно, личный характер иска не менялся. В результате мы приходим к выводу, что никаких притязаний к третьим лицам, ни вещных, ни личных, фидуциант не имел. Все притязания против третьих лиц независимо от почвы, на которой они возникали, принадлежали исключительно фидуциару. Дальнейший ход событий, связанный с созданием actio fidudae, в этом отношении лишь закрепил позицию, созданную древним правопорядком. ——————————— <122> Ср. Oertmann. Ук. соч. Стр. 176 и сл.
§ 5
Нам остается подвести итоги. I. Картина древнеримской системы имущественных отношений, которая вырисовывается на почве сопоставления всех приведенных нами данных, значительно разнится с общепринятой схемой. Мы видели, что древнеримское право, следуя в этом отношении примеру ряда других правовых систем, изученных в соответствующем отношении, не знает того резкого противоположения форм полного и неполного имущественного обладания, с которым мы встречаемся в классическом праве. Отдельные формы обладания, встречавшиеся в жизни, рассматривались как оттенки единого общего права господства, права собственности, составляли разные моменты основного понятия maum esse, в подлежащих случаях сосуществовавшие друг с другом, взаимно дополнявшие и ограничивавшие друг друга. В результате в таких случаях получалась какая-то своеобразная форма совокупной собственности с изменчивым содержанием, состоящая из однородных встречных прав и не подходящая ни под condominium plurium in solidum, ни под condominium pro partibus indivisis. Эта своеобразная форма собственности, весьма напоминающая соответствующие формы, встречающиеся в древнем германском и отчасти еще в современном английском праве, возникала частью ipso jure силой закона или, вернее, обычая на почве особых отношений семейно-имущественного права, частью — в связи с зарождением и постепенным ростом общего оборота — на почве сделок оборота, которые частью являлись сделками на наличные (как первоначальная манципация), частью сделками кредитными в смысле сделок, направленных на возврат полученного по истечении известного срока, наступлении известных обстоятельств и т. п. (как фидуциарная манципация и заем в форме nexum). По содержанию своему, иначе говоря, по объему правомочий, предоставляемых ими, возникавшие на указанной почве отдельные оттенки права собственности отличались крайним разнообразием. В частности, с этой точки зрения можно различать три главные группы: 1) полную, не ограниченную никакими встречными правами собственность (прототип: собственность дееспособного paterfamilias, не имеющего sui heredes); 2) nudum jus в чистом виде, лишенную всякого реального содержания, чисто экспектативную собственность (прототип — собственность sui heredes при жизни paterfamilias), которой соответствует вполне реальная, фактически свободная встречная собственность противной стороны (в приведенном случае — собственность paterfamilias, имеющего sui heredes); 3) ограниченную реальными встречными правами собственность (прототип — взаимные отношения опекунов и опекаемых, кураторов и курандов, с одной стороны, фидуциантов и фидуциаров, с другой стороны). Эта изменчивость содержания древнеримского права собственности, эта его способность включать в себя разные оттенки по существу своему представляет собой простое отражение одного из характернейших фактов, свойственных вообще ранним ступеням социальной и, в частности, хозяйственной жизни, каковым является отсутствие на первых порах потребности в резко дифференцированных формах обладания, а в дальнейшем — по пробуждении этой потребности — техническое неумение справиться сразу с новыми задачами, выдвигаемыми жизнью, иначе как путем приспособления к ним привычных уже форм и представлений. II. Мы идем дальше. Разнообразию отдельных оттенков права собственности в отношении содержания соответствовало такое же разнообразие его в отношении объема судебной защиты. В этом смысле тоже можно различать три группы случаев: 1) случаи, когда собственность пользуется абсолютной защитой в том смысле, что она охраняется не только inter partes, т. е. против лиц, непосредственно нарушивших права собственника, но и против третьих лиц, к которым спорный объект в дальнейшем перешел; 2) случаи, когда собственность не пользуется никакой защитой; 3) случаи, когда собственность пользуется только относительной защитой в том смысле, что она ограждается только inter partes, но собственник теряет право иска в случае дальнейшего перехода спорного объекта из рук того, к кому он непосредственно поступил, в руки третьих лиц. Это деление права собственности в зависимости от различия в объеме защиты не совпадает с делением его в зависимости от различия по содержанию. И это потому, что различие в объеме защиты зависит не только от общего характера данного вида права собственности, но и от специфического характера нарушения его. Исключение составляет лишь средняя группа: чисто экспектативные права собственности, лишенные реального содержания, лишены и самостоятельной судебной защиты, пока они сохраняют свой характер nudum jus. Для надлежащего освещения всего этого вопроса его необходимо связать с вопросом о моментах, повлиявших на выработку системы вещных и личных исков. В этом отношении необходимо прежде всего иметь в виду, что в древнем праве всякое право на вещь, представляя собою тот или иной оттенок права собственности, являлось правом вещным, а не личным. Уже одно это обстоятельство должно было придать своеобразный характер всей системе вещных и личных исков. Далее, необходимо иметь в виду, что само противоположение между вещными и личными исками возникло первоначально на почве деликтной, причем два момента сыграли решающую роль: с одной стороны, различие в характере главных имущественных деликтов, которые подразделялись на две основные группы случаев, условно обнимаемые нами терминами furturn и damnum injuria datum <123>, с другой стороны, различие в характере объектов, являющихся предметами имущественных правонарушений, в составе которых, в свою очередь, нужно различать две группы: вещи индивидуально-распознаваемые, незаменимые и вещи индивидуальные, заменимые. В группу вещных исков входили иски, возникавшие по поводу незаконного присвоения незаменимых вещей, притом безотносительно к тому, являлись ли означенные иски штрафными (как actio furti) или реиперсекуторными (как виндикация); к группе личных исков отошли, с одной стороны, иски, возникавшие по поводу повреждения и уничтожения чужих вещей, с другой стороны, иски, возникавшие по поводу незаконного присвоения заменимых вещей. ——————————— <123> См. об этом: Труды русск. учен. за гр. Т. I. Стр. 56 и сл.
Раз возникши, различие между вещными и личными исками, естественно, должно было проявляться и в тех случаях, когда конфликты возникали не на чисто деликтной почве между собственником и посторонними лицами, а между собственниками, обладающими подлежащими встречными правами собственности по отношению к данным объектам, связанными с семейным характером древнего имущества. Подобного рода конфликты могли возникать до и, во всяком случае, независимо от конфликтов, порождаемых оборотом: сюда относятся конфликты между paterfamilias и sui heredes, между опекунами и опекаемыми, между curator’ом и курандом. Означенные конфликты не всегда, по чисто формальным основаниям, доходили до суда, а часто решались внесудебным, домашним порядком как конфликты между pater familias и sui heredes, когда, напр., подвластный сын не выдавал или не возвращал какой-нибудь полученной от paterfamilias вещи. Но там, где эти дела доходили до суда, напр. когда опекун малолетнего по окончании опеки не возвращал вещей, входящих в состав имущества, над которым была учреждена опека, соответствующие конфликты приводили частью к предъявлению реиперсекуторного вещного иска — виндикации, частью к созданию особых личных исков штрафного типа (как, напр., actio de rationibus distrahendis). Новая почва для конфликтов создалась в связи с появлением сделок оборота. С одной стороны, появились конфликты, связанные с невыполнением тех обязанностей, которые стороны, в частности сторона, в реальное обладание которой поступил данный объект, приняли на себя открыто или молчаливо в результате вступления в данную сделку; с другой стороны, стали возможны конфликты на той почве, что вещь, сначала отошедшая от собственника ее на почве деликта, в дальнейшем переходила к третьим лицам в порядке нормального отчуждения. В связи с этим возник вопрос о создании новых личных исков и о дальнейшем расширении в подлежащих случаях сферы действия вещных исков и, в частности, реиперсекуторного вещного иска — виндикации. Что касается первого пункта — появления новых личных исков, то мы будем очень коротки и ограничимся лишь указанием на actio auctoritatis, actio de modo agri, actio furti ex furto usus; все эти иски носят штрафной характер. Что же касается расширения сферы действия виндикации, то здесь выработались довольно своеобразные правила. Необходимо различать в этом отношении три категории случаев. Перечень их дает вместе с тем ответ на вопрос о том, когда защита собственности носила абсолютный и когда только относительный характер: а) к первой группе принадлежат те случаи, в которых вещь первоначально выбыла из владения собственника помимо его воли, на основании деликта. В таком случае собственник имеет право виндицировать ее у всякого третьего лица независимо от того, каким путем она к нему дошла (на основании ли нового деликта или на основании нормального акта отчуждения), и независимо от того, через сколько рук она успела пройти. Иными словами, право первоначального собственника здесь является более сильным, чем право третьего приобретателя, опирающегося, непосредственно или через посредство третьих лиц, на auctor’а делинквента; б) ко второй группе относятся те случаи, когда вещь была первоначально отчуждена лицом хотя и имевшим (конкурирующее со встречным правом другого лица) право собственности на вещь, но вместе с тем не имевшим самостоятельного права отчуждения ее; сюда относится, напр., случай отчуждения вещи пупиллом sine tutoris auctoritate или отчуждения вещи опекуном без участия опекаемого (пока опекуну право самостоятельного отчуждения еще не было предоставлено); сюда же относится случай отчуждения res mancipi женщиной sine tutoris auctoritate, равно случай отчуждения вещи фидуциантом (до истечения срока usureceptio ex fiducia). В таком случае встречный (по отношению к отчуждателю) собственник имеет право (в частности, если это опекаемый, то finita tutela, если опекун — durante tutela) виндицировать вещь как у первого приобретателя, так и у всякого третьего лица, к которому вещь в дальнейшем перешла; в) наконец, к третьей группе относятся случаи, когда вещь была первоначально отчуждена лицом, которое имело самостоятельное право отчуждения ее, хотя бы с его правом на вещь конкурировало чье-нибудь встречное право; сюда относятся, не говоря о paterfamilias в отношении sui heredes и о завещателе в отношении familiae emtor, фидуциар в отношении фидуцианта. В таком случае встречный по отношению к отчуждателю собственник либо вовсе не пользовался защитой (раз его собственность имела чисто экспектативный характер), либо он мог предъявить виндикацию только против отчуждателя (пока тот продолжал владеть вещью по прекращении соответствующего отношения), но, во всяком случае, он не мог ее предъявлять против третьих приобретателей: таково именно положение фидуцианта. Приведенные правила можно свести к следующим двум простым положениям: 1) в случае незаконного захвата вещи против воли собственника, на основании деликта, собственник пользуется абсолютной защитой в смысле права предъявления виндикации против всякого, у кого вещь окажется; 2) в случае установления на вещь — ipso jure или по соглашению с данным собственником ее — встречного права собственности другого лица первоначальный собственник, от которого вещь перешла в реальное обладание встречного собственника, пользуется только относительной защитой в том смысле, что он сохраняет в подлежащих случаях право предъявления виндикации против встречного собственника, но не может предъявлять этого иска к третьим лицам, к которым вещь перешла от встречного собственника, если только для дальнейшего перехода соответствующих вещей не требовалось совместного акта обоих собственников — первоначального и встречного. Этим окончательно определяется сфера применения вещных притязаний в древнем праве. Что касается личных исков, то они, на основании всего вышеизложенного, в древнем праве все носят штрафной характер и возникают: 1) на чисто деликтной почве, поскольку речь идет либо о штрафе за уничтожение и повреждение чужих вещей, либо о возврате в соответственно увеличенном размере незаконно присвоенных заменимых вещей, индивидуально-нераспознаваемых; 2) на почве невыполнения обязанностей, лежащих на той или другой стороне либо в силу возникших между ними ipso jure встречных прав собственности, либо в силу особых условий, открыто или молчаливо вытекающих из факта вступления в данную сделку. В этом отношении тоже необходимо различать две категории случаев: с одной стороны, сюда относится невыполнение обязанностей, непосредственно не связанных с вопросом о возврате вещи (случаи, обнимаемые actio auctoritatis, actio de modo agri, a. furti ex furto usus); с другой стороны, сюда относится невыполнение обязанностей, связанных с возвратом полученного (случаи, обнимаемые actio de rationibus distrahendis, actio ex causa depositi), в каковых случаях личные иски эвентуально конкурируют с виндикацией; 3) на почве обязательств, привходящих к возникшим ранее отношениям, что имело место в особенности во время процесса, путем привлечения заложников или поручителей в обеспечение исполнения принимаемых стороной на себя процессуальных обязательств по своевременной явке, по уплате композиции взамен отказа противной стороны от права талиона и т. д. III. Сопоставляя изложенную нами схему со схемой древнегерманского права, нельзя не констатировать поразительного сходства в концепции обеих правовых систем. Достаточно привести несколько цитат из Институций германского права Heusler’а, который сам в этом отношении исходит из традиционного представления о резком различии точек зрения римского и германского права, чтобы убедиться в правильности сказанного. Вот что Heusler говорит по поводу различия между вещными и личными правами <124>: «…мы не можем отказать германскому праву в том, что ему знакомо противоположение вещных и личных (обязательственных) прав, а должны, напротив, признать, что это различие прямо-таки лежит в основе всей его системы имущественных прав. Следует, однако, сказать, что распределение отдельных прав по этим двум рубрикам не вполне совпадает с соответствующей группировкой римского права». Несколько ниже он замечает <125>: «Прежде всего, и это составляет главную особенность, во всех случаях, в которых вещь подлежит реальному воздействию другого лица, право последнего вещное». И дальше <126>: «Фактическое господство над вещами именуется… Gewehre; она принадлежит всякому, кто обладает вещью для себя и для своей пользы и кто в силу своего обладания ею в состоянии независимо от чужой воли проявить свое господство в соответствующих своих действиях». Наоборот, «вторую разновидность права образуют те права, содержание которых исчерпывается действиями или пассивным состоянием другого лица, где, следовательно, нет объекта, который мог бы быть подчинен длительному господству, Gewehre. Это не что иное, как личные (обязательственные) права» <127>. ——————————— <124> Там же. I. Стр. 377. <125> Там же. Стр. 376. <126> Там же. Стр. 377. <127> Там же. Стр. 378.
Переходя дальше к противоположению между вещными и личными исками, Heusler исходит из положения, еще до него формулированного Lahand’ом и Plank’ом, что необходимо различать две основные группы исков: Klagen auf Gut и Klagen um Schuld, т. е. иски о возврате имущественных благ и иски об исполнении долга <128>. Первые соответствуют вещным искам, а вторые — личным. Вот как он обосновывает это утверждение <129>: «исковые формулы франкского времени распадаются на два типа… Типом Klage auf Gut служит формула: malo ordine possides; типом Klage um Schuld — формула: vadia dedisti de solvendo mihi decem solidos; occidisti iratrem meum и т. д. (смотря по роду факта, обосновывающего притязание). В первом случае основанием иска всегда является только неправомерное владение… во втором случае основанием иска служит личная обязанность к доставлению чего-либо (personliche Verpflichtung zu einer Leistung)». В частности, поясняет Heusler <130>, «иск с формулой malo ordine possides применяется: 1) во всех тех многочисленных случаях, когда истец утверждает, что вещь против его воли выбыла из его владения, что одинаково применимо как к недвижимостям, так и к движимостям. Кто имеет в своей Gewehre насильственно отнятый у истца участок или украденную у него или потерянную им движимую вещь, владеет malo ordine… 2) когда истец требует возврата вещи, которую он сам (или его правопреемник) отдал во временное пользование, в залог и т. п. Это применимо как к недвижимостям, так и к движимостям… но с тем различием, что в отношении движимого имущества иск может быть направлен только против самого доверенного лица, но не против третьего владельца… в отношении же недвижимостей и против всякого третьего лица независимо от титула, на котором оно владеет вещью». В противоположность указанным случаям, говорит дальше Heusler <131>, «формула malo ordine possides не применяется: 1) в тех случаях, понятно, когда требуется уплата денежного долга или причиненного деликтом убытка… 2)…иск покупщика против продавца о доставлении купленной вещи не является ни в отношении недвижимостей, ни в отношении движимостей иском с формулой malo ordine possideo, а иском (с формулой) dare debes». Отметив засим, что основное противоположение исков auf Gut и исков um Schuld проявляется в процессуальном отношении в смысле различия в способах защиты ответчика, который при исках первого рода может ограничиваться простым отрицанием и очиститься присягой <132>, Heusler заканчивает свои рассуждения следующим образом <133>: «…из сказанного само собой вытекает тот вывод, что в противоположении исков auf Gut — искам um Schuld действительно содержится противоположение между вещными и личными исками; оно проявляется не только формально самым определенным образом в исковой формуле: malo ordine possides и conventasti mecum, dare debes, но оно сказывается и материально в различии процессуальной постановки: там отстаивается собственное право на вещь, здесь имеется утверждение о несуществовании долгового обязательства. При всех исках о возврате имущественных благ имеется в виду вещное, при всех исках об исполнении долга обязательственное правоотношение». ——————————— <128> Там же. Стр. 387. <129> Там же. Стр. 388. <130> Там же. Стр. 389. <131> Там же. Стр. 390. <132> Там же. Стр. 391. <133> Там же. Стр. 398.
Итак, в конечном выводе оказывается, что в древнегерманском праве, как и в древнеримском, нет дифференцированных форм имущественного обладания: все они рассматриваются как разнообразные оттенки единого права господства; в связи с этим всякое право на вещь, открывающее возможность реального возмездия на нее, является вещным правом; по объему защиты это вещное право носит в одних случаях абсолютный, в других — относительный характер, причем случаи того и другого рода в общем в обеих правовых системах совпадают, если не считать того, что принцип Hand wahre Hand в германском праве не распространяется на недвижимости, однако и это различие, как выше было показано, не имело большого практического значения. Все эти совпадения нельзя, конечно, объяснять одною игрой случая или простым заимствованием, которое в данном случае к тому же, безусловно, исключается. Причина сходства обеих правовых систем на первых стадиях развития той и другой кроется в известных общих свойствах всякого первобытного права, которое и по существу выдвигаемых перед ним задач, и по условиям правовой техники стоит всюду на приблизительно одинаковом уровне, что неизбежно отражается на общей структуре правовых институтов и непосредственно проявляется в сходстве элементарных форм и приемов обработки правового материала. Римское право не составляет в этом отношении, как мы видели, исключения от общего правила и подчиняется общим законам хозяйственного развития и правовой техники. В соответствии с этим первоначальный облик римского имущественного права далеко не тот, каким мы привыкли представлять его себе исходя из представлений о нем, заимствованных из классического римского права.
Печатается по: Труды русских ученых за границей / Под ред. А. И. Каминки. Вып. 1. Берлин, 1922; Вып. 2. Берлин, 1923.
——————————————————————