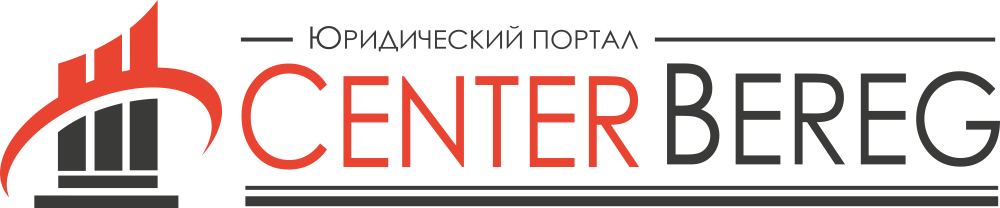Правовая норма и субъективное право. Исследования по общей теории права. Часть вторая
(Тон А.) («Вестник гражданского права», 2010, N 5)
ПРАВОВАЯ НОРМА И СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО. ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПРАВА <*>
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
АВГУСТ ТОН
(Продолжение. Начало см. «Вестник гражданского права», 2010, N 4)
——————————— <*> Настоящий перевод выполнен с немецкого оригинала (см.: Thon A. Rechtsnorm und subjectives Recht. Weimar: H. Bohlau, 1878).
Август Тон (August Thon) (1839 — 1912) — известный германский цивилист и теоретик права, основоположник «теории императивов» — одной из наиболее влиятельных по сей день концепций в области теории правоотношений. Август Тон прошел габилитацию в Гейдельберге (1863), был асессором окружного суда в Айзенахе (1867), в 1870 г. там же, а в 1872 в Веймаре — прокурором, с 1873 г. — ординарный профессор в Ростоке, с 1879 — в Йене. Периодически издавал настольную энциклопедию по источникам римского права. Главные произведения: Das ius offerendi des besseren Pfandglaubigers nach romischem Rechte. Heidelberg, 1863; Rechtsnorm und subjectives Recht. Weimar, 1878.
От переводчика
Глава II книги Августа Тона «Schuldloses Unrecht», несмотря на сравнительно небольшой объем, является важнейшей для понимания теории императивов Тона. Только в качестве небольшой вступительной ремарки мы хотим посвятить несколько слов понятию «Unrecht», его связи с понятием субъективного права в структуре теории императивов, а также трудностям перевода термина «Unrecht» на русский язык. В самых общих чертах взаимодействие понятия субъективного гражданского права и понятия «Unrecht» можно изобразить следующим образом. Корни теории императивов восходят к теории немецкого философского пессимизма. Философский пессимизм исследует природу желания (Lust) с той точки зрения, что желание лица не заключается в его субъективной воле на совершение неких позитивных действий, а заключается лишь в ненаступлении нежелаемого (Unlust). Подобная «негативная окраска» субъективной воли лица при перенесении на правовую почву позволяет переосмыслить природу субъективного права, которое является, вероятно, наиболее точным юридическим отражением философского понятия «Lust». Как «Lust» в философии пессимизма, так и субъективное право (subjektives Recht) в юриспруденции при пессимистическом прочтении не направлено на предоставление материального или нематериального блага; оно больше не заключено в совершении либо несовершении позитивных действий со стороны субъекта права. При подобном подходе в субъективном праве теперь отражено стремление лица предотвратить «Unrecht», подобно тому как в философии пессимизма понятие «Lust» всегда направлено на предотвращение «Unlust». Этот подход к пониманию природы субъективного права, безусловно, влечет за собой пересмотр природы и права объективного, другими словами, природы тех правовых норм, которые создает публичный правопорядок. Очевидно, что при таком рассмотрении субъективного права субъект заинтересован не в предоставлении некой правовой возможности со стороны публичного правопорядка, а только в собственной защите от наступления «Unrecht». Иными словами, основная задача правопорядка заключается в предоставлении лицу публично-правовых гарантий защиты. Сама же возможность совершения юридически значимых действий, та, которая в классическом варианте и именуется субъективным правом, при данном подходе выносится за скобки. Так как роль правопорядка существенно ограничена за счет элиминирования его функций по предоставлению субъектам возможности совершения определенных действий или получения определенных благ, неизбежно меняется и структура его норм в пользу их сугубо императивного содержания: происходит исключение дозволительных норм из структуры объективного права. И поскольку в структуре объективного права остаются только нормы императивной природы — предписания и запреты, вся теория в целом получила название «теория императивов», или Imperativentheorie (об этом см., например: Engisch K. Auf der Suche nach der Gerechtigkeit: Hauptthemen der Rechtsphilosophie. R. Piper, 1971). Оригинальное название этой главы — Schuldloses Unrecht. Отметим, что с термином «Unrecht» в русском языке, скорее, корреспондирует слово «неправо», т. е. состояние неуправомоченности лица, которое является точным антиподом термина «субъективное право». Употребление термина «Unrecht» в смысле «правонарушение» также имеет место: Тон упоминает о таком значении термина как об общеупотребительном, хотя и не может до конца с этим согласиться. Название данной главы мы переводим как «Безвиновное правонарушение». При любом нашем выборе адекватного русского термина мы понимаем, что допускаем здесь неизбежную неточность. Однако с учетом изложенного выше надеемся, что это не введет читателя в заблуждение относительно истинного положения категории «Unrecht» в теории императивов Тона.
Е. И.Упоров
Глава 2. Безвиновное правонарушение
1. В первой главе мы попытались классифицировать возможные правовые последствия противоправности (Normwidrigkeit) по тем целям, которые преследует правопорядок при установлении этих последствий. При этом остался нерассмотренным вопрос, достаточно ли для наступления правовых последствий, обусловленных нарушением правовых норм, объективной противоправности деяния или же помимо этого требуется, чтобы противоправное поведение можно было вменить нарушителю в вину; иными словами, возможно ли наряду с виновным правонарушением выделить правонарушение иного рода, которое можно обозначить как «чистосердечное» <1>, «объективное» <2>, «непреднамеренное» <3> или «невиновное» <4>. ——————————— <1> Hegel. Philosophie des Rechts. § 84. <2> Ihering. Das Schuldmoment im romischen Privatrecht (1867). S. 5 fg. <3> Trendelenburg. Naturrecht. 2. Aufl. (1868). S. 121. <4> Haelschner. Die Lehre vom Unrecht und seinen verschiedenen Formen; Gerichtssaal, XXI (1869). S. 24.
В настоящее время этот вопрос не может считаться закрытым. Детальное рассмотрение этого вопроса кажется тем нужнее сейчас, поскольку уже представлены Нойнером десятилетие назад точные рассуждения <5>, которые хотя и не остались без внимания, но по крайней мере нашли лишь немного последователей в сфере криминалистики <6>. ——————————— <5> Neuner. Wesen and Arten der Privatrechtsverhaltnisse (1868). S. 176, а именно S. 207 fg. <6> С Нойнером (Neuner) согласен ф. Бар (v. Bar) (die Grundlagen des Strafrecht (1869). § 9. S. 32 fg.).
Уже на следующий год, в противоречие Нойнеру, Меркель <7> вступился за идею, что каждое правонарушение уже по своему понятию включает в себя вину. Правонарушение — это нарушение предписания или запрета. А эти императивы (предписания или запреты) направлены на волю вменяемого лица и поэтому могут быть нарушены только по его воле. Что не может быть отнесено к «постижимой воле» человека, то является не чем иным, как природным явлением; «невменяемый» человек представляется не мыслящим, желающим и признающим себя ответственным существом, а только лишь представителем суммы естественных сил. Кто намерен выступить против невменяемого лица во имя нарушения защищаемых правом благ, должен с таким же упорством делать это и против зверей, и против неодушевленных предметов. Действия лишенного разума существа всегда равны поступкам существа, которое обладать разумом и не способно <8>. ——————————— <7> Merkel. Kriminalistische Abhandlungen (1867). S. 43, 46, 47, 51. <8> Меркель (Merkel) должен был дойти до этого вывода, потому что для него как само правонарушение (Unrecht), так и каждое его правовое последствие охватываются единым понятием. Наказание, как и возмещение, преследуют, по его мнению, одну и ту же цель — устранение противоречия между индивидуальной волей нарушителя и общей волей; однако, естественно, уголовно-правовому принуждению отводится только субсидиарное положение в отличие от принудительного возмещения причиненного вреда (Entschadigungzwang) (см. с. 233, 237 N 4 ВГП за 2010 г.). Этот вывод не выдерживает критики, потому что, помимо прочих аргументов, часто оба этих правовых последствия связаны с одним и тем же актом противоправности.
Против взглядов Меркеля прямо выступал Йеринг <9>, который придерживался возможности объективного правонарушения, т. е. «unverschuldete Unrecht» — правонарушения, которое совершено невиновно (согласно Йерингу, в котором отсутствует «момент виновности»). При этом «момент виновности» не исключает одновременно присутствия человеческой воли («волевого момента»). Собственно, этот «волевой момент» отличает человеческое, в том числе и невиновное, поведение от влияния природной силы. И если против объективного правонарушения существует правовая помощь («Rechtshulfe»), то против «природной силы» ее быть не может. ——————————— <9> Ihering. A. a.O. S. 6.
С этим в общем согласен Хельшнер <10>. Когда он упраздняет объективное правонарушение, то он, в отличие от Йеринга, понимает под ним именно «неволевое правонарушение» (das willenlose Unrecht). За такое «неволевое правонарушение» нельзя назначать наказание либо обязывать возместить причиненный вред. При этом обязанность лица к возмещению (принудительное возмещение — Entschadigungszwang), которой Хельшнер охватывает все то, что я бы назвал термином «Ausgleichung» <11>, направлена, «как и наказание, против воли лица и стремится уничтожить противоречие между частной волей лица и правом, а также установить нормальное соотношение обоих». Но ведь человек может быть и невиновен в правонарушении. Например, тогда, когда вменяемое лицо хочет совершения правонарушения и имеет место простительное заблуждение. Такое правонарушение требует для своего устранения лишь разъяснения и устранения того заблуждения, из которого оно появилось <12>. Этому служит решение суда. Если решение суда не исполняется, то до этих пор безвиновное правонарушение превращается в виновное и привлечение лица к принудительному возмещению вреда становится предписываемым и справедливым. ——————————— <10> Haelschner. A. a.O. S. 20, 21 fg. От положения о цели принудительного возмещения (Entschadigungszwang) он отказывается в примеч. 12 цитируемой статьи (с. 406, 407). Ср. сн. 51. <11> Там же. С. 26. <12> Haelschner. Nochmals das Unrecht und seine verschieden Formen; Gerichtssaal, XXVIII (1876). S. 404.
Ответить на наш вопрос пытался также Хейсслер <13>. Несмотря на отдельные точные замечания <14>, автор не приходит к какому-либо удовлетворительному выводу. Причина состоит главным образом в том, что Хейсслер в каждом виновном нарушении нормы права (Normubertretung) видит не только лишь поступок, за который возможно наступление наказания (straffahig), — что с ранее обоснованной оговоркой было бы верно, — но также одновременно и деликт, т. е., по его собственному определению, «наказуемое (strafbar) правонарушение (Unrecht)». Из этого делается вывод, что «там и в той степени, в которой правонарушение рассматривается сугубо через призму вины и сводится к воле как его свободной и потому ответственной за него первопричине, речь может идти уже не просто о гражданском правонарушении, а о деликте». Правда, Хейсслер не может игнорировать, что существует также виновное гражданское правонарушение (Civilunrecht), которое «не переходит в деликт». Чтобы найти аргумент против следующего отсюда вывода, он прибегает к неслыханной доселе чудовищной категории «правонарушение, ответственность за которое возлагается при наличии вины, которую лицу вменить не представляется возможным». И отсюда следует «разделение уже внутри понятия гражданского правонарушения (Civilunrecht) на виновное и невиновное правонарушение». ——————————— <13> Heyssler. Das Civilunrecht und seinen Formen (1870). S. 12, 20, 21. <14> Сюда бы я отнес некоторые из примечаний: Nr. 10 (S. 18), Nr. 12 (S. 25), Nr. 27 (S. 55).
Вопреки Йерингу, Хельшнеру и Хейсслеру, Биндинг в своей часто цитируемой работе <15> со всем рвением придерживается позиции, что «любое правонарушение (Unrecht) — это виновная противоправность (Normwidrigkeit)». Невиновного правонарушения (Unrecht) не бывает: то, что называют объективным правонарушением (Unrecht), на самом деле есть чистая случайность. Есть лишь одно различие между господством природной силы и случаем человеческого невиновного поведения: сила природы никогда бы не смогла, но, пожалуй, человек смог бы в отношении прежнего объективного (т. е. безвиновного) причинения вреда стать виновным впоследствии, даже если последнее возникает не по требованию со стороны пострадавшего, так же как и начало процесса не всегда ставит до этого невиновного ответчика в позицию виновного. Пока этого не случилось, также не будет никакой правовой обязанности. Правовая обязанность наступит тогда, когда такой «случайный» правонарушитель станет виновным. Только на такого виновного правонарушителя налагается обязанность восстановить положение, существовавшее до нарушения права (Restutionsverbindlichkeit). Обвинительное судебное решение по гражданскому делу обосновывает в подобном случае только обязанность и одновременно распространяет выводы из этого акта на неблагоприятные последствия для причинителя вреда. ——————————— <15> Binding. Die Normen, I (1872). S. 135 — 141.
Взгляды Меркеля и Хейсслера расходятся более всех остальных. Они словно два полюса, между которыми располагаются мнения Йеринга, Хельшнера и Биндинга. Я, напротив, не могу признать практической разницы между выкладками вышеупомянутых авторов. Йеринг, Хельшнер и Биндинг допускают правовую помощь <16> только против вменяемых лиц и с такой предпосылкой применяют ее также против невиновного причинителя объективно противоправного состояния. Однако в то время как Йеринг говорит в таком случае уже об обвинении в «объективном правонарушении», Хельшнер находит более уместным говорить о «безвиновном правонарушении». Биндинг протестует против любого применения понятия «правонарушение» в отношении невиновного, но допускает все-таки гражданско-правовые иски к нему, вследствие которых потом, уже с решением суда, может возникнуть и вина, а соответственно, и «правонарушение», и «обязанность». ——————————— <16> Я уже не говорю о том, что Хельшнер, разумеется, допускает иск также против неправоспособного; однако это только потому, что их попечители могут быть обвинены вместо них (Gerichtssaal. XXVIII. S. 403). Ниже я вернусь к этому пункту.
2. Уже из этого краткого обзора ясно, насколько затруднительно исходить из понятия «Unrecht». Страницу ранее подчеркнуто <17>, что это понятие <*> совершенно нейтрально и, несмотря на вину или отсутствие вины совершившего его лица, может обозначать только лишь объективно противозаконное состояние. Однако точно так же верно, что термин «Unrecht» в другом общепринятом смысле <**>, как и римское iniuria <18>, скрывает в себе одновременно и понятие виновности. Так что по крайней мере не рекомендуется основываться на этом двусмысленном слове. Кажется целесообразным, напротив, исследовать, могут ли правовые последствия, связанные с нарушением норм, наступить только лишь при виновном нарушении или с ними может столкнуться и невиновный. Если мы были бы вынуждены ответить утвердительно на последнее утверждение по крайней мере относительно части правовых последствий, тогда было бы уже доказано то, что только должно было быть достигнуто принятием термина «объективное правонарушение». Вопрос, уместно ли обозначать такое невиновное противоправное поведение термином «Unrecht», можно даже не рассматривать — достаточно того, что это поведение, как и виновное, повлечет за собой правовые последствия противоправности. ——————————— <17> Ihering. A. a.O. S. 6. <*> В переводе «неправо». — Примеч. пер. <**> В переводе «правонарушение». — Примеч. пер. <18> Например, 1.5 § 2 ad legem Aq. 9.2: «…impubes… si sit iam iniuriae capax».
На первый взгляд кажется необоснованным, что невиновное нарушение нормы также может влечь какие-либо правовые последствия. Здесь потребуется аргументация <19>: правопорядок адресует свои предписания только тем индивидам, которые способны понимать их. Если правопорядок обращается к воле подчиненных ему, то в расчете на то, чтобы во многом ее обусловить. Как можно вообще говорить о нарушении нормы, где безо всякой вины это предписание даже не было услышано? Как в этом случае могут связываться с невиновным те последствия, которые влечет его нарушение? Или с тем, кого правопорядок сам признал невменяемым? ——————————— <19> Merkel. A. a.O. S. 43; Binding. A. a.O. S. 135. В противоречие Меркелю справедливо отмечает ф. Бар (v. Bar. A. a.O. S. 43).
Разумеется, правильно, что от правопорядка нельзя ожидать какого-либо определения поведения лишенного разума человека путем установления предписаний. Также никогда нельзя негодовать, если такая личность совершит противоправное деяние. Но другой вопрос в том, должен ли из-за этого правопорядок отказаться от всех тех правовых последствий, которые справедливо связываются с нарушением нормы права. Если при вспыхнувшем пожаре пожарная машина торопится по улицам многолюдного города, нельзя рассчитывать на то, что глухой человек услышит предупреждающий сигнал. Но, однако, ему также угрожает эта опасность. Разумеется, травма человека, не услышавшего сигнала, нисколько не преднамеренна, а, скорее, является нежелательным событием, которого едва ли можно избежать; напротив, назначаются же правовые последствия противоправности правопорядком осознанно и с умыслом. Из этого различия следует только, что все те правовые последствия, которые влечет должная квалификация поступка, в случае невиновного нарушения не должны иметь место. Но если к нарушителю и назначаются определенные правовые последствия, то ради других интересов, которые также могут быть сохранены от невиновного. Нельзя предугадать, почему невиновность нарушителя должна задерживать наступившие не по его вине правовые последствия. Изучение, таким образом, должно быть направлено на то, применение каких правовых последствий предполагает вину нарушителя, а каких — не предполагает. 3. В последнем замечании уже было сказано, что невиновная противоправность, конечно, не должна влечь какой-либо вид возможных правовых последствий. Невиновному не должно назначаться наказание, будь это наказание публичное или так называемое частное (Privatstrafe). Однако цель любого наказания — причинить зло нарушителю нормы, чтобы получить возмездие за то недовольство, которое ощущает общество вследствие противоправного поступка. Оно карает не потому, что защищаемое правопорядком имущество было подвержено опасности или уничтожено, а, скорее, потому, что это произошло настолько кощунственно и произошло там, где общество было вправе ожидать исполнения своих требований и где противоправное деяние не просто происходит случайно, но умышленно приводится в исполнение. Мы называем виной отношение лица к противоправному поступку <20>. Если общественное сознание должно определить в законодательстве, какому противоправному деянию какое определенное наказание должно соответствовать, то все-таки непреложное требование справедливости состоит в том, чтобы наказание, где оно предусмотрено, наступало только при виновном нарушении права. Мы испытываем отвращение, когда судья по уголовным делам осуждает невиновного. Наше отвращение коснулось бы и законодательства, которое вынуждало бы судью сделать это <21>. ——————————— <20> Также в деликте, совершенном по небрежности, я бы хотел видеть именно ошибку волеизъявления, а точнее, позитивного желания запретного, несмотря на возросшие в последнее время, особенно в цивилистической среде, возражения (см., например, примечания: Lotmar. Uber causa (1875). S. 8; Schlossmann. Der Vertrag (1876). S. 323). По моему мнению, такой «неосторожный» деликт (das fahrlassige Delict) состоит в умышленном нарушении запрета на действия, которые создают угрозу, за которые наступает наказание не само по себе, а только при наступлении определенных последствий — преимущественно при условии, что как следствие угрозы имуществу, защищаемому правом, происходит повреждение этого имущества. Рассмотрим пример убийства по неосторожности. Кто ставит стакан с отравленной водой без всякого умысла, чтобы из него кто-либо выпил, в то место, где его легко может выпить третье лицо, что может привести к смерти человека, подвергает этим опасности человеческую жизнь и действует уже противоправно. Невозможно только с последующим питьем воды связать противоправность, поскольку предполагается, что это питье воды происходит при обстоятельствах, которые беспечная личность уже не может при всем желании предотвратить. Правопорядок не имеет возможности, да и не в силах запретить невозможное. Запрет, действующий при условии, что то или иное событие произойдет позже, просто бессмыслен; более того, такое небрежное поведение, безусловно, запрещено. Это также проявляется в том, что полностью названное действие в совокупности с направленной на совершение убийства волей лица может быть рассмотрено как покушение на убийство и потому наказуемо. Но наказуемость в этом случае не является верным сигналом того, что совершенное действие само по себе противоправно. А именно в том, что на стол поставили стакан с отравленной водой, заключено позитивное желание запретного. Мы не говорим, что действие должно быть инициировано ради его опасности. Особенное желание опасности не требуется. Да, было бы легче объявить такое желание ненаказуемой противоправности наказуемым либо свести ее к наказуемому покушению или к какому-либо специфическому деликту (например, § 324 Уголовного уложения). Вполне достаточно того, что лицо желает совершить объективно угрожающее и поэтому запрещенное действие, и в этом случае закономерным будет принять тот факт, что преступник как разумное лицо признал угрозу своего действия. Если обстоятельства свидетельствуют о противоположном, например о том, что преступник не знал свойства добавленного вещества, то тем не менее возможно допустить небрежность; сейчас вернемся на шаг назад. Поскольку запрещена любая угроза, может считаться противоправным добавление вещества (потому что это является угрозой), которое, возможно, является ядом, но оставленное непроверенным в легкодоступном и открытом месте. Но не нужно упрекать виновника этого в том, что он не подверг вещество проверке. Нигде правопорядок не предписывает производить проверку неизвестного вещества. Напротив, противоправность состояла бы вообще во всяком обращении с такими веществами, ну и, конечно, при противоправном умысле. Таким образом можно было бы сконструировать случай § 326 и § 324 Уголовного уложения — неумышленные ложные показания под присягой. При этом противоправность была бы упразднена там, где по понятным причинам нет никакой угрозы. Обычно не опасно и поэтому более не запрещено свободно оставлять непроверенное, но купленное как безопасное вещество. Поступок, наконец, теряет всякое свойство поступка наказуемого даже не вследствие элиминирования умысла (вины), а посредством отмены запрещающих его норм. Пока достаточно запрета, ничто не встанет на пути наказания каждого умышленного его нарушения. В самом деле, правопорядок специально наказывает даже в отдельных случаях саму угрозу. Но, скорее, даже так: угроза вообще не имеет никакого последствия. В одном случае угроза человеческой жизни не является предпосылкой к наказанию, как в § 367 (строка 5) Уголовного уложения (здесь будет запрещено даже не угрожающее, а уже именно опасное действие). В другом же случае, если не само желание опасности, то все-таки желание совершения угрожающего действия будет относиться к составу преступления (§ 324 Уголовного уложения). В третьем случае не только лишь запрещенное, но уже наказуемое действие, которое заключает в себе угрозу человеческой жизни, наказывается строже, если вследствие этого наступила смерть подверженного угрозе (§ 178, 220, 226, 229, 239, 251, строка 1 § 307, § 315 Уголовного уложения). Наконец, возможно и такое, что наказанию подвергается уже само угрожающее действие как таковое (§ 312, 321, 323 Уголовного уложения). В указанных выше случаях несомненно, что в самом нарушении этих положений уголовного закона содержится злоумышленный проступок. Однако они отличаются от так называемых правонарушений, совершенных по неосторожности, только тем, что в этих случаях противоправный (неосторожный) поступок сам по себе не подпадает под наказание, но подпадает под него только при условии, что эта угроза [описанная выше. — Примеч. пер.] приводит к определенному результату (например, человеческая смерть). Если это так, то тем самым проблема деликта, совершенного по неосторожности, была бы решена. Своеобразие этого деликта состояло бы не в том, что он содержит в себе особую форму вины, а в самом содержании нарушенной нормы, выражающей запрет угрозы, и главным образом в условной связи наказания и противоправности. Сказанное можно проверить на известном примере Шлоссмана. Заснувший вахтер, в обязанности которого входит контроль печи, не совершает на первый взгляд никакого противоправного действия из-за того, что вспыхнул огонь. В этот момент он спит, а спящий не может быть виновником. У противоправности есть более ранний источник. Он основывается на самом моменте засыпания. Не на желании спать, которое вообще не подчиняется прямому призыву, но на самом действии и вместе с тем желании всего того, что погрузило в сон в данном конкретном случае, т. е., по представлению Шлоссмана, — на чтении скучной книги и погружении в грезы. Каждое из множества различных действий, которые заставляют человека погрузиться в сон и в которых можно усмотреть причину того, что он заснул, в совокупности с принятием на себя обязательства по несению вахты составляет противоправную угрозу. Сама по себе эта противоправность не наказуема — не тогда, когда она привела ко сну. Однако при других обстоятельствах может быть другой исход: имеется в виду сон на посту. В нашем примере противоправность наказуема только тогда, когда она стала причиной пожара. Естественно, эти указания не могут помочь проникнуть в суть тяжелого учения о деликтах, совершенных по неосторожности. Они должны лишь защитить содержание данного текста от упрека неосторожности, выведенного из обычного определения этого понятия. К тому же они были уже написаны, когда я получил второй том книги «Normen» Биндинга. Я вижу из нее, что попытка объяснения была уже предпринята Штойбелем, что, к сожалению, не было мной замечено. Но меткая критика мнения Штойбеля Биндингом как-то явно немногословна (с. 148 — 150). С другой же стороны, собственное учение Биндинга не смогло меня переубедить, поскольку я не могу дать воле такое широкое распространение, какое требует теория Биндинга (с. 112): «Мы безоглядно желаем… вместе с первопричиной одновременно и всех ее последствий, потому что мы не можем хотеть чего-то иного, кроме как попытаться учесть и их» (см. противоположное мнение у Гейера в критическом Ежеквартальном журнале (XVIIII (1877), с. 441)). И далее я вижу наказуемость действия не только в его противоречии с нормой, в которое вступает это действие, но и — намного шире — в его материальном содержании, в угрозе или нарушении чужих интересов (см. гл. I, сн. 59). Так принял я решение мои вышеупомянутые замечания оставить в первоначальном виде. <21> Превосходно написано у Биндинга (Binding. A. a.O. I. S. 167).
Положением «нет наказания без вины» определено существенное требование к справедливому назначению наказания. Одного этого положения достаточно при наказаниях, которые обусловлены непосредственно нарушением <22>. Здесь наказание в один и тот же момент заслужено, назначено и принято. Только косвенно здесь можно создать предмет будущего решения — применимо ли наказание и приводить ли его в исполнение <23>. Между тем такое наказание, которое одномоментно связано лишь с самим действием, образует абсолютное исключение. Количество таких случаев уменьшается. Наше правосознание требует более четких гарантий. Это позволяет налагать наказание преимущественно лишь судебным решением и только лишь в процессе, который предоставляет достаточные гарантии защиты обвиняемого. Этим отличаются по времени понятия «обвинение», «приговор» и «приведение приговора в исполнение». Перед «обвинением» у нас только наказуемый, а после — обязанный отбыть наказание, а сразу после приведения приговора в исполнение перед нами истинно наказанное лицо. Но в этой последовательности необходимо предусмотреть еще ряд требований. ——————————— <22> Ср. выше, § 7 гл. 1. <23> Если, например, кредитор подает в суд на исполнение дебиторской обязанности и должник возражает, ссылаясь на недействительность такого требования, возникшую вследствие применения запрещенного самоуправства. Здесь приговор, которым отклоняется требование истца на основе возражения должника, не назначает наказание, а, скорее, основывается на правовом состоянии, наступившем в связи с действием кредитора при наказании.
В первую очередь нужно, чтобы лично был наказан только виновный. Именно виновный должен ощутить зло наказания, а не невиновный. А если невиновный все же разделяет страдание виновного, то это может быть только, пожалуй, неизбежное, но все-таки непреднамеренное рефлекторное действие наказания <24>. Как следствие, несение наказания оканчивается в случае смерти виновного. Наследование наказания либо обязательства понести наказание точно так же недопустимо, как оскорбление мертвого; также оскорбились бы и родственники. На сегодняшний день оба этих положения общепризнанны. Только еще сохраняется некоторая непоследовательность <25>. Но это следует из того, что государство обязано наказывать виновника и что оно не может допустить отбытия наказания третьим лицом; наложение денежного штрафа не является исключением <26>. ——————————— <24> Если, например, кормильца семьи лишили жизни или свободы. <25> Параграф 30 Уголовного уложения: «В наследственную массу может быть включен и приведен в исполнение денежный штраф, если приговор вступил в законную силу при жизни осужденного». Но при этом то зло, которое несет в себе наказание, выражается не в самом приговоре, а в лишении денежной суммы. <26> Binding. A. a.O. I. S. 167 (Anm. 285). При actiones poenales у римлян это было, разумеется, по-другому по приведенным в гл. I (сн. 77) причинам.
Далее, только лишь совершение деяния и виновность недостаточны для наказания виновного. Чтобы привлечь к наказанию, виновный должен быть в то же время вменяемым. Это необходимо в силу двух обстоятельств. Во-первых, потому что невменяемому не может быть предоставлена возможность эффективной защиты. Как лицо, физически отсутствующее в процессе, в тяжких случаях (§ 319 , 327 Уголовного уложения), так и лицо, так сказать, «духовно отсутствующее», не должно быть осуждено. Во-вторых, против самого приговора говорит то же обстоятельство, что и против его исполнения (так как приговор уже содержит в себе часть приведения его в исполнение). Это касается не только отдельных наказаний, которые исполняются одномоментно с вступлением в законную силу приговора <27> (и в этом отношении здесь совпадают вынесение приговора и приведение его в исполнение), а также того состояния, когда из-за приговора суда положение обвиняемого в человеческом обществе уже ущемлено и это ущемление хотя и не является наказанием, налагаемым правопорядком, но является наказанием по факту. ——————————— <27> К примеру, § 31, 33, 35 Уголовного уложения.
В конце концов необходимо еще и третье. Виновный должен оставаться вменяемым все время исполнения наказания. Это уже на сегодняшний день повсеместно принято <28>, но остается, на мой взгляд, нераскрытым в свете альтернативных точек зрения (таких, как юстиция возмездия). Согласно такому «альтернативному» взгляду, виновный должен испытать страдание и вместе с тем признать это страдание как возмездие за поступок, возложенное на него обществом, в котором он живет и чей порядок он нарушил. Поэтому он не может быть лишенным способности понять связь между злом в отношении его и его виной в отношении общества. Обезглавливать или заключать в тюрьму сумасшедшего преступника показалось бы нам бессмысленной жестокостью, но никак не справедливостью. Но это же обстоятельство запрещает также, чтобы посредством приведения в исполнение денежного штрафа его лишили средств к существованию. ——————————— <28> Абзац 2 § 485 и § 487 Уголовного уложения. Ср. также: Heinze in: v. Holtzendorffs Handbuch des deutschen Strafrechts. II. S. 593.
Вывод здесь такой: нет наказания без вины, недопустим обвинительный приговор и приведение его в исполнение в отношении невменяемого лица. 4. Было бы недопустимо использовать эти тезисы без подробного описания каждого вида возможных правовых последствий. Наказание и компенсация (die Ausgleichung) имеют различные цели. Это возможно потому, что предпосылки для их наступления должны устанавливаться по-разному. Но прежде чем мы что-то решим относительно этой возможности, мы должны сперва детально остановиться на двух явлениях, в которых возникают похожие вопросы, осознание и определение которых для дальнейшего исследования имеет большое значение. Выше мы видели, что правопорядок не ограничивается запретом нежелаемого посредством своих норм. Где он может, он предотвращает осуществление не желаемого им самостоятельно. Правопорядок может сделать так прежде всего в отношении не признаваемых им сделок. Здесь в его власти упразднить предполагаемый сторонами юридический эффект с самого начала, и этим он может в большинстве случаев ограничиться. Ему будет безразлична сама попытка совершить сделку, которой он не придает юридического значения, — правопорядок в большинстве случаев не будет ее даже запрещать. Однако может быть и так, что правопорядок не признает уже саму эту попытку и потому запрещает ее, что угрожает наказанием за виновное нарушение такого запрета. Это наказание является правовым последствием наказуемого правонарушения (Unrecht), которое заключено в самой попытке заключения сделки. Недействительность же сделки, напротив, никогда не является правовым последствием противоправности <29>. Недействительность означает недопущение правового эффекта вне зависимости от запрещения либо незапрещения попытки совершить саму сделку и таким образом установить состояние, которое возникло бы и без этой попытки. Воля частных лиц просто разбивается здесь о противостоящую ей волю правопорядка. ——————————— <29> Это равным образом имеет силу не там, где каждая попытка совершения определенной сделки остается без юридического эффекта, а, скорее, там, где он возникает из определенного умысла. Так, при manumissio in fraudem creditorum согласно lex Aelia Sentia (pr. J. qui quibus I, 6) недействительность сделки признается только для тех случаев порочного освобождения, которые предусматривают цель уменьшения числа кредиторов. Правовая норма, которая не является самостоятельной, гласит здесь не «ты не должен выпускать на волю во вред», а «нельзя отпускать на волю во вред кредиторам» и только в дополнение выступает истинный императив «Ты не должен даже пытаться».
Следовательно, чтобы недействительность сделки <30> наступила подобным способом, попытка ее совершения может исходить от невиновного лица либо от невменяемого. Супруг не имеет права отдавать в залог отданный в приданное участок земли. Попытке такого обременения, разумеется, можно не препятствовать — это только лишь действие, которое, пытаясь достичь незримого юридического эффекта, такового не достигает и потому так и остается абсолютно бесполезной затеей. Потому и сделка не будет действительной вследствие того, что супруг, как и его контрагент, пребывали в простительном заблуждении относительно качества земельного участка. Между тем такое заблуждение исключает любую вину. Земельный участок также не закладывается, если супруг был невменяемым. Разумеется, напрашивается возражение: сделка невменяемого — это вообще не сделка с точки зрения права. Определенно это так, и дает нам новый довод. Как недееспособный вообще не может произвести сделку, так и супруг тоже не может ее произвести. Он не просто не может — он абсолютно не в состоянии. И вообще вопрос, что является основным, а что побочным: «Нельзя отдавать в залог» — истинный императив, а «Ты не должен» идет с ним параллельно. Для недееспособных <31> этот запрет, конечно, не отменяется. Я также не могу не добавить здесь, что если каждый императив законодательства с самого начала нацелен быть действительным только для вменяемых лиц, то все-таки непонятно, когда правопорядок издает норму для тех, кто не в состоянии ее постичь. Здесь правовое положение гласит только: «Сумасшедший et cetera не может совершить сделку». Но это же не самостоятельная правовая норма, поскольку ей не хватает императива. К значению подобных несамостоятельных норм я вернусь далее <32>. Существует ли для объявленных недействительными сделок наряду с «Нельзя» («Es kann nicht») еще и «Ты не должен» («Du sollst nicht»), является вопросом толкования. Если вся сделка неизвестна правопорядку или неизвестна в такой особой ее форме, тогда определенно императива не существует. Ни одна норма в классическое время не предписывала римлянам «Вы не должны составлять совещание в присутствии менее чем трех свидетелей» или «Вы не должны довольствоваться лишь голыми договоренностями, но должны облекать их в стипуляционную форму». Правопорядку было вполне достаточно просто игнорировать волю, не выраженную в форме манципации или так называемые nudum pactum. В подобных случаях хотя изъявления сторон пусты и напрасны, но не являются противоправной попыткой <*>, они должны достичь правового эффекта. Но возможно и такое, что правопорядку также нежелательна сама попытка, и поэтому она запрещается сторонам. Точным знаком подобной нежелательности является то, когда за вышеперечисленное существует угроза наказания <33>. Тогда правовое положение гласит не только лишь «Сделку нельзя совершить», но выражается в императиве «Ты не должен даже пытаться». Но если попытка может быть как запрещена, так и не запрещена, в любом случае предусмотренная правопорядком недействительность юридического акта <34> не зависит от виновности либо невиновности совершавшего его лица. И, разумеется, она не является следствием противоправности. ——————————— <30> Несмотря на случаи, приведенные в сн. 29, здесь предпосылкой недействительности служит определенный умысел при совершении действия, а следовательно, само желание, в большинстве случаев — желание запретного. <31> Недееспособность в узком смысле, т. е. в значении «несделкоспособности», чаще всего совпадает с невменяемостью — по крайней мере каждый невменяемый также «несделкоспособен», если даже не наоборот. Я предполагаю поэтому в тексте обычный случай, когда недееспособный является также невменяемым. <32> Параграф 9 гл. VII. <*> Описанной выше. — Примеч. пер. <33> Примеры см. выше, в гл. I (сн. 33). <34> Опять же с ограничениями, описанными в сн. 30.
5. Юридический эффект, достигаемый посредством направленного на это волеизъявления, может быть в любой момент упразднен правопорядком — точнее говоря, правовой эффект имеет место только там, где это допускает сам правопорядок. Само волеизъявление, как и любое другое человеческое действие, хотя и может запретить право, но тем самым не может сделать его невозможным. В относительно редких случаях ответственные за это государственные органы в состоянии предотвратить наступление запрещенных действий — только там, где власть может препятствовать самому замыслу и где эта власть имеется в распоряжении в нужное время и в нужном месте. Но там, где оказывается верным наш последний тезис, уже все равно, угрожает ли противоправность со стороны сознающего свою вину лица либо совершенно невиновного. После изоляции усадьбы, в которой вспыхнула чума скота, сторожа должны оказывать сопротивление каждому приходящему туда либо пытающемуся уйти. Нет различия, являются ли приходящие и уходящие вменяемыми или нет. Разумеется, у сторожей та же обязанность по отношению к животным. Так, можно было бы подумать, что императив обращен только лишь к сторожам: «Вы не должны кого-либо выпускать или впускать» — и только для поддержки этого требования издается дальше запрет вменяемым людям «Вы не должны выходить или входить». Сама возможность этой точки зрения исчезает, как только мы переносим этот случай в другое русло. Возьмем вместо служащего, профессиональный долг которого предотвратить противоправность, и вместо лица, находящегося под угрозой в своем собственном пространстве, полностью непричастное третье лицо. Если такое лицо препятствует невменяемому человеку нарушить предписываемый запрет, то это, несомненно, никакое не противоправное действие. Здесь также возможно возражение: то же самое действительно по отношению к животным. Само по себе различие здесь бесспорно. Что касается животных, то они вообще не могут совершить противоправное действие <35>. Никогда, например, не запрещалось прогонять ворон от общественной дороги. Если же ребенку или умалишенному помешали идти по дороге, ходить по которой не запрещено, то препятствующий совершает противоправное деяние, за которое его могут в частноправовом, а то и, возможно, в уголовно-правовом порядке привести к ответственности. Но что это препятствие может сделать разрешенным при возведении ограждения или запрещенным в его отсутствие, если запрет не действует в отношении недееспособного и его свободный проход не будет ограничен ни в первом, ни во втором случае? Различные трактовки этих двух случаев, по моему мнению, с неизбежностью указывают на то, что препятствование в первом случае разрешено, поскольку оно предотвращает противоправность, так как тем самым запрет распространяется на всех, даже на невменяемых, людей <36>. ——————————— <35> То, насколько посредством действий животных вообще могут быть нарушены чьи-либо права, здесь не принимается во внимание. <36> Этими основными положениями решается вопрос, наказуемо ли убийство невменяемого, которое было вызвано такими обстоятельствами, как необходимая оборона, или не наказуемо лишь то действие, которое совершено при крайней необходимости. В пользу крайней необходимости вопрос решается в настоящее время господствующим учением (см.: Meyer. Lehrbuch des deutschen Strafrechts. § 53. S. 252 (Anm. 6) и то, что здесь уже процитировано); также Oppenhoff (Strafgesetzbuch. § 53. N 6) оставил свое прежнее, существующее с четвертого издания данной книги мнение, что тут налицо необходимая оборона. Тем не менее я хотел бы придерживаться именно этой точки зрения. Прежде всего для защищавшегося лица не все равно, должен ли он себе сказать «Я совершил правонарушение (Unrecht) и останусь безнаказанным» или «Я не признаю свой поступок в качестве противоправного». Кроме того, он — примем только случай крайней необходимости — подвергся бы наказанию, если он такую крайнюю необходимость создал по своей вине или мог избежать совершения данного действия другим способом. Но несравненно более важным будет этот вопрос для третьего лица. Кто убил нападающего, чтобы спасти таким единственно возможным способом жизнь другого, например своего атакуемого друга, действует обычно в состоянии крайней необходимости и не совершает никакой противоправности. Но, по учению оппонента, он бы получил наказание в высшей степени, если бы нападение, как он знал, совершается сумасшедшим. Поскольку крайняя необходимость оправдывает только те действия, которые совершены для спасения своей жизни или жизни близкого человека, следовательно, друг, спасший жизнь, в последнем случае был бы наказан за убийство. Но это кажется мне совершенно нестерпимым выводом. Я не в силах осознать, как одно и то же преступление в одном случае оставляют безнаказанным, а в другом — за него приговаривают к тюрьме; да и в зависимости от того, был ли атакующий в своем уме или нет. Идет ли речь тогда о наказуемости нападающего, которая оправдывает самооборону, или о наказуемости лица, подвергшегося нападению? И если последнее, как может тогда душевное состояние нападавшего решать вопрос безнаказанности и наказуемости, несмотря на то что его состояние ни много ни мало угрожает положению лица, подвергшегося нападению? По-видимому, сама квалификация нападения как «противозаконного» при определении необходимой обороны в нашем уголовном законодательстве и вводит в заблуждение оппонента. Но если не ограничивать подчиненных норме лиц только кругом вменяемых, то нападение сумасшедшего останется противозаконным. Впрочем, по моему мнению, в качестве предпосылки самообороны было бы достаточно и того, чтобы само нападение не было законным. А законным, т. е. полностью оправданным, точно не является нападение безумца — так же как и нападение животного. За предоставленную здесь точку зрения высказывается также ф. Бар (A. a.O. S. 44).
6. Я имею в виду те случаи, когда норма на самом деле нарушена, а защищаемый ею интерес пострадал. Вместе с тем я предполагаю, что правонарушение было совершено без всякой вины или, чтобы сразу полностью исключить вопрос о возможности наличия вины, что оно было совершено невменяемым лицом. Те, кто вслед за Меркелем и Биндингом распространяют действие установленных законодательством императивов только на лиц, осознающих свои действия, должны сделать логичный вывод: невменяемого человека действие нормы не связывает, следовательно, норма не была нарушена и никакие «правовые последствия» правонарушения, соответственно, наступить не могут. Нарушение защищенного законом интереса — нежелательное и прискорбное для общества событие, но запрещенным оно в данном случае не является. Каждому дозволено предпринимать меры, чтобы защититься от нарушения своих прав неделиктоспособным лицом так же, как он защищается от ветра и непогоды, амбарных мышей и прочих неприятностей. Если эти меры кем-либо не были приняты, что ж, в таком случае он может и пострадать. Правопорядок нарушен не был, а следовательно, и помогать ему не должен. Меркель последовательно подводит именно к этому выводу. По его мнению, действия умалишенного <37> — явление того же порядка, что и природные катаклизмы. Пусть каждый защищается от них, как хочет и как может, — правопорядок берет на себя защиту только от рациональных, сознательно виновных действий. ——————————— <37> К которому Меркель справедливо приравнивает и вменяемого невиновного правонарушителя.
Я уже высказывал свое согласие с той точкой зрения, что в случае наличия угрозы для чьих-либо защищенных законом благ их обладателю не воспрещается защищать их собственными силами и что в сущности безразлично <38>, исходит ли угроза от неодушевленных предметов и явлений или же от действий живых существ, будь то зверь или человек, умалишенный ли, причиняющий ли вред невиновно или же осознающий противоправность своих действий. Однако все меняется, если речь идет уже не о защите. Если фактические действия носят уже другой характер, пусть и в нарушение правовых норм, то вопрос о том, от чьих действий исходила угроза, приобретает первостепенное значение. Если волк утащил моего ягненка, я могу предпринять любые действия, которые сочту нужными. Мне дозволено любое насилие и коварство, я могу и вернуть украденное, и как следует отыграться на похитителе. Закон не оправдывает мои действия, однако и не запрещает их. Совсем другое дело, если причиной выбытия из состава моей собственности имущества стал человек, пусть и без всякой вины с его стороны <39>. Применять самопомощь против него запрещено — запрещено вне зависимости от того, действовало ли лицо, неправомерно обладающее моей вещью, умышленно, было ли оно от начала до конца невиновным или же, утратив рассудок, вообще неспособно воспринять «разъяснение» (Aufklarung) в том смысле, в каком этот термин употребляет Хельшнер. Человек, охваченный безумием, по-прежнему остается человеком. Как и каждый вышедший на свет из чрева женщины, он является членом государственного сообщества, и правопорядок защищает его наравне со всеми. Против него у меня связаны руки. Применить против него насилие я не могу под угрозой уголовного наказания. К правопорядку может взывать тот, у кого есть правопритязание к ближнему его. Разве справедливо, что мне не предоставляется судебная защита, более того, что она в принципе не может быть мне предоставлена, поскольку отсутствует такая ее предпосылка, как вменяемость правонарушителя? Против дикого зверя я имею право применить силу; против умалишенного я не могу этого сделать, однако и в помощи со стороны государственных институтов, которая служит заменой самопомощи и существование которой оправдывает запрет последней, разве должно быть мне отказано? ——————————— <38> Безразлично для права на самозащиту как такового, а не для определения его пределов и способов осуществления. <39> Чтобы исключить возражение, вытекающее из I. 1 § 3 de adq. v. a. p. 41, 2 («furiosus — non potest incipere possidere»), я беру пример, в котором лишение имущества было вызвано действиями полностью дееспособного лица, которое пребывало в исключающем вину заблуждении, однако потом, до того как ему разъяснили его ошибку, стало невменяемым.
Совершенно определенно, однако, можно привести по крайней мере одно подтверждение того, что правовые нормы действуют и в отношении невменяемого лица. Это следует из несомненного и никем не оспариваемого факта: правопорядку известны случаи, когда такое лицо может нести обязательства. Эти обязательства могут возникать самыми различными способами — в том числе безо всяких обязательств, появление которых предшествовало утрате дееспособности. К примеру, если некто, будучи в здравом уме, взял заем, срок платежа по которому должен наступить через год, и до истечения этого срока лишился рассудка, он ни секунды не был никому должен. Однако сразу после того, как он взял заем, в отношении его стала действовать норма «Ты должен исполнить обещанное и по прошествии года вернуть сумму займа». Сама по себе эта норма в силу ее содержания могла бы быть нарушена только со дня наступления срока платежа, и только с этого момента мог бы встать вопрос о задолженности. Наличие обязательства признается здесь безо всякой задолженности, даже безо всякой возможности для такого обязательства повлечь за собой задолженность. И если станут указывать на то, что обязанное лицо само приняло на себя обязательство, то можно переиграть эту ситуацию следующим образом. Возьмем недееспособное лицо, которое безо всякого с ним предварительного согласования стало наследником своего отца и в силу этого приняло на себя его обязательство, срок исполнения по которому наступил позднее. Или же, наконец, возьмем те случаи, когда обязательство возникает непосредственно в отношении умалишенного <40>. Без сомнения, здесь имеет место обязательство (Verpflichtung) безо всякой задолженности (Verschuldung). Однако когда правопорядок объявляет лицо обязанным, что это может значить, как не то, что в отношении этого лица вступает в силу предписание или запрет? Возможно, в этом заключено и нечто большее. Возможно, в таком случае подразумевается и обещание правопорядка оказать помощь в том случае, если императив не будет соблюден, а вместе с тем и предоставление правопритязания (Anspruch) — пусть этот вопрос пока остается открытым. Однако норма, формулировка «Ты должен» («du sollst») или «Ты не можешь» («du sollst nicht») лежит в основе каждого обязательства. ——————————— <40> I. 46 de O. et. A. 44, 7: «Furiousus et pupillus, ubi ex re actio venit, obligantur» — I. 10. 11 de op. novi n. 39, 1.
Весьма поучительно то, как чувство справедливого прокладывает себе дорогу и там, где изначально исходным является прямо обратный принцип. Как и Меркель, Биндинг утверждает <41>, что правовые запреты и предписания адресуются только тем, кто в состоянии их исполнить; что закон не связывает «тех, кто даже в случае совершения определенных действий <42> остается недееспособным». Вслед за этим Биндинг вполне логично поучает, что «даже случайность не влечет за собой возникновение обязательства. Обязанность по возвращению собственнику вещи возникает тогда, когда действующий безо всякого умысла правонарушитель становится виновным, и в отношении такого лица может быть вынесен приговор <43> о возложении на него реституционной обязанности». Тем не менее Биндинг, в противоречие Меркелю, искусно проводя разграничение наказания и (так называемого им) возмещения вреда (Schadenersatz) обоих последствий правонарушения, непринужденно замечает: «Невиновность с необходимостью исключает наказание, однако не обязательство по возмещению вреда… обязательство по возмещению вреда нельзя считать коренящимся в виновном деянии, поскольку в противном случае оно исчезало бы при отпадении вины и не могло бы возникнуть в ее отсутствие» <44>. Тем самым и Биндинг признает существование таких обязательств, которые возникают до появления задолженности, и таких норм, которые обращены к еще не имеющему долга лицу. Противоречие еще сильней явствует из выводов, содержащихся во втором томе. Все с той же решительностью Биндинг здесь утверждает: «Быть связанными нормами могут… только те лица, которые способны адекватно выстраивать свое поведение. Неспособные к этому закону не подвластны» (Normen. II. S. 54). Из этого должно бы было следовать, что недееспособные в правовом смысле не способны нести обязанности в принципе. Ведь «правовая обязанность человека вести себя определенным образом значит для него не что иное, как подчинение его действий, чужой воле, а именно воле закона» и «посредством каждого запрета или предписания право понуждает человека к ограничению его воли» (Normen. I. S. 32). Ни одна норма, а следовательно, и ни одна правовая обязанность не могут распространяться на ребенка и на недееспособного. Но несмотря на это прямо перед этим делается следующее утверждение: «Ничто не мешает… в сущности рассматривать не только недееспособных лиц, но и не-людей в качестве субъектов права, способных нести обязанности» (Normen. II. S. 48). В том, что касается возможности быть субъектом права, возразить нечего, однако совсем другое дело утверждение Биндинга о недееспособных субъектах, обладающих способностью нести обязанности. Как обязательство может возникнуть иначе, как посредством правового императива? И как оно может быть возложено на недееспособного, если на него не распространяется действие норм? <44а> Полагаю, очевидно, что это последнее утверждение несостоятельно и что несомненный, признаваемый также и Биндингом факт способности недееспособных лиц нести обязанности со всей убедительностью доказывает, что и в отношении таких лиц правовые нормы действуют ничуть не в меньшей степени, чем в отношении всех остальных. ——————————— <41> Ibid. I. S. 135, 136, 141. <42> Биндинг видит причинение ущерба действием также в случаях неисполнения должного. Объясняется это тем, что должник «своими активными действиями нарушает запрет — non laede (не навреди)!» (S. 146). Ср. гл. I (сн. 101). <43> Поскольку Биндинг признает (S. 136) иски и против невиновного лица (до того, как у него возникнет соответствующее обязательство) тогда и только в той мере, в какой посредством приговора на него может быть возложен долг. Я вернусь к этому противоречию в сн. 52. <44> Ibid. S. 168. Выходит, что даже bonae fidei possesor «обязан к полному возмещению вреда», в то время как на с. 141 утверждению, что обязательство возникает до вынесения приговора и превращения bona fides в mala fides, был противопоставлен самый решительный контраргумент! <44а> Можно было бы предположить, что норма действует в отношении не самого недееспособного лица, а его законного представителя. Обязанным становится не опекаемый, а только опекун — даже если обязанность последнего сводится к осуществлению каких-либо действий за лицо, находящееся на его попечении, например выплате определенных сумм за его счет. Несостоятельность подобной конструкции демонстрируется далее; даже Биндинг придерживается иного мнения. Он говорит (II. S. 49) о том, что дееспособность «может быть «позаимствована» у ее обладателя, чтобы сообщить недееспособному лицу права и осуществить его обязанности». И в другом месте (II. S. 52) он делит обязанности «на две группы: одними устанавливается, что обязанное лицо должно произвести действие само, или в случае если оно не в состоянии сделать это само, за него это действие должно произвести дееспособное необязанное лицо».
7. Если нормы права ставят задачу защитить интересы человека как от виновного, так и от невиновного посягательства, то на соблюдение невменяемым правовых императивов правопорядку едва ли стоит рассчитывать. По отношению к нему установление предписаний и запретов будет наименее эффективным средством. Если что-то и может помочь, то только прикрепление к правонарушению практических последствий — если мы хотим, чтобы защита интересов была не просто иллюзорной. Из двух больших групп возможных последствий правонарушения одна — та, которая нацелена на наказание, полностью исключена. Здесь может рассматриваться только компенсация (Ausgleichung), а именно ее основная ипостась — принуждение к исполнению (Erfullungszwang). Следует сразу возразить на возможные сомнения. Существует учение <45>, что любое принуждение, в том числе и принуждение к исполнению, направлено против воли правонарушителя. Ей противодействует и Erfullungszwang, ведь цель любого правового принуждения состоит в устранении противоречий между волей индивида и волей сообщества. Если бы так все и обстояло, то принудить к исполнению невменяемое лицо, так же как и наказать его, было бы невозможно. Нет смысла в том, чтобы пытаться повлиять на волю того, кому сам правопорядок отказывает в способности обладать ею. Уже это положение не выдерживает критики. Известные проявления нашей правовой действительности находятся с ним в неразрешимом противоречии. Если бы целью правопорядка было сломить непокорную волю, было бы странным, что он дозволяет кредитору принимать исполнение от третьего лица, в то время как противная правопорядку воля должника остается непоколебимой. Также было бы неясно, почему правопритязание отпадает в случае, если управомоченное лицо каким-либо иным образом получило причитающееся или вовсе утратило необходимый интерес в исполнении <46>. Бессмысленным был бы и институт экзекуции. Единственно применимыми были бы средства принуждения, направленные на слом воли приговоренного, такие, как угроза денежных штрафов и арест. Они должны бы были не применяться в качестве дополнительных мер там, где достичь положения вещей, на установление которого направлен императив, можно только и исключительно посредством воли обязанного лица, а использоваться повсюду и повсеместно. К чему виндицировать у нарушителя вещь истца, к чему арестовывать имущество и удовлетворять требования кредитора из выручки, полученной от его продажи на торгах, к чему вообще подменять собственное признание и прочие действия обязанного лица судебным постановлением <47> или действиями третьих лиц, если все это не поможет сокрушить волю должника духовно? Все это подтверждает, что принуждение к исполнению преследует цель, отличную от победы над мятежной волей. Норма — это не шляпа Гесслера, водруженная на шест с единственной целью — испытать покорность подданных. Предписания и запреты направлены на охрану или поддержку совокупности интересов, которые признаются достойными защиты. Если их попытки в этом направлении оказываются тщетными, во имя защиты тех же самых интересов применяется принуждение к исполнению. Оно не преследует никаких иных целей, кроме тех, на которые направлена сама нарушенная норма, — достижение такого положения вещей, привести к которому были призваны предписание либо запрет. Неисполнение нормы является лишь поводом для применения более сильных мер. Было бы в корне неверно полагать, что целью правопорядка является повиновение как таковое. Как норма, так и следование норме являются лишь средствами — целью является достижение такого положения вещей, которое наступает при соблюдении установленных этой нормой императивов. Но если цель принуждения к исполнению — охрана интереса, который должен был быть удовлетворен первоначальной нормой, а теперь подлежит защите от противящейся правопорядку воли нарушителя, то становится очевидным, что качество этой воли и само ее существование не имеют никакого значения. Если даже сопротивление не может помешать защите интереса, то простое нежелание не должно стать препятствием и подавно. В таком случае ничто не мешает взыскать и с невменяемого лица. Это относится по меньшей мере к тем случаям, когда действия обязанного лица не являются единственным средством для достижения желаемого положения вещей. Если же имеет место обратное <48>, никакое принуждение, естественно, применить не удастся. В любом случае подобное является, скорее, исключением. Кроме того, принуждение к исполнению в отношении недееспособных лиц применяется как в области публичного права <49>, так и в области права частного. Следует только оговориться, что и здесь исключены те средства, которые призваны оказывать давление на волю недееспособного лица (гл. I (сн. 98); ср. с примеч. 99, 120 и далее; верно у Loening, Vertragsbruch (1876), S. 531). Тот факт, что содействие, предоставляемое правопорядком, осуществляется не произвольно, а, насколько это возможно, в форме, которая применяется и в случае принуждения к исполнению дееспособных лиц, и в любом случае в форме, установленной законом, т. е. в виде правовой помощи, есть следствие признания умалишенных такими же людьми, обладающими правоспособностью. В силу этого признания произвольное вмешательство, самого ли управомоченного лица или соответствующих органов, является недопустимым. ——————————— <45> Merkel. A. a.O. S. 58, 59: «Если правонарушение во всех его проявлениях содержит в себе противоречие между двумя различными волями [т. е. волей индивида и волей сообщества], то правовое принуждение, целью которого является борьба с правонарушениями, во всех его формах должно в сущности стремиться к устранению этого противоречия». С этим соглашается Wahlberg в: v. Holtzendorff Handbuch des Strafrechts. II. S. 432, а прежде него и Haelschner (Gerichtssaal. XXI. S. 26). Даже Ihering, выступавший против того, чтобы считать волю определяющим фактором субъективного права, весьма энергично — даже, по моему мнению, чересчур энергично — находит (Schuldmoment. S. 6) правовые контрмеры необходимыми лишь постольку, поскольку интересам управомоченного лица противоречит «человеческая воля». <46> Hartmann. Die Obligation (1875). S. 54 fg. <47> См. ниже, сн. 54. <48> Как в случае с обязанностью дать свидетельские показания или принуждением к заключению брака. В первом случае представительство вполне естественно, во втором — полностью исключено (ср.: Civilprozessordnung. § 779). <49> Так, в соответствии с § 32 Имперского закона от 21 декабря 1871 г. касательно ограничений права собственности на недвижимое имущество в окрестностях крепостных сооружений устранение противоправных построек должно производиться силами полиции, — несомненно, также и в том случае, когда постройка эта была воздвигнута недееспособным лицом. Так, § 8 Инструкции к Имперскому закону от 7 апреля 1869 г. «О немедленном обратном перемещении людей и иных объектов обратно через границу», безусловно, распространяет свое действие и на умалишенных. Точно таким же образом недееспособные лица несут и налоговую обязанность.
8. Все чаще и чаще признается, что принуждение к исполнению направлено не на слом воли, а на защиту интереса. С этим соглашается Биндинг <50>, недавно к этому лагерю примкнул и Хельшнер <51>. Однако им обоим недостало смелости до конца провести логическую линию. Биндинг хоть и допускает иски к невиновным, но только потому, что посредством судебного решения на них может быть возложено обязательство — только с его вынесением они могут стать должниками <52>. Там, где нет возможности сделать их таковыми, любое правовое принуждение бессильно. Хельшнер вновь утверждает <53>: «Правонарушение и вместе с ним право на иск начинаются там, где исполнение правовых предписаний сознательно, пусть и невиновно, не является желаемым». Это невиновное правонарушение посредством судебного решения либо разъясняется нарушителю, либо превращается в виновное правонарушение. ——————————— <50> A. a.O. I. S. 168. <51> Gerichtssaal. XXVIII. S. 406, 407. <52> S. 135 — 141. Остается неясным, как Биндинг приходит к признанию права на иск до того, как наступило обязательство ответчика, т. е. правовое последствие правонарушения последнего. Точно так же неясно, как судья может обосновать своим решением еще не имеющуюся правовую обязанность. Обычно решение должно лишь выразить, что существует обязанность, которая уже была в момент подачи иска. <53> A. a.O. S. 404.
Односторонность подобного вывода, в соответствии с которым любое принуждение к исполнению возможно только при наличии решения суда, я лишний раз подчеркивать не стану. Однако я вынужден не согласиться с тем, что при вынесении решения наличие обязанности или оправданность принуждения к исполнению обосновываются возникшей с его вынесением задолженностью (Verschuldung). Этому умозаключению противоречит тот факт, что там, где этому благоприятствуют обстоятельства, судебное решение берет на себя и исполнение. Если ответчик признается обязанным к даче волеизъявления, то это изъявление подменяется собственно решением <54>. В тот самый момент, когда проигравшая сторона становится должником, решение уже исполнено. Для приведения его в исполнение, таким образом, не требуется дожидаться появления вины: последняя не является предпосылкой исполнения. ——————————— <54> Civilprocessordnung. § 779.
Прежде всего эта оспариваемая нами теория ставит нас в незавидное положение перед недееспособными ответчиками. Отсутствует какая бы то ни было возможность посредством разъяснения сделать невиновного должника виновным. Правда, предлагается выход из этой ситуации. Предпосылкой права на иск (Klagrecht) здесь якобы является «утверждение его законным представителем той точки зрения, что создавшееся противоправное положение вещей не противоречит праву» <55>. Иными словами, право на иск возникает в силу волеизъявления опекуна, судебное решение делает опекуна должником, и этот долг дает право вторгаться в имущественную сферу опекаемого <55а>. ——————————— <55> Haelschner. A. a.O. S. 403. <55а> Впрочем, было бы слишком узко, если бы принудительное исполнение против невменяемого лица устанавливалось только ради гарантированности имущественно-правовых интересов. Безусловно, все, что должно быть достигнуто посредством предписания или запрещено посредством запрета, должно также принуждать и невменяемого, если только принуждение должно состояться против вменяемого и в форме, которая не принимает во внимание собственно действие обязанного. Если, например, невменяемый обязан к даче какого-либо согласия (несогласия) — он, например, еще будучи в твердом рассудке отказал давать согласие своему ребенку вступать в брак, — то, поскольку здесь судебное решение заменяет выражение воли, соответственно, в отношении невменяемого, представленного своим опекуном, может быть принято судебное решение, в отношении его может быть также подан иск (см. также I. 30 § 5 — 7 de fideic. libertatibus 40, 5). Точно так же у меня не вызывает сомнений принятие судом решения о расторжении брака в бракоразводном процессе против виновного в измене ответчика, несмотря на то что он стал бы помешанным после произведенного им признания иска или после приведенного доказательства. Исходя из того, что развод должен соблюдать интересы сторон, я не вижу, как в таком случае этому может препятствовать помешательство ответчика. Время от времени по праву земель вследствие неизлечимого помешательства одного из супругов другой стороне передается даже законное право подать на развод (см. также I. 22 § 7 soluto matr. 24, 3).
Поражает прежде всего, что подопечный должен отвечать своим имуществом за вину своего представителя. На правовую максиму «dolus tutoris puero neque nocere neque prodesse debere» <56> здесь явно сослаться нельзя. Это означает, что подопечный не может ни выиграть, ни понести убытки из-за противоправного поведения его опекуна. Однако в чем здесь выигрыш? Если бы опекун вообще отказался от участия в процессе, то, по мнению оппонентов, в силу отсутствия задолженности никакое принуждение к исполнению не могло бы возникнуть. Ничто не сослужило бы подопечному лучшей службы, чем если бы опекун тем решительнее отказывался от участия в процессе, чем слабее выглядела позиция первого. Представитель фактически назначался бы не в интересах подопечного, а в интересах его противника. Его наличие было бы необходимо для того, чтобы сыграть роль посредника, благодаря которому стало бы возможным возложить на кого-нибудь долг, что в соответствии с оспариваемой теорией является необходимой предпосылкой правового принуждения. Правопорядок ставил бы его на это место, чтобы сделать его виновным, и затем возложить возникшее в силу этой вины обязательство по исполнению на подопечного. ——————————— <56> I. 3 quando ex facto 26, 9 — I. 3 § 1 de tributoria actione 14, 4.
9. Нашим источникам такого рода воззрение чуждо. Опекун всегда должен действовать в интересах опекаемого. Поэтому он должен добросовестно проследить, обоснованна ли заявленная претензия против его опекаемого. Если он находит, что это так, он должен удовлетворить требования уполномоченного лица без судебного процесса <57>. Но в противном случае он должен взять представительство опекаемого в процессе на себя <58>, а если его подопечный недееспособен, — полностью взять процесс в свои руки <59>. Если процесс окончится приговором (решением о взыскании) и если по новому праву actio iudicati и ее исполнение направлено против имущества опекаемого <60>, то это не означает, что только лишь обвинение самого опекуна делает возможным приведение в исполнение приговора, а значит, что решение суда в отношении опекуна не может предотвратить обязательного исполнения. Защита не навредила опекаемому, но и не принесла пользу. Это проявляется лучше всего, если мы сравним со случаем, когда опекаемый остается без защиты своих интересов. Последнее не встречается так просто в римском праве (согласно § 54, 55 Гражданского процессуального уложения такой случай вообще не может произойти). Когда нет опекуна, близким родственникам и другим лицам, находящимся в родстве с опекаемым, или просто другим приближенным к нему лицам адресуется вопрос, готовы ли они стать защитой для такого лица <61>. Если никого не находят, то и тогда лицо не остается без защиты. Разумеется, нельзя добиться решения суда против сумасшедшего <62>, поскольку он не может ни участвовать в процессе <63>, ни вообще предстать перед судом <64>. Сам сумасшедший рассматривается как неподсудное лицо, и в пользу его кредитора производится не только ввод во владение <65> (Einweisung in den Besitz), но и продажа имущества сумасшедшего <66>. Римское право тем самым признает обязательное исполнение в отношении невменяемого, не опосредованное виной третьего лица. ——————————— <57> I. 10 de administratione 26, 7. <58> I.30 eod.: «tutoris praecipuum est officium, ne indefensum pupillum reliquant» — c. 8 pr. § 4 C de periculo tutorum. <59> I. 1 § 2 de administratione 26, 7. <60> I. 2 pr. eod. — 1. 7 quando ex facto 26, 9 — 1. 4 § 1 de re iudicata 42, 1. <61> I. 5 pr. § 1 quibus ex causis in poss. 42, 4. <62> I. 9 re iudicata 42, 1. <63> I. 1 § 2 de administratione 26, 7. <64> I. 4 pr. de in ius vocando 2, 4. Ср. также: c. 2 pr. C. de annali exceptione 7, 40. <65> Но здесь нужно понимать только те иски, которые преследуют вещное требование (I. 6 § 16 quibus ex causis 42, 4). <66> I. 5 § 1 I. 7 § 9 — 11 eodem. Точно так же принудительное исполнение судебного решения производится против имущества не защищаемых в процессе юридических лиц (I. S quod cuiuscumque univesitetis 3, 4). Против не защищенных в процессе детей ввод во владение имуществом производился только в целях его сохранности (I. 3 pr. Quibus ex causis 42, 4 — I. 28 i. f. de rebus auctoritate 42, 5 — I. 15 § 29 de damno infecto 39, 2 Paul. S. R. V. 5b § 1) и по достижении половой зрелости лица продажи его имущества и получения из этого удовлетворения (I. 5 § 2. 3 quibus ex causis 42, 4 — I. 33 § 1 de rebus auctoritate 42, 5). Тем не менее кредитор наследственной массы мог добиваться более ранней продажи наследуемого имущества (I. 3 pr. Quibus ex causis 42, 4 — I. 6 pr. de rebus 42, 5).
10. Итак, мы пришли к следующим выводам. Предписания и запреты права обращены не только к здравомыслящим людям. Невменяемые в любом случае подчинены им. Поведение последних должно определяться как противоправное, едва лишь оно вступает в противоречие с императивами правопорядка. Последующие правовые последствия могут также связываться с этим противоправным поведением. Все правовые нормы, которые имеют своей целью наказание правонарушителя, в силу справедливости не действуют в отношении невменяемых лиц. Но, пожалуй, правовые последствия, направленные на исполнение <*>, наступают, поскольку требуемое может быть достигнуто посредством норм и без воли лиц, подчиненных норме. При этом условии нельзя принципиально отличить, образуют ли предписания или запреты, о принудительной реализации которых идет речь, содержание первичной нормы или только секундарной, вторичной, которая вытекает из нарушения первичной нормы. Каждому запрещено воровать, но вор должен возместить убытки. Возмещение же (это цель секундарной нормы) реализуется в принудительном порядке даже тогда, когда вор сам стал невменяемым или стал наследником невменяемого <67>. Конечно, принудительное исполнение не исключается, согласно вышеуказанному, если приказанное такой секундарной нормой может быть достигнуто только действием обязанного. Поэтому, например, в публично-правовом требовании об исполнении отказа от мести или в частноправовом требовании об обеспечении от дальнейших посягательств (cautio de non amplius turbando) нужно отказать, когда обязанный впал в сумасшествие <68>. ——————————— <*> Например, Erfullungszwang. — Примеч. пер. <67> I. 2 de conflict. furt. 13, 1: «Condictione ex causa furvita et furiosi et infants obligantur, cum heredetes necessarii exstiterunt, quamvis cum eis agi non posit». Само собой сказанное не исключает, что многие из этих вторичных (секундарных) норм имеют свою особенность, и обоснованная ей обязанность может закончиться, например, смертью обязанного лица. <68> К тому же клятвы и ручательства были бы бесполезны, поскольку и те и другие требуются для того, чтобы их принесение повлияло на будущие решения того, кто их дает.
От затронутого в конце вопроса трудно точно отделить другой — о том, вообще ли противоправный поступок невменяемого лица способен пробудить обусловленную правонарушением секундарную норму или это может сделать только виновное поведение вменяемого лица. На этот вопрос нельзя дать однозначного ответа. Прежде было бы необходимо проверять каждую отдельно взятую секундарную норму специально по ее предпосылкам. В общем можно только сказать, что связанные с противоправностью и направленные на возмещение вреда и обеспечение правовой безопасности (Sicherung) секундарные обязанности своей предпосылкой обычно имеют именно виновное нарушение, в особенности самая фундаментальная из обязанностей к возмещению вреда, которая направлена против нарушения чужой собственности и обусловливает исключительно виновное нарушение первичной нормы. Тезис «не ущерб, а вина обязывает к возмещению убытков» <69> на сегодняшний день имеет значение. Однако я не могу безоговорочно согласиться с этим тезисом. Пожалуй, я рассмотрел его как исторически необходимое звено развития, как реакцию против более грубого правового воззрения прежнего времени, которое не останавливалось и перед наложением наказания на невиновного <70>. Только сама эта реакция, на мой взгляд, зашла слишком далеко, и у меня вызывает сомнение, в самом ли деле соответствует приведенный тезис нашему сегодняшнему чувству справедливости <71>. И все же на этом месте я должен отказаться от попытки сформулировать предпосылки, при которых можно признать справедливой, по моему мнению, обязанность лица возместить даже невиновно причиненный ущерб. ——————————— <69> Ihering. Schuldmoment. S. 40. <70> Наказание должно было налагаться в отношении виновного и, следовательно, обязанность возместить тоже, которая у римлян считалась зачастую наказанием (см. гл. 1 (сн. 161)). Поэтому l. 60 de rei vind. 6, 1 гласит: «Quod infans vel furiosus possessor perdidit vel corrupit. Impunitum est»; 1. 61 i. f. de adm.: «Et per furorem alicuius accidit». <71> Само собой разумеется, что не при любом ущербе другого лица можно обязать лицо, причинившее вред, возместить его. Если на улице столкнулись два человека, было бы наивно полагать, что тому, чья собственность была повреждена, невозможно предоставить право требовать возмещения против другого лица, оставшегося неповрежденным. Но если бы в противном случае были бы такие последствия, что чудом спасшийся должен был бы в конце концов понести убытки, а пострадавший, наоборот, не потерпел бы ущерб, счастье первого превратилось бы в самом деле в его несчастье. В таком случае оба в целом являются виновниками ущерба. По-другому, на мой взгляд, обстоит дело в случае, когда пострадавший абсолютно невиновен, а причинивший ущерб невиновен только из-за того, что на момент происшествия был в невменяемом состоянии. Если в гостинице постоялец, измученный плохим сном, вскакивает во сне и, еще будучи в полном беспамятстве, разбивает посуду и зеркала; если на рынке ребенок с детским озорством бросает в выставленные горшки камни; если прохожий, упавший внезапно на улице в обморок, при этом падает в помещение с хрупкими предметами или, впав в помешательство, намеренно их разбивает, то, по моему мнению, ни окружающие, ни сами участники не будут сомневаться в обязанности возместить вред, которая лежит на невиновном правонарушителе. Я уверенно обращаюсь к мнению простых обывателей: кажется ли им справедливым и уместным, когда юрист в таких делах должен отклонить требование о возмещении вреда, хотя постоялец, прохожий и ребенок обладают достаточным имуществом, чтобы, самим не впав в нужду, покрыть причиненные убытки? Также мне кажутся непоследовательными другие правовые решения. Если причиной убытков оказались неживые предметы, то потерпевший может забрать их у владельца (I. 6.7 § 2; I. 9 § 1 — 3 de damno inf. 39, 2) — неважно, является ли он невменяемым или нет. Последнее также справедливо в отношении ответственности владельца, если убытки нанесло животное. В таких случаях невменяемый несет ответственность частью своего Vermogen, хотя нельзя говорить всерьез ни о его вине, ни тем более о вине неживой вещи или животного (I. 1 § 3 si quadrupes 9, 1 «…»; см. I. 1 § 11 и к этому Vangerow, Pandekten, § 689 (Anm.) и про «victum loci» у Беккера (Bekker. Aktionen. I. S. 194)). Таким образом, не является ни уместным, ни логичным то, что невменяемый освобождается от ответственности в случае вызванного его силой вреда. Также неудавшиеся попытки обосновать обязанность невменяемого возместить вред с точки зрения права (у Вангерова (Ibid., § 571 (Anm. 2)) являются по крайней мере показателем потребности в предписании такого вида.
Перевод с немецкого выполнен Е. И.Упоровым (Коллегия адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры»), А. О.Ковригой (Юридическая фирма «Падва, Хэслам-Джонс и партнеры»)
(Продолжение см. «Вестник гражданского права», 2012, N 3)
——————————————————————