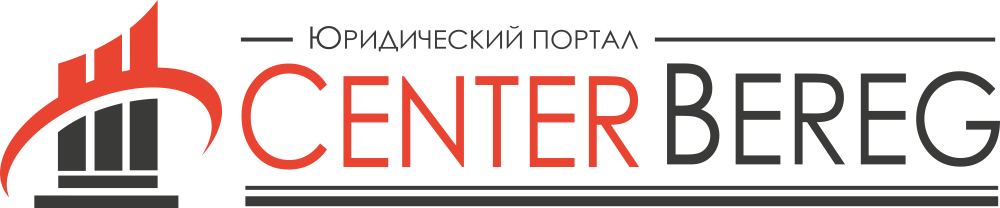Принцип добросовестности в ГК РФ и сравнительное правоведение
(Ширвиндт А. М.) («Статут», 2014)
ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В ГК РФ И СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ <1>
А. М. ШИРВИНДТ
——————————— <1> Работа выполнена в Институте зарубежного и международного частного права имени Макса Планка в Гамбурге (Max-Planck-Institut fur auslandisches und internationales Privatrecht) в рамках стипендиальной программы Фонда имени Александра фон Гумбольдта (Bundeskanzler-Stipendium der Alexander von Humboldt-Stiftung). Некоторые из представленных ниже соображений были освещены 17 октября 2013 г. в докладе «Treuund Glauben in rechtsvergleichender Perspektive: auf der Suche nach einem tertium comparationis?» в рамках постоянно проходящего в Институте семинара «Aktuelle Stunde» (руководитель — Р. Циммерманн).
Ширвиндт А. М., канд. юрид. наук, магистр частного права, LL. M., ассистент кафедры гражданского права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, консультант Исследовательского центра частного права при Президенте РФ.
I. Введение
Одним из результатов проходящей сейчас реформы российского гражданского права стало прямое закрепление в ГК РФ общего принципа добросовестности — п. 3 и 4 ст. 1 гласят: «3. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. 4. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения» <1>. Этот шаг, сделанный отечественным законодателем после долгих колебаний <2>, инспирирован континентально-европейской традицией, которая восходит к античному римскому праву с его bona fides <3>. Таким образом, полноценное осмысление произошедшего возможно лишь с учетом зарубежного опыта <4>. ——————————— <1> Пункт 1 ст. 1 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». <2> Достаточно вспомнить дискуссию, разгоревшуюся уже при первой попытке введения в российское право принципа доброй совести и определяющую сегодняшний уровень осмысления данной проблематики нашими юристами: Новицкий И. Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права // Вестник гражданского права. 2006. N 1 (по изданию 1916 г.); Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998. С. 258 — 262 (по изданию 1917 г.). <3> Оценивая тогда еще проект реформы, немецкие эксперты отмечали, что «позитивация принципа [доброй совести. — А. Ш.] — важный шаг не только к теоретической, но также и к практической гармонизации русского права с континентально-европейскими правопорядками» (Sacker F. J., Mohr J., Aukhatov A. Zur geplanten Reform des Schuldrechts in der Russischen Federation aus der Sicht des deutschen Privatrechts // Zeitschrift fur vergleichende Rechtswissenschaft. 2009. Bd. 108. S. 398). Ср. лежащую в основе этих изменений Концепцию совершенствования общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации, которую подготовила рабочая группа, образованная Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства (Бюллетень нотариальной практики. 2009. N 3; http://www. privlaw. ru/files/ concep_11_2009.pdf): «…при рассмотрении споров в международных судах принципы права приобретают особое значение, поскольку нередко только ссылка на них позволяет суду вынести справедливое решение; в документах международного частного права принцип добросовестности сформулирован как наиболее общий принцип. Отсутствие же закрепленного в нашем законе в качестве основного начала гражданского права принципа добросовестности затрудняет вынесение решений в спорах с участием российских лиц». <4> Пристальным вниманием к некоторым иностранным правопорядкам отмечен и один из первых комментариев на эту тему, автор которого принадлежал к числу разработчиков обсуждаемых изменений: Егоров А. В. Принцип добросовестности в Гражданском кодексе РФ: первые шаги реформы // Legal Insight. 2013. N 2. С. 4 — 10.
Между тем применение сравнительно-правовой методологии при изучении принципа добросовестности, во-первых, обладает ограниченным эвристическим потенциалом, поскольку сулит новое знание главным образом о юридическом методе, а не о материальном праве, и, во-вторых, сталкивается с серьезными трудностями, обусловленными спецификой предмета, ускользающего от обращенного на него взгляда. Сконцентрировавшись на материально-правовых принципах и институтах, введенных в ту или иную правовую систему со ссылкой на добрую совесть, можно обнаружить, что к их числу относятся разнородные нормативные явления, набор которых варьируется от правопорядка к правопорядку, а их связь с доброй совестью в значительной мере случайна. С другой стороны, фокусируя свой взгляд на проблемах юридического метода, традиционно связываемых с принципом добросовестности, исследователь в какой-то момент замечает, что он то ли упустил из виду первоначальный предмет своего интереса, то ли с помощью удачно подобранной оптики рассеял бесплотный мираж. Добрая совесть неуловима и для национальной доктрины, но действительный масштаб обозначенных методологических проблем становится ясен лишь при попытках сравнения — как синхронного, так и диахронного. Как это обычно и бывает в компаративистике, обсуждение доброй совести вращается вокруг вопросов о том, является ли добрая совесть непременной принадлежностью любого права или же ее следует признать специфическим элементом некоторых исторических или современных правопорядков, не поддающимся к тому же переносу в не знакомые с ним правовые системы. Понятно, что наряду с радикальными решениями в пользу одной из крайностей обсуждаются и более дифференцированные концепции, обнаруживающие в национальных и исторических воплощениях доброй совести уникальное и всеобщее. Однако в основе горячих споров с четко обозначившимися и зачастую диаметрально противоположными позициями лежат — опять же в лучших компаративистских традициях — не столько несовпадения в оценке сравниваемых правопорядков, сколько различия в методологии и в понимании доброй совести, от которого отталкивается тот или иной исследователь. Так о чем же идет речь, когда говорят о доброй совести? Похоже, сегодня только такой вопрос, направленный не на саму добрую совесть, но на профессиональный юридический дискурс о ней, «внутриюридические разговоры о доброй совести», позволяет удержать предметные рамки темы, сосредоточившись на обзоре того поля правовых проблем, которое образовалось вокруг этого словосочетания <1>. ——————————— <1> Именно этим вопросом задаются авторы историко-критического комментария к § 242 ГГУ в попытке интегрировать распадающийся на глазах предмет исследования, сохранив, насколько возможно, его единство как в горизонтальной, так и в вертикальной перспективе (Duve T., Haferkamp H.-P. § 242. Leistung nach Treu und Glauben // Historisch-kritischer Kommentar zum BGB. Bd. II. Schuldrecht: Allgemeiner Teil. § 241 — 432. Tubingen: Mohr Siebeck, 2007. S. 279).
Абсолютное большинство разговоров о доброй совести сводится в самом общем виде к двум во многом перекликающимся, но все же не совпадающим темам: строгое право и справедливость, волевое и нормативное в договорном праве <1>. ——————————— <1> Ср.: Jaluzot B. La bonne foi dans les contrats. Etude comparative des droits francais, allemande et japonais. Paris: Dalloz, 2001. P. 537; Jauffret-Spinosi C. Teorie et pratique de la clause generale en droit francais et dans les autres systemes juridiques romanistes // General Clauses and Standards in European Contract Law. The Hague: Kluwer Law International, 2006. P. 33 — 34.
II. Строгое право и справедливость
1. Люди и ситуации их взаимодействия всегда уникальны, неповторимы. Право же, отвечающее за их интеграцию в общество, основано на принципе справедливости — «равным за равное», чем и отличается от других нормативных систем. Поэтому напряжение, существующее между требованием равной меры и объективными фактическими различиями, характерно для права как особого измерения социального порядка. Юридический метод уравнивает различное путем абстрагирования от уникального и сосредоточения на типичном, стремясь при этом учесть существенное и отказать во внимании незначительному. Такая работа может проводиться на разных уровнях абстракции: чем ближе юридическая форма подходит к конкретному случаю, тем более полно обстоятельства дела учитываются при его правовой оценке, но в то же время тем сложнее согласовать эту оценку с другими, обеспечить приложение равной меры к подобным случаям, и, наоборот, чем более высокого уровня обобщения достигает юрист, тем надежнее обеспечивается равенство меры, но тем больше риск, что равная мера будет приложена к случаям, различиям между которыми не должно быть отказано в правовом значении. Любая крайность чревата несправедливостью, а поиск сбалансированных решений — одна из главных задач всякого правопорядка. Но сколь бы тонкой и органичной ни была правовая система общества, она всегда будет оперировать формальным инструментарием, основанным на абстрагировании и типизации и соответственно игнорирующим множество аспектов социальной реальности. Этот неизбежный <1>, проистекающий из самой специфики права, из принципа справедливости зазор между системой признанных правовых форм и социальной реальностью дает о себе знать в ситуациях явного конфликта между позитивированной правовой формой и представлениями о должном. Такое происходит либо при неспособности общей абстрактной формы учесть бросающуюся в глаза специфику данного конкретного случая, либо при отставании процесса позитивации от юридически релевантных изменений социальной реальности <2>. ——————————— <1> См.: Esser J. Wandlungen von Billigkeit und Billigkeitsrechtsprechung im modernen Privatrecht // Summum ius summainiuria. Tubingen: Mohr Siebeck, 1963. S. 23: «Eine echte und nie voll losbare Antinomie»; Broggini G. L’Abus de droit et le principe de la bonne foi: aspects historiques et comparatifs // Abus de droit et bonne foi. Fribourg: Editions Universitaires, 1994. P. 21: «Il n’y a pas de ius sans aequitas…» <2> Европейская традиция различения и объяснения этих явлений, идущая от Аристотеля (Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Соч.: В 4 т. М.: Мысль, 1983. 1137a, 31 и далее; Аристотель. Риторика // Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. Минск: Литература, 1998. 1374a, 27 и далее), тесно связана с научной дискуссией о принципе доброй совести (см., например: Lando O. Good Faith in the Legal Systems of the European Union and in the Principles of European Contract Law // Aequitas and Equity: Equity in Civil Law and Mixed Jurisdictions. Jerusalem: The Harry and Michael Sacher Institute for Legislative Research and Comparative Law; The Hebrew University of Jerusalem, 1997. P. 332; Whittaker S., Zimmermann R. Coming to Terms with Good Faith // Good Faith in European Contract Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 677, 697; Zimmermann R. Good Faith and Equity in Modern Roman-Dutch Contract Law // Aequitas and Equity. P. 519). О рассматриваемых здесь проблемах соотношения строгого права и справедливости и их конкретных исторических и национальных проявлениях см.: Дождев Д. В. Понятие справедливости в римской правовой традиции // Журнал Московской Патриархии. 2011. N 11; Biscardi A. On Aequitas and Epieikeia // Aequitas and Equity; Esser J. Op. cit.
2. Противостояние общей правовой формы и всегда уникального конкретного случая естественно для правового метода. Столь же естественны ситуации, когда это противостояние переходит в нормативную плоскость — когда конкретный случай требует справедливого решения, отличного от того, которое вытекает из общего правила. В этом конфликте ius strictum и aequitas, по определению свойственном любому праву, вновь проявляется все та же фундаментальная проблема юридического метода — требования равной, т. е. общей, меры для подобных ситуаций социального взаимодействия, обращенного к фактически неповторимому и уникальному. Соответственно, строгое право и справедливость конкретного случая предстают двумя аспектами права, двумя чертами этой специфической нормативной системы, двумя преломлениями принципа «равным за равное»: требование равной меры, воплощенное в общих абстрактных формах позитивного права (ius strictum), звучит вновь, когда приложение этих форм к конкретному случаю нарушает принцип равенства, а этот случай не принимает прилагаемого к нему общего масштаба (aequitas) <1>. ——————————— <1> Ср. у А. Бискарди: «…in the history of human thought, the problem of equity has been inseparable from that of justice. Indeed, all the various meanings of the term «equity» have always oscillated between the two poles of the concept. By this we mean, on one side, equity understood as the essence of the law and, on the other, equity understood as the antithesis of positive law. This involves that a legal norm must always be applied so that the same treatment is guaranteed in two identical concrete cases. However, since it is unlikely that two identical cases can exist, equity must be attained by taking into account all the particular circumstances, both objective and subjective, of every concrete case. Equity is then synonymous with ideal justice, since when a legal norm is rigidly applied in such a way as not to correspond in a concrete case to the ideal of justice, it may give rise to considerable inequalities» (Biscardi A. Op. cit. P. 1).
Использование общих, абстрактных форм приносит справедливость конкретного случая в жертву гарантиям равенства: конечно, в число ситуаций социального взаимодействия, охваченных в общем виде правовой формой, могут попасть и такие, которые не следовало бы уравнивать с остальными, но зато всеобщность формы дает уверенность, что она действительно будет приложена ко всем случаям такого типа, а это делает правовые оценки, в частности судебные решения, предсказуемыми и проверяемыми, обеспечивая действие принципа определенности, который, следовательно, свойствен праву и справедливости как требованию «равным за равное», а не противостоит им <1>. Отсюда следует и самоценность признанных юридических институтов (dura lex, sed lex): в уважении к ним проявляется подлинно правовой тип мышления, для которого верность форме — залог успешного выполнения правом своих социальных функций <2>. ——————————— <1> См., например: Бондарь Н. С. Правовая определенность — универсальный принцип конституционного нормоконтроля (практика Конституционного Суда РФ) // Конституционное и муниципальное право. 2011. N 10 (СПС «КонсультантПлюс»): «…требование определенности вытекает из самой природы правовой нормы как равного масштаба, равной меры свободы для всех субъектов права»; «…во всякой правовой норме имманентно присутствует некоторый уровень абстракции и соответственно неопределенности…»; Варламова Н. В. Принцип правовой определенности и требования к позитивному праву (по материалам практики Европейского суда по правам человека) // Российский ежегодник сравнительного права. 2007. N 1. СПб.: Юридическая книга, 2008. С. 57: «Логическим следствием общего действия законов является то, что законодательные формулировки не всегда точны»; Она же. Правотворчество как процесс позитивации права: содержание, формы, процедуры // Правовая политика и пути совершенствования правотворческой деятельности в Российской Федерации. М.: Изд-во РУДН, 2006 (http://www. centrlaw. ru/ publikacii/ page24/index. html): «Правовая определенность как неотъемлемая составляющая самого понятия права…»; Гаджиев Г. А. Принцип правовой определенности и роль судов в его обеспечении. Качество законов с российской точки зрения // Сравнительное конституционное обозрение. 2012. N 4 (СПС «КонсультантПлюс»): «Критерий определенности норм позитивного права как конституционное требование к качеству закона был впервые сформулирован в Постановлении Конституционного Суда РФ от 25 апреля 1995 года N 3-П по делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 54 Жилищного кодекса РСФСР в связи с жалобой Л. Н. Ситаловой… Тогда Конституционный Суд Российской Федерации, повторяя правовые позиции Федерального конституционного суда Германии, установил, что общеправовой критерий определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы вытекает из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом (ст. 19 Конституции РФ)»; Whittaker S., Zimmermann R. Coming to Terms with Good Faith. P. 690: «Legal formalism may seem to be a legal vice, inappropriate in a legal system come of age; but the legal certainty and respect for legal authority which it expresses (even if in an exaggerated form) are rather legal virtues, associated with the rule of law itself». <2> Behrends O. Struktur und Wert. Zum institutionellen und prinzipiellen Denken im geltenden Recht // Rechtsdogmatik und praktische Vernunft. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1990. S. 165 — 168, 170 et passim; Esser J. Op. cit. S. 25, 30 — 32, 35, 37.
Каждое общество, каждая правовая система так или иначе приводят в равновесие строгое право и справедливость конкретного случая. При этом разные эпохи, разные национальные традиции могут расходиться не только в определении удельного веса этих аспектов права, но и в способах, при помощи которых сохраняется равновесное состояние <1>. Более того, этот баланс может быть различным и в разных частях одного правопорядка: одни фрагменты социальной реальности легче поддаются формализации, в то время как другие настоятельно требуют более внимательного отношения к обстоятельствам каждого конкретного дела <2>. ——————————— <1> См. об этом подробно: Esser J. Op. cit. Ср.: Whittaker S., Zimmermann R. Coming to Terms with Good Faith. P. 678: «…if the legal rules are seen as generally good… there will be no need to correct or to supplement them. On the other hand, even in such a happy legal system, there remains a need for techniques (whether general or special, judicial or legislative) for dealing with cases where a (perfectly good) rule would cause particular injustice on the facts… each [of the legal systems in our study. — А. Ш.] possesses one or more techniques by which such a tempering of the stark legal position is achieved, even if it draws the line between certainty and «individuated justice» differently from the others»; 700. <2> См. об этом: Behrends O. Op. cit.; Esser J. Op. cit. S. 24, 26 — 28, 30, 36 — 37; Jolowicz H. E. Roman Foundations of Modern Law. Oxford: Clarendon Press, 1957. P. 59.
Вместе с тем, если представить себе два полярных идеальных типа — два правопорядка, в одном из которых напрочь игнорируется справедливость конкретного случая и позитивные правовые формы применяются автоматически и безоговорочно, а в другом, наоборот, каждый казус разрешается индивидуально, «с учетом всех обстоятельств дела», каждому казусу дается ему одному подходящая оценка, — при всех недостатках первой ситуации, пожалуй, только она может претендовать на предикат «правовая», так как только здесь сохраняет свое действительное значение принцип «равным за равное» <1>. ——————————— <1> Ср. по этому поводу у Й. Эссера: «Recht muss Recht bleiben» (Esser J. Op. cit. S. 23) и у Д. В. Дождева: «Здесь мы стоим перед принципиально разными пониманиями права и справедливости. Одно из них, научное, отождествляет справедливость с правом (подлинным правом), признавая невозможность (несправедливость) иной справедливости, кроме равной для всех. Другое — произвольное (в конечном счете всегда — властное) — наделяет справедливость ситуативным смыслом и противопоставляет ей право как бездушный порядок, черпая оправдание ненормативного и случайного усмотрения властей в уничижительном отношении к праву (правовом нигилизме). Если первое понимание становится знаменем либеральных учений и общественных движений, отстаивающих свободу индивида, то второе востребуется правоотрицающими деспотическими силами» (Дождев Д. В. Понятие справедливости в римской правовой традиции. С. 64 — 65).
3. Ius strictum и aequitas сталкиваются и там, где старое позитивное право вступает в конфликт с новыми социальными реалиями. Такую ситуацию можно описать как iuris iniquitas, или «несправедливость права» <1>. Этот оксюморон хорошо выражает суть проблемы: однажды найденная и застывшая в позитивных формах ius <2> справедливость сохраняет свою автономию и способна стать основанием для критики позитивного права, если оно не соответствует новому положению дел в обществе <3>. Формальное единство правового принципа предполагает многообразие его материальных проявлений в разные исторические эпохи <4> и не позволяет довольствоваться найденной когда-то справедливостью, делая ее поиск перманентной задачей общества, постоянно актуализирующейся применительно к новым обстоятельствам <5>. ——————————— <1> G. 3.25; 3.41. <2> Ср.: «Ius civile est aequitas constitute…» (Cicero. Topica 9). <3> Ср.: Esser J. Op. cit. S. 23 — 24. <4> Ср. у В. С. Нерсесянца: «Нормы jus aequum (в их противопоставлении к jus iniquum) как раз и представляют собой реализацию требований justitia (правды и справедливости), конкретно-определенное преломление и выражение принципа естественного права (и в то же время — права вообще) применительно к изменчивым обстоятельствам, потребностям и интересам реальной жизни данного народа в соответствующее время… Без соответствия справедливости право… дисквалифицируется как aequum jus и предстает уже как jus iniquum; таким образом, данное соответствие выступает как необходимый момент самого понятия права вообще» (История политических и правовых учений. Древний мир. М.: Наука, 1985. С. 302 (автор главы — В. С. Нерсесянц)). <5> Эта идея звучит в знаменитом определении: «Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi» (Ulpianus. D. 1.1.10 pr.), в котором вслед за Ф. Шульцем можно поставить акцент на слова constans et perpetua: право способно выполнять свою функцию только при наличии постоянной воли творить право (Schulz F. Prinzipien des romischen Rechts. Munchen; Leipzig: Duncker & Humblot, 1934. S. 58). Ср., например: Broggini G. Op. cit. P. 20 — 21 («Ни одна правовая система не должна питать иллюзий, будто она совершенна…»; историк не может не отметить «…постоянной трансформации, повседневной Wandlung человеческих реалий и ценностей, которыми люди эти реалии наделяют. Вечность трансформации означает не относительность правовых суждений, а лишь постоянную актуализацию методов и результатов»).
Историчность позитивного права оправдывает интерес к процессу его обновления: как и кто именно старое право заменяет новым? Как разрешается конфликт между унаследованными от прежних времен позитивно-правовыми формами и новыми представлениями о должном? Понятно, что и на эти вопросы разные эпохи и общества дают свои собственные ответы. Особую остроту они приобретают во времена крупных социальных потрясений и переломов в общественном развитии — экономических кризисов, войн, радикальных перемен в ценностных ориентирах. 4. Строгое право в его противопоставлении справедливости можно отождествлять с позитивным правом в тесном смысле — правом, установленным официальным субъектом правотворчества. Однако в действительности оппозицию справедливости в указанном выше значении составляет не столько закон в узком смысле, сколько вся система признанных обществом правовых форм. Наряду с институтами, зафиксированными в том или ином официальном источнике права, сюда относятся прежде всего доктрины, систематика, понятийный аппарат, выработанные юридической наукой, а также устоявшиеся подходы судебной практики. Понятие субъективного гражданского права, деление прав на абсолютные и относительные и т. п. вполне могут рассматриваться как элементы строгого права, подчас вступающие в конфликт с требованиями справедливости в конкретном деле. 5. В изложенной интерпретации различение строгого права и справедливости — внутренняя характеристика права. Строгость позитивного права выявляется, сглаживается и преодолевается правовыми средствами на основе правового принципа. Юридическая оппозиция «строгое право — справедливость» демонстрирует автономию и жизнеспособность права, находящего внутренние механизмы самоконтроля, регистрации исходящих от общества сигналов с последующим переводом их на свой особый формальный язык. Известен и иной взгляд, сужающий понятие права до позитивного права (закона) и соответственно рассматривающий любую критику в его адрес как исходящую извне. Справедливость как инструмент контроля за строгим правом оказывается при таком подходе синонимом нравственности, проводником идеологических установок власти, инструментом экономических или политических преобразований и т. д., а право, лишенное одного из своих естественных элементов, предстает несамостоятельной и вторичной, служебной нормативной системой, постоянно нуждающейся в проверке сквозь призму иных норм и ценностей более высокого порядка <1>. ——————————— <1> Ср. у Д. В. Дождева: «При такой трактовке добросовестность контрагентов по отношению к самому правовому принципу выступает дополнительным требованием, присутствие которого якобы говорит о том, что эта нормативная система не чужда нравственности, и правовая форма принимает известные содержательные ограничения, которые способны если не снять, то смягчить ее абстрактный уравнивающий характер: насколько правовая система отвечает этому внешнему требованию, настолько высока ценность сложившегося типа права, правовых форм и конструкций, настолько она приближается к идеалам добра и справедливости… Противопоставление строгого права и справедливости, в римской литературе особенно ярко выраженное у Цицерона, нередко сопровождается рассуждениями о доброй совести (bona fides) и злом умысле (dolus malus — Cic., de off. 3, 13, 54; 3, 15, 61). Такое аналитическое разделение правовой реальности, казалось бы, свидетельствует о том, что принцип добросовестности имеет принципиально отличное нормативное основание и противоречит ius civile как внешнее требование или критерий по отношению к правовому формализму» (Дождев Д. В. Добросовестность (bona fides) как правовой принцип // Политико-правовые ценности: история и современность. М.: Эдиториал УРСС, 2000. С. 97 — 98) (выделено мной. — А. Ш.). О корректности первого и ошибочности второго подхода, ведущего к произволу, говорит и Ф. Виакер: Wieacker F. Zur rechtstheoretischen Prazisierung des § 242 BGB // Idem. Kleine juristische Schriften: Eine Sammlung zivilrechuicher Beitrage aus den Jahren 1932 bis 1986. Gottingen: Schwartz, 1988. S. 44 («antinomische Elemente des Rechts selbst»).
6. В неустранимом напряжении между строгим правом и справедливостью проявляется обращенное к юристу требование постоянно переводить взгляд с найденной правовой формы на социальную реальность и поддерживать соответствие между ними. Этот аспект правового метода актуализирует вопросы о соотношении творческой и познавательной составляющих юридической деятельности, о формах бытования права и вообще нормативного в социальной реальности, о возможности и необходимости учета юристом результатов ее эмпирических исследований. 7. Конфликт между строгим правом и справедливостью обнаруживает себя в момент приложения известной правовой формы к конкретному случаю социального взаимодействия: право становится «строгим» и начинает озираться в поисках своей естественной, но обычно незаметной пары, когда обстоятельства дела сопротивляются предлагаемому формой порядку. Происходит это главным образом в суде, поэтому многие из отмеченных особенностей юридического метода часто обсуждаются в институциональной перспективе в рамках темы «судья и закон»: должен ли судья применять закон даже тогда, когда это приведет к несправедливости? Однако такая постановка вопроса, касающаяся в первую очередь действительного значения принципа разделения властей и его реализации на практике, не исчерпывает обозначенного проблемного поля, неоправданно выхватывая лишь его фрагмент. Констатация большей или меньшей свободы судьи от закона не должна отождествляться с выводом о свободе судейского усмотрения, понимаемой как право принимать решения на основе правового чувства, интуиции <1>, и еще ничего не говорит о месте судьи в парах «судья — судебная практика», «судья — правовая наука», «судья — общество», точнее, в сложной системе, включающей все эти элементы. Суду, не связанному ни законом, ни традициями правоприменения, ни доктриной, да еще и игнорирующему формы взаимодействия и нормативный порядок, установившиеся в данном обществе, едва ли удастся принять правовое решение, основанное на принципе «равным за равное» <2>. ——————————— <1> Наверное, интуиция играет первую роль при поиске справедливого решения, но на стадии его обоснования она должна покинуть сцену, чтобы принятый судом акт не стал актом произвола (о разном значении интуиции для совершения открытия и для его обоснования как общенаучной методологической проблеме, проявляющейся в праве, см.: Horak F. Rationes decidendi. Entscheidungsbegrundungen bei den alteren romischen Juristenbis Labeo. Innsbruck: Scientia, 1969. S. 9 — 64). <2> Ср. у Й. Эссера: «Справедливость конкретного случая (Billigkeit) легитимна лишь как разумное дополнение права, но не как свобода от него» (Esser J. Op. cit. S. 26).
Кроме того, судья — не единственная институциональная проекция указанных аспектов юридического метода. Так, в Древнем Риме борьбу с iuris iniquitates вел, в частности, претор, который сглаживал шероховатости ius civile своим эдиктом, состоявшим из общих предписаний, рассчитанных на неоднократное применение к соответствующим типичным ситуациям и предпосланных рассмотрению конкретных дел. В России и некоторых других странах коррекция права, закрепленного в законе, осуществляется при помощи абстрактных разъяснений высших судебных инстанций <1>. Хотя и в том, и в другом случае можно говорить о деятельности судебной власти, отличия этого абстрактного и перспективного нормотворчества от отправления правосудия, заключающегося в правовом разрешении конкретных споров, очевидны. Есть, конечно, и общее: судья, претор и высшая судебная инстанция, выпускающая абстрактные разъяснения, отвечают за применение закона при разрешении споров и в этом смысле осуществляют деятельность, качественно отличающуюся от установления абстрактных правил поведения, а потому уходят от прямого конфликта с законом и создают параллельный ему, дополнительный элемент правовой реальности. ——————————— <1> См. об этом: Правосудие для экономики: государственные арбитражные суды России: Кн. 1. М.: Право. Ru, 2011. С. 454 — 465 (автор главы — М. А. Ерохова). Автор пишет: «Представляется, что в настоящее время мы имеем право выделить постсоветскую правовую семью, стилистической особенностью которой является не только наличие двух высших судебных инстанций… но и право этих инстанций давать по собственной инициативе абстрактные разъяснения по толкованию законодательства, которые в ряде случаев являются обязательными и на которые фактически ориентируются все правоприменители» (Там же. С. 464).
III. Принцип добросовестности и юридический метод в сравнительно-правовой и исторической перспективах
1. Именно этим, самым общим, проблемам юридического метода посвящена основная часть разговоров о доброй совести <1>. Одну из центральных линий соответствующего профессионального дискурса задает «функциональная теория» <2>, связанная с программной работой Ф. Виакера 1956 г. «О теоретико-правовом уточнении § 242 ГГУ» <3>, который обобщил предшествующие попытки осмысления принципа доброй совести в немецком Гражданском кодексе и определил рамки дальнейшей дискуссии <4>. Поскольку основная проблема общих оговорок вроде § 242 касается отношения судьи к писаному праву, имеет смысл, воспользовавшись схемой, при помощи которой римские юристы описывали отношение преторского права к ius civile <5>, вести речь о трех функциях § 242, который действует iuris civilis iuvandi, supplendi или corrigendi gratia: со ссылкой на добрую совесть судья конкретизирует положение закона, дополняет, требуя от сторон соблюдения определенных этических стандартов при защите своих прав, или исправляет его <6>. Допустимые пределы и алгоритмы такого обращения с законом и должны составлять интерес юридической науки, стремящейся осмыслить легальный принцип доброй совести. Основания для такой постановки вопроса дает и формулировка, которую этот принцип получил в ГК РФ, прямо различающем законность и добросовестность (п. 4 ст. 1). ——————————— <1> В том числе и в России (ср. указанные работы А. В. Егорова, И. Б. Новицкого и И. А. Покровского). <2> Символично в этом смысле, что и обсуждение принципа добросовестности в ГК РФ открывается словами «начнем с функции» (Егоров А. В. Принцип добросовестности в Гражданском кодексе РФ: первые шаги реформы. С. 4). <3> Wieacker F. Op. cit. <4> Примерами приложения функциональной теории к разным правопорядкам могут служить: Chronique de jurisprudence. Les obligations: les sources (1985 — 1995) // Journal des tribunaux. 1996. Vol. 115. No. 5817. P. 701 — 704 (автор статьи — S. Stijns) (Бельгия); Grundmann S. The General Clause or Standard in EC Contract Law Directives — A Survey on Some Important Legal Measures and Aspects in EC Law // General Clauses and Standards in European Contract Law. The Hague: Kluwer Law International, 2006. P. 150 — 152 (EC); Hartkamp A. S. Judicial Discretion under the New Civil Code of the Netherlands // The American Journal of Comparative Law. 1992. Vol. 40. No. 3. P. 554 — 556 (Нидерланды); Merz H. Die Generalklausel von Treu und Glauben als Quelle der Rechtsschopfung // Zeitschrift fur Schweizerisches Recht. Revue de droit suisse. Rivista di diritto svizzero. 1961. Bd. 80 (102). S. 333 — 366 (Швейцария). Эта теория воспринимается как своего рода универсальный ключ к пониманию того, как принцип доброй совести «может работать в контексте определенного правового текста» (Schlechtriem P. Good Faith in German Law and in International Uniform Laws // Saggi, conferenze e seminari. 1997. Vol. 24. P. 8). Ср. также: Idem. The Functions of General Clauses, Exemplified by Regarding Germanic Laws and Dutch Law // General Clauses and Standards in European Contract Law. The Hague: Kluwer Law International, 2006. Схваченная функциональной теорией трихотомия моделей обращения с законом объявляется «общим достоянием европейских правопорядков» (European common core) (Hesselink M. W. De redelijkheid en billijkheid in het europese privaatrecht. Deventer: Kluwer, 1999). P. 441. Краткую историю и обзор основных вариантов функциональной теории см.: J. von Staudingers Kommentar zum Burgerlichen Gesetzbuchmit Einfuhrungsgesetz und Nebengesetzen. Zweites Buch. Recht der Schuldverhaltnisse. Einleitungzu § 241 ff.; § 241 — 243. Dreizehnte Bearbeitung. Berlin: Sellier/de Gruyter, 1995. S. 268 — 271 (автор комментария — J. Schmidt). В русскоязычной литературе о функциональной теории см.: Сорокина Е. А. Категория добросовестности (bona fides) в договорном праве Западной Европы. Саарбрюккен: LAP, 2011. С. 100 — 105. <5> Имеется в виду: Papinianus. D. 1.1.7.1: «Ius praetorium est, quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam». <6> Wieacker F. Op. cit. S. 53 — 54.
2. Тематика, оказывающаяся в центре внимания функциональной теории, несомненно, имеет первостепенное значение для понимания правил методически корректной работы судьи с законом. Однако в действительности речь идет о проблеме отношения судьи к писаному праву вообще, о правилах его толкования, применения по аналогии и т. п. Рассмотрение этих общих вопросов юридического метода ничего не говорит о положении закона, закрепляющем принцип добросовестности: подтверждение, дополнение, а то и вовсе исправление или устранение нормы закона могут осуществляться судом с использованием разных методов без обращения к оговорке о доброй совести <1>. Поэтому на поверхности лежит вывод, что «на самом деле тема «общие оговорки» заключает в себе… ни больше ни меньше как проблемы юридического метода вообще…» <2>. Оговорка о доброй совести оказывается настолько открытой «нормой», что теряет всякое содержание и отождествляется со справедливостью, aequitas в ее оппозиции к ius strictum <3>. При таком взгляде добрая совесть — даже не один из инструментов преодоления строгости закона, а всего лишь условное наименование для совокупности ключевых вопросов правовой методологии. Действительно, обладают ли конкретизация, дополнение или корректировка закона со ссылкой на принцип доброй совести какой-либо методической или содержательной спецификой по сравнению с аналогичными операциями, совершаемыми без обращения к этой категории? ——————————— <1> Schmidt J. Prazisierung des § 242 BGB — eine Daueraufgabe? // Rechtsdogmatik und praktische Vernunft. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1990. S. 232 — 233. <2> Bydlinski F. Moglichkeiten und Grenzen der Prazisierung aktueller Generatklauseln // Rechtsdogmatikund praktische Vernunft. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1990. S. 189. <3> Esser J. Op. cit. S. 28; Hesselink M. W. Op. cit. P. 443 — 445: «There is no difference between saying «good faith requires» and «justice requires» or «the law requires» (p. 445); Jaluzot B. Op. cit. P. 125, 237 — 238 (такое отождествление имеет место в Германии и Японии, но не во Франции). Примечательно, что с целью избежать терминологического смешения принципа добросовестности с добросовестным заблуждением законодатель Нидерландов в первом случае заменил «добрую совесть» парой синонимов — redelijkheid en billijkheid, относящихся к различным аспектам справедливости (Hartkamp A. S. Judicial Discretion under the New Civil Code of the Netherlands. P. 554 — 555).
3. Если исходить из положительного ответа на этот вопрос, то признаком действия «принципа добросовестности» в конкретном правопорядке следует считать реальную практику преодоления судами строгостей права со ссылкой на добрую совесть. Тогда современная история принципа добросовестности — это в основном история преобразования правопорядка Германии в XX в., которое осуществлялось судами со ссылкой на § 157 и 242 ГГУ, а также история распространения подобной практики в других правовых системах, проходившего под более или менее явным влиянием немецкого опыта. Получивший легальное закрепление еще в Гражданском кодексе французов 1804 г., роль мощного орудия в борьбе справедливости против строгого права принцип добросовестности начинает играть лишь в практике немецких судов вскоре после принятия ГГУ, вступившего в силу в 1900 г. Одной из основных причин головокружительной карьеры принципа добросовестности стали драматические события немецкой истории первой половины XX в. С § 157 и 242 ГГУ связано и отступление от принципа номинализма, показавшееся судам необходимым, когда инфляция марки достигла чудовищных масштабов, и введение актуального в военные и послевоенные годы правила о возможности пересмотра договора в изменившихся обстоятельствах, и множество частных корректировок правопорядка, позволявших проводить в жизнь установки национал-социалистического мировоззрения, т. е. прежде всего расовую теорию и принцип фюрера. Популярность принципа добросовестности и других аналогичных инструментов в нацистской Германии объясняется, помимо прочего, пренебрежительным и даже враждебным отношением к закону со стороны господствовавшей идеологии, которая всеми правдами и неправдами пыталась теоретически обосновать полную инструментализацию права, его подмену произволом и ставила над законом «право», бытующее в народе и лучше всего различимое фюрером <1>. В ходе строительства нового социального порядка после поражения Германии во Второй мировой войне принцип добросовестности стал средством наполнения немецкого гражданского права конституционными ценностями («отраженное действие основных прав») <2>. ——————————— <1> См. об этом прежде всего фундаментальное исследование: Ruthers B. Die unbegrenzte Auslegung. Zum Wandel der Privatrechtsordnung im Nationalsozialismus. 6. Aufl. Tubingen: Mohr Siebeck, 2005 (впервые издано в 1968 г.). <2> Таковы в самых общих чертах традиционные воззрения, которые подвергаются сегодня серьезной критике, основанной на новейших исследованиях. История принципа добросовестности — даже в таком узком его понимании — не написана. Анализ судебной практики XIX в. показывает, что кардинальное изменение позиции судов, которые через несколько лет после принятия ГГУ наконец оставили свою вековую приверженность строгому, зачастую слишком формальному применению закона и обратились к доброй совести, позволявшей более свободно обходиться с позитивным правом, — всего-навсего историографический миф. Подлинная роль принципа добросовестности в XIX в. не выяснена. Не реализован и проект, начатый еще в 1968 г. Б. Рютерсом: вопросы дискретности и преемственности в истории развития немецкой методологии в XX в., определение действительных объемов национал-социалистического наследия в современном техническом арсенале немецкой юриспруденции и, в частности, в представлениях о значении § 157 и 242 остаются сегодня на повестке дня (см. об этом: Duve T., Haferkamp H.-P. Op. cit. S. 296 — 298, 300 — 301 (автор главы — H.-P. Haferkamp); Ranieri F. Bonne foi et exercice du droit dans la tradition du civil law // Revue international de droit compare. 1998. No. 3. P. 1065 — 1066 (автор констатирует отсутствие специальных исследований, посвященных реальной судебной практике немецких судов в XIX в.)).
Продемонстрировавший свои возможности во времена крупных социальных потрясений и тектонических сдвигов в идеологии принцип добросовестности превратился в ходовой инструмент судебной практики и доктрины, с помощью которого немецкий правопорядок развивался и уточнялся, воспринимая новые, не известные закону институты и отторгая не прижившиеся концепции законодателя. Опыт Германии стал привлекать все более пристальное внимание других правовых систем, которые приступили — в разное время и каждая по-своему — к его восприятию <1>. Пробуждается принцип добросовестности и там, где закрепляющее его положение закона долгое время оставалось мертвой буквой, не имея практического значения <2>. Сегодня добрая совесть претендует на роль общеевропейского правового принципа <3>. ——————————— <1> О распространении «немецкой модели» в континентальной Европе — Швейцарии, Австрии, Голландии, Греции, Португалии, Испании, Эстонии — см.: Hartkamp A. Deutsche Einflusse auf das niederlandische Privatrecht // Archiv fur die civilistische Praxis. 2000. Bd. 200. S. 509; Ranieri F. Bonne foi et exercice du droit dans la tradition du civil law. P. 1073 — 1077; Idem. Treu und Glauben // Handworterbuch des Europaischen Privatrechts. Bd. II. Tubingen: Mohr Siebeck, 2009. S. 1498; в США, которые в свою очередь становятся примером для других правопорядков common law. Farnsworth E. A. Duties of Good Faith and Fair Dealing under the UNIDROIT Principles, Relevant International Conventions, and National Taws // Tulane Journal of International and Comparative Taw. 1995. No. 3. P. 51 — 52; Whitman J. Commercial Eaw and the American Volk: A Note on Elewellyn’s German Sources for the Uniform Commercial Code // The Yale Eaw Journal. 1987. Vol. 97. No. 1. P. 156 — 175. О все большей популярности доброй совести во многих правопорядках common law см. также: Yam Seng PTE Ltd v International Trade Corporation Ltd [2013] EWHC 111 (QB) [125 — 130] (здесь и далее используются публикации британских судебных решений на сайте http://www. bailii. org). <2> Об истории «открытия» принципа добросовестности во Франции в 1980-е гг. см.: Benabent A. Rapport francais // La bonne foi. Paris: Eitec, 1994. P. 291 — 293; Tallon D. Le concept de bonne foi en droit francais du contrat // Saggi, conferenze e seminari. 1994. Vol. 15. P. 3 — 5. О постепенном росте его популярности в Италии см.: Ranieri F. Bonne foi et exercice du droit dans la tradition du civil law. P. 1079 — 1081; Idem. Treu und Glauben. S. 1499. <3> См.: ст. 1:201 Принципов европейского договорного права (Principles of European Contract Law. Parts I and II / O. Lando, H. Beale (eds.). The Hague: Kluwer Law International, 2000. P. 113 — 119), III-1:103 проекта Общей системы координат (Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Full edition. Vol. I. Munich: sellier, 2009. P. 676 — 685). Ср. также п. 1 ст. 3 Директивы 93/13/EEC «О нечестных условиях в потребительских договорах». См. об этом: Ranieri F. Treu und Glauben. S. 1500 — 1501.
При таком подходе принцип добросовестности выглядит особенностью современного права с короткой историей и четкими географическими границами. Более того, даже в этих узких временных и пространственных пределах его значение настолько различно, что реалистичное отношение к действительности требует проведения еще и внутренних границ, которые отражали бы специфику отдельных национальных и исторических подходов к его использованию <1>. Этот вывод справедлив, если иметь в виду, что речь идет о практике преодоления строгости права со ссылкой на добрую совесть. Именно в этом смысле правомерно расхожее мнение, что изменением подходов Имперского суда Германии в начале XX в. или Кассационного суда Франции в конце того же столетия и постепенным распространением в судебных решениях ссыпок на Treu und Glauben и bonne foi открывается история принципа добросовестности в этих странах. Именно с этой точки зрения добрая совесть выглядит принципиально чуждой английскому праву. ——————————— <1> См., например, известную статью Г. Ю. Зонненбергера, который призывает более трезво отнестись к кажущемуся сближению немецкого и французского права в плане использования принципа добросовестности: частичные совпадения не должны затмевать существенных различий в национальных взглядах на его место и функции (Sonnenberger H. J. Treu und Glauben — ein supranationaler Grundsatz? Deutsch-franzosische Schwierigkeiten der Annaherung // Festschrift fur Walter Odersky zum 65. Geburtstag am 17. Juli 1996. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1996).
4. Картина заметно меняется, если признать ссылку на принцип добросовестности при преодолении строгостей права чисто стилистической чертой <1>, свойственной в той или иной мере разным правовым традициям и мало говорящей о методических и содержательных параметрах совершаемых под этой маркой операций. Наведение фокуса на универсальные и непреходящие проблемы юридического метода, которые ассоциируются с принципом доброй совести, открывает более широкие и более адекватные рассматриваемому материалу исторические и сравнительно-правовые перспективы. Предмет исследования консолидируется, обретая независимость от того, какой круг приемов или случаев их использования тот или иной правопорядок в конкретный исторический момент связывает с термином «добрая совесть». Уходит соответственно и зависимость от уровня и форм осмысления и оправдания реальных методических практик теоретиками эпохи <2>. ——————————— <1> Ср.: stylistic conventions to be followed in the proper drafting of a German judgment (Kotz H. Towards a European Civil Code: The Duty of Good Faith // The Law of Obligations. Essays in Celebration of John Fleming. Oxford: Clarendon Press, 1998. P. 250), lawyers’ juristic taste (Whittaker S., Zimmermann R. Coming to Terms with Good Faith. P. 687, 701) и the principle… added a special feature to the style of that system (Germany) (Lando O. Op. cit. P. 333). <2> Ср.: Duve Т., Haferkamp H.-P. Op. cit. S. 291 — 293 (автор раздела — T. Duve).
Вопрос, определяющий направление как диахронных, так и синхронных сравнений в этой области, в самом общем виде может звучать следующим образом: как различные правопорядки решают перечисленные выше проблемы юридического метода? <1> Поиски ответа приоткрывают картину, существенно отличающуюся от той, которая представлена выше, как в историческом, так и в географическом плане. Преемственность и единство методологической традиции могут быть обнаружены там, где «принцип добросовестности» проводит резкие вертикальные и горизонтальные границы <2>. Даже значение возводимого доброй совестью барьера между Англией и континентом оказывается во многом преувеличенным <3>. ——————————— <1> Ср., например, размышления швейцарских компаративистов, которые в поисках эквивалентов злоупотреблению правом в правопорядках, не знакомых с этим институтом, доходят до анализа их конституционных и политических систем, обращая внимание в том числе и на национальные модели поведения законодателя: Cottier B., Sychold M. Qu’en est-il de «l’abus de droit» dans les pays qui ignorent cette institution? // Abus de droit et bonne foi. Fribourg: Editions Universitaires, 1994. <2> Так, Ф. Раньери демонстрирует, что приемы европейских юристов ius commune, служившие преодолению строгости права и объединенные понятием exceptio doli generalis, открыто продолжают использоваться в Германии — в том числе и со ссылкой на § 242 ГГУ — и, на первый взгляд чуждые романским правопорядкам, отказывающимся корректировать строгое право с опорой на добрую совесть, имплицитно содержатся в решениях французских и итальянских юристов (см. статью, подводящую итог серии исследований: Ranieri F. Bonne foi et exercice du droit dans la tradition du civil law). К нему присоединяется и Дж. Броджини (Broggini G. Op. cit. P. 14 — 15). Ф. Раньери замечает, что смысл сравнительно-правового исследования в том и состоит, чтобы продемонстрировать, что одни и те же решения могут достигаться с помощью различных аргументативных моделей, которые не совпадают по форме, но функционально взаимозаменяемы. Среди них: возражение о злом умысле или злоупотребление правом, связанные с § 242 ГГУ, фиктивные или молчаливые манифестации воли, принципы естественного права, к которым отсылает § 7 Австрийского гражданского уложения, телеологическая редукция при толковании нормы закона (Ranieri F. Bonne foi et exercice du droit dans la tradition du civil law. P. 1058, 1081 — 1082, 1084 — 1085, 1090). <3> См., например: Broggini G. Op. cit. P. 19 — 20; Kotz H. Op. cit.
Однако эта широта взгляда, делающая возможным проведение длинных исторических параллелей и размывающая географические границы, не должна приводить к игнорированию различий между конкретными подходами к решению непреходящих и универсальных проблем юридического метода. Недостатки ius strictum могут сглаживаться столь разнообразными путями, что полноценное сравнение отдельных национальных и исторических решений будет неизбежно выливаться в сравнение юридических методов соответствующих правопорядков в целом. Функционально эквивалентными могут оказаться, например, аргументация, отталкивающаяся от представлений о естественном праве или справедливости, раздвоение судебной системы, конструирование статуса более или менее свободного судьи, предоставление возражения против злоупотребления правом, нормативное толкование. Более того, с этими и другими известными решениями конкурируют неформальные или даже не отрефлексированные механизмы <1>. ——————————— <1> Duve T., Haferkamp H.-P. Op. cit. S. 292 (автор раздела — T. Duve). Ср. также: Esser J. Op. cit. S. 37 (автор подчеркивает, что справедливость побеждает строгое право, по большей части потихоньку влияя на методы его толкования и развития, а не в открытых столкновениях).
Последнее замечание особенно актуально для России. Попытка раскрепощения судов с помощью фиксации принципа добросовестности в ГК РФ предпринимается в отсутствие даже приблизительного представления о нынешнем положении дел. Действительно ли мера формализма российского правоприменения выше должной? Каковы реальные пределы и методы преодоления отечественными судами строгостей права? Очевидно, что развернутые, основанные на эмпирических исследованиях и теоретическом осмыслении их результатов ответы на эти и подобные вопросы являются необходимым условием не только историко — и сравнительно-правовых исследований, имеющих в виду российский правопорядок, но и просто-напросто методически корректной работы с правом. 5. Если верно, что «добрая совесть» — лишь референтная точка для более или менее широкого круга общих проблем юридического метода и большей или меньшей части их разнообразных решений и даже в этой скромной роли знакома не всем правопорядкам, то исследование собственно принципа добросовестности должно быть посвящено вопросам вроде: с чем связана склонность некоторых правовых традиций и некоторых эпох сглаживать строгости права именно со ссылкой на добрую совесть? Как конкретный правопорядок выделяет среди всего множества случаев и форм такой методической работы те, которые маркируются «доброй совестью»? <1> В этом ряду и другой вопрос, актуальный сегодня в России: что означает для той или иной правовой системы «введение принципа добросовестности»? ——————————— <1> Ср.: Hesselink M. W. Op. cit. P. 445 — 446.
То, что место последнего вопроса именно здесь, иллюстрирует популярная мысль, отводящая легальной фиксации принципа доброй совести роль «приглашения или напоминания судам, чтобы они делали то, что они в любом случае делают и делали всегда, — конкретизировали, дополняли и исправляли право, т. е. развивали его в соответствии с выявленными нуждами своего времени» <1>. Это отношение между преодолением строгостей права как необходимым и вечным аспектом юридической методологии, с одной стороны, и словами закона, закрепляющими принцип добросовестности, как «приглашением» и «напоминанием» — с другой, и составляет предмет исследований, сосредоточенных строго на легальном принципе доброй совести, а не на общих проблемах правового метода, актуализирующихся при его обсуждении. Как показывает сопоставление опыта Франции и Германии, правопорядок может по-разному отреагировать на такого рода «приглашение»: если в первом случае развитие права без малого двести лет шло своим путем, игнорируя положение закона о добросовестном исполнении договоров, то во втором — близкий по содержанию параграф довольно быстро стал центром притяжения <2> для значительной части механизмов, опосредующих преобразование правовой системы. ——————————— <1> Whittaker S., Zimmermann R. Good Faith in European Contract Law: Surveying the Legal Landscape // Good Faith in European Contract Law. P. 32 (автор раздела — R. Zimmermann) (со ссылкой на цитировавшуюся работу М. В. Хесселинка). За ними следует А. В. Егоров (см.: Егоров А. В. Принцип добросовестности в Гражданском кодексе РФ: первые шаги реформы. С. 4). Констатируя, что суды Нидерландов и прежде вводили институты, сходные с теми, которые в Германии опирались на принцип доброй совести, О. Ландо отмечает, что принятие Гражданского кодекса, прямо закрепляющего добрую совесть в качестве общего принципа, «вероятно, вдохновит суды на разработку новых институтов» (Lando O. Op. cit. Р. 338). Ср. также: Broggini G. Op. cit. P. 21: «Не так важно, стали ли эти принципы текстом закона, как в ст. 2 Швейцарского гражданского уложения. Они имманентны системе». <2> И вероятно, не более того: ср. замечание Б. Рютерса, что «и без § 242 развитие судейского правотворчества в сфере частного права вряд ли сложилось бы иначе» (Ruthers B. Op. cit. S. 268).
Теперь подобное «напоминание» прозвучало и в России. Приведет ли это к реальному смещению баланса между строгим правом и справедливостью? И — каков бы ни был ответ на этот вопрос — станут ли и, если да, в каких случаях судьи и доктрина помечать свою творческую деятельность и ее плоды ярлыком «добрая совесть»? Какие из существующих методов и концепций переместятся в комментарии к соответствующим положениям закона? Наблюдение за реакцией отечественного права на эти слова законодателя в сравнении с опытом других стран сулит новое знание как о принципе добросовестности в этом узком его значении, так и о российской правовой системе. 6. Имея в виду различие между двумя указанными взглядами на добрую совесть: как на условное обозначение самого широкого круга проблем юридического метода, с одной стороны, и как на чисто стилистическую черту обоснования правовых решений, сводящуюся к простой ссылке на добрую совесть, — с другой, несложно заметить, что известную дискуссию о возможности и вероятных последствиях переноса (континентально-европейского) принципа добросовестности в английское common law <1> образуют не столько противостоящие друг другу непримиримые позиции, сколько разворачивающиеся каждый в своей плоскости разговоры о разном. Безусловно, английским юристам не свойственно апеллировать к доброй совести, когда речь заходит о творческой работе с правом. Однако это обстоятельство почти ничего не говорит о технике их работы и о ее особенностях по сравнению с методологией (точнее, методологиями), используемой на континенте <2>. ——————————— <1> Масла в огонь подливают попытки внедрить добрую совесть в английское право через общеевропейское законодательство. <2> Принципиальное сходство методов подчеркивают, например, авторы работ: Hesselink M. W. Op. cit. P. 448 — 449; Kotz H. Op. cit.
Если видеть в доброй совести определенную модель юридического метода — скажем, ту, которая реализована в Германии, — или связывать с ней определенный набор материально-правовых решений, концепций, принципов, то очевидно, что она не поддается механическому переносу из одной социальной среды в другую <1>. Если же признать, что «добрая совесть» — всего лишь слова закона, которые судья и ученый произносят, когда принимаются за правовое творчество, то «перенос» доброй совести выглядит мерой, с одной стороны, чисто косметической, а с другой — совершенно необязательной: к имеющемуся сходству между континентальной и английской методологиями она ничего не прибавит, а различия с ее помощью преодолеть все равно не получится <2>. Вместе с тем развитие права со ссылкой на добрую совесть все-таки придает юридическому методу определенный стиль (который и становится предметом интереса, обращенного к принципу добросовестности в узком смысле). Этим вполне может объясняться нежелание английских юристов перекраивать свою аргументацию на континентальный манер <3>. ——————————— <1> В этом смысле обоснованы выражаемые в литературе скепсис и опасения: Goode R. The Concept of «Good Faith» in English Law // Saggi, conferenze e seminari. 1992. Vol. 2; McKendrick E. Good Faith: A Matter of Principle? // Good Faith in Contract and Property. Oxford; Portland: Hart Publishing, 1999; Teubner G. Legal Irritants: Good Faith in British Law or How Unifying Law Ends Up in New Differences // Modern Law Review. 1998. Vol. 61. <2> Ср:. Hesselink M. W. Op. cit. P. 448 — 449; Whittaker S., Zimmermann R. Coming to Terms with Good Faith. P. 687: «…it could indeed be argued that there would be no substantive legal change were English or Scots law to accept a general principle of contractual good faith, as long as such principle were interpreted merely as providing a certain unity to those doctrines and rules which could… be said already to give effect to good faith»; see also p. 688. <3> Так, английская юриспруденция без особой теплоты относится к абстрактным общим принципам, предпочитая оперировать более конкретными понятиями и доктринами. Часто подчеркивают, что именно этим обусловлено недоверие англичан к доброй совести: McKendrick E. Op. cit. P. 44, 46 (a deep-seated distrust of general principles); Styles S. C. Good Faith: A Principled Matter // Good Faith in Contract and Property. Oxford; Portland: Hart Publishing, 1999. P. 160 — 161, 168. Ср. также: Interfoto Picture Library Ltd v Stiletto Visual Programmes Ltd [1987] EWCA Civ 6 [Bingham LJ]: «English law has, characteristically, committed itself to no such overriding principle but has developed piecemeal solutions in response to demonstrated problems of unfairness». Иногда, впрочем, отмечают, что неопределенные абстрактные категории известны и common law: Styles S. C. Op. cit. P. 173; Kotz H. Op. cit. P. 246 — 248, 252 («General propositions of this sort do not decide concrete cases, either in a civil-law system where such principles are codified, or in the common law where they are not. What they do achieve in both systems is that they help to organize legal thinking, to allow the formation of clusters of similar cases, to make the law manageable and findable, and to provide a language in which a meaningful discourse between lawyers can take place»).
IV. Принцип добросовестности и материальное право
1. Постоянное напряжение между строгим правом и справедливостью проявляется в том, что наряду с получившими официальное признание и застывшими формами социального взаимодействия существует пласт правопорядка, выполняющий критическую функцию по отношению к позитивному праву, стремящийся заменить его отжившие части и сглаживающий отдельные эксцессы формализма. Рождающееся здесь право со временем обретает четкие формы и завоевывает признание или, говоря иначе, позитивируется. Однако позитивированная справедливость, не успев освоиться на новом месте, слышит критику в свой адрес и замечает, что теперь она — ius strictum и в этом качестве нуждается в спутнике — aequitas <1>. Поскольку разговоры о доброй совести посвящены главным образом данному процессу нарождения нового права и исправления недостатков права, прошедшего позитивацию, у юриста зачастую формируются устойчивые ассоциации между принципом добросовестности и теми материально-правовыми явлениями, которые на его глазах стали частью позитивного права, одолев вчерашнее ius strictum. Собирая воедино победы, недавно одержанные справедливостью над строгим правом, профессиональная память создает основу для представлений, будто возникшие таким образом правила, институты, принципы проистекают из доброй совести, являются ее конкретными воплощениями. ——————————— <1> См. об этом: Esser J. Op. cit. S. 23 — 24. Ср. также: Ranieri F. Bonne foi et exercice du droit dans la tradition du civil law. P. 1091 — 1092.
Обманчивость этого впечатления очевидна, если иметь в виду описанную диалектику существования права. Справедливость корректирует ius strictum и превращается в его составляющую, когда оно в том или ином вопросе перестает отвечать ее требованиям. Постоянное точечное обновление права обеспечивает сохранение им качества ius aequum, т. е. позитивного права, соответствующего справедливости. На век одного юриста приходится лишь незначительное число громких случаев такого обновления, которые поэтому кажутся экстраординарными, бросаются в глаза и способны сбить с толку. Однако стоит сосредоточить внимание не на самих этих прорывах справедливости в область позитивного права, а на их исключительности, как все встает на свои места. Сейсмическая устойчивость остальных частей правовой системы обусловлена как раз тем, что они в настоящее время вполне отражают достигнутые обществом представления о справедливости. Метафорой для обновления ius strictum может служить поэтому не возникновение архипелага доброй совести в океане старого позитивного права, а, наоборот, затопление то и дело выступающих из-под воды островков несправедливости. Таким образом, материально-правовые институты качественно не делятся на те, которые вытекают из принципа добросовестности, и те, которым он чужд <1>. Временные ассоциативные связи с ним сохраняют отдельные нормативные явления, чье триумфальное вступление в позитивное право живо в памяти юристов. Естественно, набор таких явлений в разные эпохи и в разных правопорядках неодинаков. Институты, вовремя закрепленные кодексом одной страны, вынуждены преодолевать сопротивление позитивного права в другой, но, преуспев в этом, постепенно становятся его органической частью, растворяются в нем. Круг этих институтов во многом случаен: грубо говоря, если бы учению о предпосылке сделки (Lehre von der Voraussetzung) Б. Виндшейда <2> открыли дверь в немецкое право, предусмотрев соответствующие правила в ГГУ, оно не полезло бы впоследствии в окно и не стало бы рассматриваться как проявление принципа добросовестности. Более того, оно вполне могло довольствоваться форточкой невозможности исполнения, через которую и проникало в судебную практику на первых порах, и в этом случае также не пришло бы в соприкосновение с доброй совестью. В результате доктрина прошла весь путь позитивации: научная концепция, критикующая действующее право, была воспринята и неоднократно корректировалась судебной практикой и академическим сообществом и в конце концов попала в закон <3>. ——————————— <1> Ср.: Esser J. Op. cit. S. 28: «Говорить о справедливых правилах (Billigkeitsregeln) [характеризуя таким образом, в частности, право неосновательного обогащения или ведения чужих дел без поручения. — А. Ш.] можно только с точки зрения их происхождения, но не содержания норм» (в частности, в контексте § 242 ГГУ); Hesselink M. W. Op. cit. P. 447: «Good faith rules» have nothing more in common that distinguishes them from other rules than that the courts when adopting them have mentioned the general good faith clause as their legal basis. In particular, good faith rules are not more just or more equitable or more moral than other rules»; Jaluzot B. Op. cit. P. 539: «В действительности добрая совесть, не имеющая никакого объективно определимого содержания, может служить для обоснования любого правила договорного права и даже за пределами договорного права». Ср. у Д. В. Дождева по поводу соотношения ius civile и aequitas в Риме: «Если с формальной стороны гражданское право отличает его установленность (ius constitutum), то с содержательной — оно совпадает с aequitas» (Дождев Д. В. Римское частное право. М.: Норма, 2011. С. 44; см. также: Он же. Понятие справедливости в римской правовой традиции. С. 63). <2> Речь идет о проблематике, которой посвящена ст. 451 ГК РФ «Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств». <3> См. об этом соответственно: Meyer-Pritzl R. § 313 — 314. Stoning der Geschaftsgrundlage. Kundigung von Dauerschuldverhaltnissen aus wichtigem Grund // Historisch-kritischer Kommentar zum BGB. Bd. II. Schuldrecht: Allgemeiner Teil. § 241 — 432. Tubingen: Mohr Siebeck, 2007. S. 1708 — 1740. Ср. аналогичное наблюдение относительно culpa in contrahendo: Schlechtriem P. The Functions of General Clauses, Exemplified by Regarding Germanic Laws and Dutch Law. P. 44.
Набор материально-правовых явлений, рождающихся здесь и сейчас в диалоге между строгим правом и справедливостью, уникален, поскольку зависит от взаимодействия уникальной социальной реальности и уникального позитивного права, по определению не способного раз и навсегда в полной мере удовлетворить все ее запросы <1>. Кроме того, необходимо помнить, что даже там, где известен принцип добросовестности, словами «добрая совесть» маркируются далеко не все подобные институты. ——————————— <1> Ср.: Sonnenberger H. J. Op. cit. S. 721.
2. Изложенное означает, что если компаративное исследование ассоциирующихся с доброй совестью проблем юридического метода выливается в сравнение различных национальных и исторических методологий в целом, то аналогичная разработка материально-правовых вопросов, которые ассоциируются с принципом добросовестности, мало чем отличается от сравнительного правоведения в сфере частного права вообще. Самостоятельным предметом сравнительно-правовое исследование материальных продуктов доброй совести не обладает: одни и те же решения могут достигаться разными правопорядками посредством самого обыкновенного применения специальных норм закона, доктрин, сформировавшихся в судебной практике, либо через общий принцип добросовестности с его конкретизациями в виде правил, институтов, принципов или без таковых. Причем даже в последнем случае речь может идти о давно устоявшихся, позитивированных подходах, а не о столкновении строгого права и справедливости. Эту общеизвестную мысль <1> подтверждает и самый масштабный проект синхронного сравнительно-правового исследования доброй совести «Good Faith in European Contract Law», реализованный группой специалистов из разных стран под руководством С. Уиттакера и Р. Циммерманна <2>. Авторы использовали функциональный метод в его классическом варианте: представители нескольких правопорядков должны были решить предложенные казусы так, как это сделали бы их национальные суды; полученные таким образом результаты сопоставлялись, а выявленным сходствам и различиям давалась оценка. Особенностью исследования стало в принципе не свойственное функциональной методологии повышенное внимание к тому пути, который каждый из правопорядков проделывал от казуса к решению. В итоге выяснилось, что решения значительной части казусов в разных правопорядках совпадают, однако их обоснования заметно различаются и далеко не всегда оперируют категорией «добрая совесть», а если и вспоминают о ней, то зачастую в разных контекстах и с разными целями; одни и те же аргументы и институты используются как со ссылкой на добрую совесть, так и без нее <3>. ——————————— <1> См., например, применительно к Англии и континентальной Европе: Beatson J., Friedmann D. From «Classical» to Modern Contract Law // Good Faith and Fault in Contract Law. Oxford: Clarendon Press, 1995. P. 15 («…there were signs that the influence of other legal systems and the European environment were leading to a gradual recognition of the doctrine or at least to parallel solutions by other means»); Goode R. Op. cit. P. 9 («In many cases we arrive at the same answers as you but by a different route»); Kotz H. Op. cit. P. 250 — 251, passim; Lando O. Op. cit. P. 333, 336 — 337; McKendrick E. P. Op. cit. P. 41 («Many, if not most rules of English contract law, conform with the requirements of good faith and cases which are dealt with in other systems under the rubric of good faith and fair dealing are analysed and resolved in a different way by the English courts, but the outcome is very often the same»). Аналогичные выводы по итогам сопоставления правопорядков Германии и Франции см.: Oberacher H.-E. Wie lost das franzosische Recht die Falle des § 242 BGB? Munchen: Schubert, 1963. <2> Good Faith in European Contract Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. <3> См. резюме итогов исследования: Whittaker S., Zimmermann R. Coming to Terms with Good Faith. P. 653, 669 — 673, 675 — 684, 687,700. Ср. аналогичные наблюдения по поводу диахронных сравнений: Duve T., Haferkamp H.-P. Op. cit. S. 278.
Этот важный результат заставляет усомниться в корректности наименования проекта: действительно ли речь идет о доброй совести в европейском договорном праве? Указанная проблема обнаружилась, конечно, еще до начала исследования — на стадии отбора казусов, которые следовало предложить респондентам. Решена она была, пожалуй, единственным возможным способом: список казусов составлялся на основе типичных случаев применения принципа добросовестности; однако, поскольку в разных правопорядках они не совпадают (а в некоторых и вовсе отсутствуют), большинство из них было заимствовано из немецкого права, знаменитого широким распространением доброй совести <1>. Действительный предмет проведенного исследования хорошо описан самими авторами: «…то, как европейские правовые системы обходятся с казусами, которые, по мнению некоторых из них, дают повод для применения общего принципа добросовестности» <2> (выделено мной. — А. Ш.). Здесь виден предел эвристических возможностей, которые открываются перед компаративистом, интересующимся материально-правовым измерением доброй совести: как другие правопорядки разрешают казусы, которые в данном правопорядке требуют обращения к принципу доброй совести? <3> ——————————— <1> Whittaker S., Zimmermann R. Good Faith in European Contract Law: Surveying the Legal Landscape. P. 58 — 59. <2> Ibid. P. 15 — 16 (автор раздела — R. Zimmermann). <3> Пример такого исследования см.: Oberacher H.-E. Op. cit.
Видеть принцип добросовестности везде, где принимаемые решения совпадают, скажем, с результатами «применения» § 242 ГГУ, было бы явной ошибкой <1>, <2>. Наоборот, к различным решениям могут приходить правопорядку знакомые с принципом добросовестности <3>. Более того, ссылка на добрую совесть вполне в состоянии «обосновать» прямо противоположные решения <4>. ——————————— <1> Поэтому сложно согласиться с О. Ландо, который говорит о «скрытом применении принципа доброй совести» — the covert application of good faith, когда суды того или иного правопорядка без ссылки на добрую совесть приходят к тем результатам, которые в других странах связаны с этим принципом (Lando O. Op. cit. P. 344 — 346). <2> И наоборот, ср. у Х. Кетца: «Differences there may be between the German and the English rules on the subject, and iurther research may well lead to the result that in some areas, like cases will not always be decided alike in Germany and in England. But if such differences exist the explanation must surely lie elsewhere than in the presence in German law and the absence in English law of a broad good faith standard» (Kotz H. Op. cit. P. 250; see also p. 245). <3> Whittaker S., Zimmermann R. Coming to Terms with Good Faith. P. 687. Справедлива поэтому критика Г. Ю. Зонненбергера в адрес Федерального суда Германии, который, выставив тезис об имманентности принципа добросовестности всем правопорядкам, приходит к заключению, что универсален и вытекающий из него институт отпадения основания сделки при изменении обстоятельств (Sonnenberger H. J. Op. cit. S. 704 — 705). <4> Ср.: Fabre-Magnan M. Droit des obligations. 1. Contrat et engagement unilateral. 2e ed. Paris: PUF, 2010. P. 70 (то, что английское и американское право гораздо строже относится к соблюдению буквы договора, чем французский правопорядок, не означает, будто понятие доброй совести известно только последнему, — просто в Англии и США оно имеет иное содержание).
3. Наполнение доброй совести материально-правовым содержанием осуществляют в основном a posteriori, систематизируя накопленный опыт «применения» принципа доброй совести (Binnensystem des § 242) и распределяя разрешенные казусы по группам (Fallgruppen). Эта работа нацелена на создание более или менее четких ориентиров, которые направляли бы дальнейшую судебную практику, повышая ее предсказуемость и проверяемость. Вызревающие здесь правила, институты, принципы со временем обретают самостоятельность и покидают родные пенаты, утрачивая связь с доброй совестью <1>. ——————————— <1> См. об этом, например: J. von Staudingers Kommentar zum Burgerlichen Gesetzbuch. S. 258 — 259 (автор комментария — J. Schmidt); Whittaker S., Zimmermann R. Good Faith in European Contract Law: Surveying the Legal Landscape. P. 31 (автор раздела — R. Zimmermann).
Было замечено, однако, что накапливаемый таким образом материал в действительности не имеет никакого отношения к «принципу добросовестности», если не принимать в расчет в значительной мере случайные ссылки судов и ученых на закрепляющий его параграф закона. Решения рассматриваемых казусов являются результатом применения не принципа добросовестности, а не имеющих надежной опоры в законе специальных правил. Sedes materiae для такого рода правил — соответствующие разделы системы материального права (где в конечном счете и оседают формы, сделавшие свои первые шаги под рубрикой «добрая совесть») <1>. Это касается и принципов, пронизывающих весь правопорядок в целом или его отдельные части и нередко выдаваемых за конкретизацию общего принципа добросовестности <2>. ——————————— <1> J. von Staudingers Kommentar zum Burgerlichen Gesetzbuch. S. 291 — 293; 306 — 311 (автор комментария — J. Schmidt); Schmidt J. Op. cit. S. 232 — 233; см. также: Hesselink M. W. Op. cit. P. 445 — 447: «However, if the general good faith clause is not a rule, it does not make sense to say that a decision is based on it. In reality such a decision is based on the new rule» (p. 445). Ср.: Kotz H. Op. cit. P. 250: «Most cases, however, can be assigned to one of a number of well-defined rules which have all been developed by the courts under the umbrella of § 242, but which now lead a separate and independent existence so that, figuratively speaking, the statutory foundation of § 242 could be withdrawn without any risk of having the judge-made edifice collapse». О случайности набора материально-правовых идей, их разнородности и искусственности их соединения с § 242 ГГУ см. также: Jaluzot B. Op. cit. P. 125, 237 et passim. <2> Когда Р. Циммерманн называет § 242 ГГУ референтной точкой для общих принципов договорного права, которую было бы целесообразно сохранить, учитывая отсутствие подходящих разделов системы (Whittaker S., Zimmermann R. Good Faith in European Contract Law: Surveying the Legal Landscape. P. 32 (автор раздела — R. Zimmermann)), речь идет по большому счету лишь об удобстве организации материала в комментариях, поскольку сам статус «общий принцип договорного права» четко указывает на место в системе.
4. Ощущение, что добрая совесть обладает более или менее определенным материально-правовым содержанием, усиливается из-за существования областей, связи которых с этим принципом отличаются относительной исторической устойчивостью и наблюдаются в разных правопорядках. Классические примеры — преддоговорные отношения и влияние на договор существенно изменившихся обстоятельств <1>. Сравнительно-правовое исследование, разумеется, не вправе закрывать глаза на такого рода закономерности. Однако их объяснение, по всей видимости, следует искать не столько в специфике используемых здесь материально-правовых форм, сколько в типологической близости соответствующих правопорядков, помноженной на универсальность основных проблем юридического метода. С одной стороны, речь идет о правовых системах, принадлежащих к единой традиции и до недавнего времени отказывавшихся от юридического разрешения указанных проблем. Теперь правила, касающиеся преддоговорных отношений и действия договора в изменившихся обстоятельствах, благодаря усилиям судов и ученых завоевали себе признание во многих странах. В свете вышеизложенного неудивительно, что эти случаи корректировки строгого права, которое уже не отвечало представлениям общества о справедливости, в некоторых правопорядках стали ассоциироваться с доброй совестью. С другой стороны, молодость применяемых в данных сферах правил, институтов, принципов, их стихийное появление и развитие в судебной практике и научной дискуссии имеют своим естественным следствием то, что соответствующие формы далеко не всегда характеризуются привычными для позитивного права определенностью и стабильностью <2>. Отсутствие четких правовых форм, которыми может быть обосновано то или иное решение, часто создает соблазн обратиться к более абстрактным принципам, в частности к доброй совести. Наконец, нельзя исключать и того, что перед нами такие фрагменты социальной реальности, которые сильнее других сопротивляются формализации и в которых мудрая правовая система делает ставку на справедливость конкретного случая в гораздо большей мере, чем обычно <3>. Проверка последней гипотезы в отношении отдельных фрагментов правовых систем может составить предмет компаративных исследований, посвященных преломлению общих проблем юридического метода применительно к конкретным материально-правовым вопросам: когда и по каким причинам различные правопорядки воздерживаются от формулирования общих правил, предпосланных ситуации социального взаимодействия, и отдают разрешение споров на откуп справедливости конкретного случая? В этом контексте должны рассматриваться и случаи специального обращения законодателя к доброй совести, распространение которых составляет часть реформы, начавшейся с закрепления общего принципа в ст. 1 ГК РФ <4>. ——————————— <1> Whittaker S., Zimmermann R. Coming to Terms with Good Faith. P. 678, 682 — 683. <2> Так, в Нидерландах законодатель именно поэтому отказался от кодификации преддоговорной ответственности, оставив ее дозревать в судебной практике (см.: Good Faith in European Contract Law. P. 247 (автор раздела — J. H.M. van Erp)). Хотя немецкая реформа обязательственного права и привела к закреплению в ГГУ правил, касающихся преддоговорных отношений сторон, ее авторы исходили из сохранения примата доктрины и судебной практики в формировании соответствующих институтов (Harke J. D. Op. cit. S. 1553). <3> Ср.: Behrends O. Op. cit; Esser J. Op. cit. S. 24, 26 — 28, 30, 36 — 37. <4> См., например: Егоров А. В. Принцип добросовестности в Гражданском кодексе РФ: первые шаги реформы. С. 10 (в рубрике «Объективная добросовестность»).
V. Принцип добросовестности и договор
1. Договор, понятый как система правил, созданная сторонами и призванная упорядочить конкретную ситуацию социального взаимодействия, обладает в общем теми же слабостями, что и ius strictum, и потому столь же настоятельно нуждается в aequitas <1>. Так, применение сформулированного при заключении договора условия, сколь бы взвешенным и выверенным оно ни было само по себе (in abstracto), может привести к явно несправедливому результату в той уникальной ситуации, с которой стороны явятся в суд (in concrete). Кроме того, возможности сторон по урегулированию своих будущих отношений объективно ограничены: поведение должника и кредитора должно быть адекватно той ситуации, в которой им придется действовать, в то время как сама эта ситуация остается неизвестной <2>. Самое подробное и разветвленное договорное регулирование, предусматривающее правила на все случаи жизни <3>, все равно рискует промахнуться либо случайно распространить тот или иной алгоритм действий на случаи, в которых следование ему лишено смысла или идет вразрез с целями сторон. Уже поэтому в ходе разрешения споров возникает потребность в конкретизации, дополнении и даже исправлении договора. Суд толкует договор, обнаруживает в нем пробелы, восполняет их. Но такое вмешательство вызвано не только неизбежным несовершенством любой системы правил, предпосланной ситуации социального взаимодействия, и соответственно объективной невозможностью разрешения договорных споров посредством автоматического применения согласованных сторонами условий <4>. Проблематичной может быть не только эффективность, но и справедливость договорного регулирования: конкретизация, дополнение или исправление договора осуществляются в таких случаях не потому, что соглашение сторон не дает ответа на поставленный перед судом вопрос, а потому, что этот ответ плох <5>. ——————————— <1> Поэтому уточнение, дополнение или исправление договорного условия и совершение аналогичных операций с предписанием закона часто ставятся в один ряд, в том числе и при обсуждении функций доброй совести (см., например: Hartkamp A. S. Judicial Discretion under the New Civil Code of the Netherlands. P. 556; Merz H. Op. cit. S. 342, 357 — 358; Ranieri F. Bonne foi et exercice du droit dans la tradition du civil law. P. 1058, 1064, 1069, 1986; Schlechtriem P. The Functions of General Clauses, Exemplified by Regarding Germanic Laws and Dutch Law. P. 43 — 45). Ср. комментарий к ст. 1:201 Принципов европейского договорного права, закрепляющей общий принцип добросовестности: «Sometimes there is a conflict between a legal rule and justice. The law or an otherwise valid contract term may under the circumstances lead to a manifestly unjust result» (Principles of European Contract Law. Parts I and II. P. 116). Ср. также наблюдение Д. В. Дождева, основанное на анализе текстов Цицерона: «Aequitas» относится к этой специальной сфере права, выступая критерием правомерности судебного решения или адекватности толкования закона или частного волеизъявления» (Дождев Д. В. Понятие справедливости в римской правовой традиции. С. 64). <2> Ср.: Jaluzot B. Op. cit. P. 389. <3> Помимо до конца не преодолимой неполноты такое регулирование отличается еще и дороговизной, так как его разработка рискует оказаться убыточной с точки зрения соотношения необходимых издержек и вероятных выгод. <4> Иногда значение доброй совести ограничивают решением этих проблем: Picod Y. Le devoir de loyaute dans l’execution du contrat. Paris: LGDJ, 1989. P. 9, 82 — 83. <5> Ср.: Gordley J. The Philosophical Origins of Modern Contract Doctrine. Oxford: Clarendon Press, 1991. P. 230: «…there is widespread agreement that any viable theory of contract will have to take the fairness of a contract into account, yet there is no agreement as to how to do so»; Ibbetson D. J. A Historical Introduction to the Law of Obligations. Oxford; New York: Oxford University Press, 1999. P. 248: «…the principal cross-current playing against the Will Theory was the idea that the law ought to strive towards a goal of achieving justice or avoiding injustice, rather than simply giving effect to the agreement of the parties».
Содержание и пределы описанной деятельности правоприменителя, а также способы ее обоснования характеризуются большим историческим и национальным многообразием. Однако главная концептуальная проблема, с которой здесь сталкивается любой правопорядок, принадлежащий к западной традиции, едина — это соотношение указанных операций с волей сторон. 2. Безусловно, правомерный и требующий внимания, этот вопрос приобрел ключевое значение для договорного права благодаря волевой теории договора, утвердившейся на Западе в Новое время и неохотно сдающей свои позиции в наши дни. Выдвинутая рядом философских концепций и нашедшая мощную поддержку со стороны экономической науки, эта теория завоевала сердца юристов, увидевших в ней обоснование и объяснение всего договорного права и, в частности, общего учения о договоре <1>. ——————————— <1> Об истории ее возникновения и развития см.: Atiyah P. S. The Rise and Fall of the Freedom of Contract. Oxford: Clarendon Press, 1979; Gordley J. Op. cit; Idem. Foundations of Private Law. Property, Tort, Contract, Unjust Enrichment. Oxford; New York: Oxford University Press, 2006. P. 14 — 31; Ibbetson D. J. Op. cit. P. 220 — 261; Nanz K.-P. Die Entstehung des allgemeinen Vertragsbegriffs im 16. Bis 18. Jahrhundert. Munchen: Schweitzer, 1985; Schmidlin B. Die beiden Vertragsmodelle des europaischen Zivilrechts: das naturrechtliche Modell der Versprechensubertragung und das pandektistische Modell der vereimgten Willenserklarungen // Rechtsgeschichte und Privatrechtsdogmatik. Heidelberg: C. H. Muller, 1999.
Человек свободен, и никто не вправе покушаться на эту свободу. Связать человека, не нарушая его свободы, может поэтому лишь он сам, своей волей. Договорные отношения, заключающиеся во взаимодействии двух свободных лиц, которые принимают на себя обязательства по отношению друг к другу, могут основываться, следовательно, только на их воле (воле каждого из них или их общей воле). Договорная связь возникает лишь тогда и лишь постольку, когда и поскольку на то есть воля сторон. Более того, воли сторон достаточно для того, чтобы связать их договором, так как она — единственный источник его обязательной силы. Стороны лучше, чем кто бы то ни был, осознают свои интересы и больше, чем кто бы то ни было, озабочены их соблюдением, поэтому та система правил, которую они предусмотрели сами для себя (автономно), всегда превосходит порядки, навязанные извне (гетерономно). Значит, свобода заключения договора и определения его условий гарантирует и справедливость его содержания <1>. Более того, обмен в действительности происходит на тех условиях, которые продиктованы рынком с его свободной игрой спроса и предложения и уже в силу этого оптимальны. ——————————— <1> Эту идею часто выражают афоризмом А. Фуйе «Qui dit contractuel dit juste» или — вслед за В. Флуме — цитатой из Ювенала: «Stat pro ratione voluntas» (Fouillee A. La science sociale contemporaine. 3e ed. Paris: Hachette et Cie, 1897. P. 410; Flume W. Allgemeiner Teil des Burgerlichen Rechts. 2. Das Rechtsgeschaft. 3. Aufl. Berlin [u. a.]: Springer, 1979. S. 6).
3. Волевая теория приобрела статус монистической концепции, достаточной для обоснования как договорного права в целом, так и отдельных его институтов и способной объяснить их исчерпывающим образом. В этой парадигме были переосмыслены заключение договора, его правовые последствия, объективное договорное право, в частности значение императивных и диспозитивных норм, договорных типов, каузы, методы толкования договора. Волеизъявлению, например, была отведена служебная роль по отношению к внутренней воле, в невыраженной воле сторон нашло опору диспозитивное право, толкование договора превратилось в деятельность по выявлению воли сторон. Сопротивление волевой догме бесполезно, поскольку ведет либо к подавлению непокорных категорий <1>, их размыванию, маргинализации <2>, либо к признанию, что в отдельных — исключительных — случаях свобода воли должна ограничиваться; будучи аномалией, которая вступает в конфликт с главной ценностью, воплощенной в договорном праве, и поэтому нежелательна, всякое подобное ограничение нуждается в специальном обосновании <3>. ——————————— <1> Такова судьба каузы в немецком праве: Kiefner H. Der abstrakte obligatorische Vertrag in Praxis und Theorie des 19. Jahrhunderts // Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jahrhundert. Bd. II. Die rechtliche Verselbstandigung der Austauschverhaltnisse vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung und Doktrin. Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 1977. <2> О постепенном искажении и разрушении под влиянием волевой теории доктрин consideration aprivity of contract, связанных с меновой моделью договора, в английском праве см.: Ibbetson D. J. Op. cit. P. 236 — 244. <3> Так, процесс восприятия волевой теории английским правом Д. Дж. Иббетсон описывает следующим образом: «…the great merit of the Will Theory was that it had a measure of intellectual coherence that the traditional Common law wholly lacked, though this coherence had been to some extent bought at the expense of practical common sense. Its greatest demerit was that it was imposed on the Common law from the outside rather than generated from within. It embodied a model of contract significantly different from the traditional English exchange model, and there was considerable friction between the two theories. The Common law did not — of course — simply discard those elements that did not fit neatly into the theory but strained to squeeze them into it. The result was a mess» (Ibbetson D. J. Op. cit. P. 221).
4. Сегодня базовые философские установки волевой теории поставлены под сомнение. То же верно и для подпирающих ее экономических учений. Позитивистский взгляд на общество, признающий только чувственную реальность и игнорирующий нормативную, продемонстрировал пределы своих возможностей и не удовлетворяет многих запросов юридической науки. Невыводимость должного из сущего не позволяет отождествлять фактические параметры меновых операций с должными: тезис о справедливости всех договоров, написанных невидимой рукой рынка, нарушает этот логический постулат и лишен содержания. Различение же чувственного и нормативного аспектов социальной реальности делает возможной проверку фактически протекающих процессов на предмет их соответствия должному, справедливости. Пороки волевой теории продемонстрировал и опыт ее верификации на конкретном нормативном материале. Так, волевая концепция заключения договора очень рано столкнулась с серьезными возражениями, привела к принятию компромиссных решений <1> и теперь критикуется как недостаточная <2>. Толкование договора, осуществляемое со ссылками на молчаливую или гипотетическую (фиктивную) волю сторон, в действительности очень часто носит нормативный характер, являясь проводником (объективного) диспозитивного права <3>. Хорошо известно, что, во-первых, воля сторон далеко не всегда получает правовое признание, во-вторых, договорные или идентичные им связи устанавливаются в ряде случаев и при отсутствии на то воли по крайней мере одной из сторон, и, в-третьих, правовые последствия заключенного договора волей сторон полностью не охватываются. В этих явлениях можно видеть либо более или менее желательные исключения из принципа частной автономии, либо свидетельства ошибочности волевой теории, придающей гипертрофированное значение одному из аспектов договора. ——————————— <1> См. об этом: Schermaier M. J. § 116 — 124. Willensmangel // Historisch-kritischer Kommentar zum BGB. Bd. I. Allgemeiner Teil. § 1 — 240. Tubingen: Mohr Siebeck, 2003. S. 407 — 411. <2> См., например: Bydlinski F. Privatautonomie und objektive Grundlagen des verpflichtenden Rechtsgeschaftes. Wien; New York: Springer, 1967; Idem. Die Grundlagen des Vertragsrechts im Meinungsstreit // Basler juristische Mitteilungen. 1982. No. 1; Koziol H. Von der rechtsgeschaftlichen Bindung zur Vertrauenshaftung // Festschrift fur Gert Iro zum 65. Geburtstag. Wien: Jan Sramek, 2013; Kramer E. A. Grundfragen der vertraglichen Einigung. Konsens, Dissens und Erklarungsirrtum als dogmatische Probleme des osterreichischen, schweizerischenund deutschen Vertragsrechts. Munchen; Salzburg: Wilhelm Fink, 1972; Schmidlin B. Op. cit. <3> См.: Betti E. Der Grundsatz von Treu und Glauben in rechtsgeschichtlicher und — vergleichender Betrachtung // Studien zum kausalen Rechtsdenken. Festgabe zum 80. Geburtstag von R. Muller-Erzbach. Munchen: Riser, 1954. S. 20 — 21; Ibbetson D. J. Op. cit. P. 224 — 225; Vogenauer S. § 133, 157. Auslegung // Historisch-kritischer Kommentar zum BGB. Bd. I. Allgemeiner Teil. § 1 — 240. Tubingen: Mohr Siebeck, 2003. S. 625 — 643; Zimmermann R. «Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter…»: Condicio tacita, implied condition und die Fortbildung des europaischen Vertragsrechts // Archiv fur die civilistische Praxis. 1993. Bd. 193.
Недовольство волевой теорией стимулирует поиски альтернативных концепций, заменяющих или дополняющих волю (утраченными) объективными категориями, такими, как кауза, договорный тип, naturalia negotii, социальная функция договора, объективированное доверие контрагента, солидаризм, эквивалентный обмен <1>. ——————————— <1> См., например: Atiyah P. S. Contracts, Promises, and the Law of Obligations // Idem. Essays on Contract. Oxford: Clarendon Press, 1990; Betti E. Der Typenzwang bei den romischen Rechtsgeschaften und die sogenannte Typenfreiheit des heutigen Rechts // Festschrift fur Leopold Wenger. Bd I. Munchen: Beck, 1944; Bydlinski F. Privatautonomie und objektive Grundlagen des verpnichtenden Rechtsgeschaftes; Idem. Die Grundlagen des Vertragsrechts im Meinungsstreit; Cardilli R. II problema della resistenza del tipo contrattuale nel diritto romano tra «natura contractus» e «forma iuris» // Modem teorici e metodologici nella storia del diritto privato. Napoli: Jovene, 2008; Ghestin J. L’utile et le juste dans les contrats // Recueil Dalloz Sirey. Chroniques. 1982 (= Idem. L’utile et le juste dans les contrats // Archives de philosophie du droit. 1981. T. 26); Idem. Le contrat en tant qu’echange economique // Revue d’economie industrielle. 2000. Vol. 92; Gilmore G The Death of Contract. Columbus: Ohio State University Press, 1974; Oechsler J. Gerechtigkeit im modernen Austauschvertrag. Tubingen: Mohr Siebeck, 1997. S. 168 — 266 et passim. Критическую функцию выполняют и работы по истории волевой догмы: Atiyah P. S. The Rise and Fall of the Freedom of Contract; Gordley J. Op. cit. (p. 9: «By understanding what is wrong, we may be able not only to understand our history, but also to shape it»); Ibbetson D. J. Op. cit. P. 220 — 261; Schmidlin B. Op. cit. Отказ от волевой теории актуализирует вопросы о соотношении договора с другими типами юридических фактов, порождающих обязательства или создающих основания для привлечения к ответственности. Распространение в связи с этим получили подходы, которые размывают границу между договором и деликтом, contract и tort, и либо выстраивают «континуум» или «дугу» юридических фактов (см., например: Koziol H. Op. cit.; Atiyah P. S. Op. cit.; Kotz H., Flessner A. Europaisches Vertragsrecht. Bd. I. Tubingen: Mohr Siebeck, 1996. S. 14 (автор тома — H. Kotz)), либо констатируют поглощение контракта более общим понятием tort (как это делает, например, Г. Гилмор, в шутку называющий новую университетскую дисциплину, призванную объединить курсы по contracts и torts, «Contorts» (Gilmore G. Op. cit. P. 90)). Общий обзор критики волевой теории и предлагаемых альтернатив см., например: Coipel M. Elements de teorie generale des contrats. Diegem: Kluwer Editions Juridiques Belgique; E. Story-Scientia, 1999. P. 15 — 28; Fabre-Magnan M. Op. cit. P. 57 — 62, 68, 71 — 72, 73 — 80; Kotz H., Flessner A. Op. cit. S. 10 — 15 (автор тома — H. Kotz); Reiter C. Vertrag und Geschaftsgrundlage im deutschen und italienischen Recht. Tubingen: Mohr Siebeck, 2002. S. 127 — 135 (Германия во второй половине XX в.), 182 — 198 (Италия во второй половине XX в.); Terre F., Simler R., Lequette Y. Droit civil. Les obligations. 10e ed. Dalloz, 2009. P. 29 — 51. О национал-социалистической и фашистской критике, ставящей коллективное выше индивидуального, см.: Reiter C. Op. cit. S. 8 — 84, 97 — 113. На основании своего крупного исследования, дающего более или менее достоверное представление о правоприменительных реалиях нескольких европейских правопорядков, С. Уиттакер и Р. Циммерманн делают общий вывод, что все изученные правовые системы постепенно отворачиваются от волевой теории договора (Whittaker S., Zimmermann R. Coming to Terms with Good Faith. P. 700).
5. Добрая совесть стала одним из центров притяжения для тех методов и нормативных явлений, в которых показывают себя объективные составляющие договорного права <1>. Толкование договора с учетом доброй совести, а также обращенное к сторонам требование исполнять договор добросовестно символизируют принципиальный отказ от (чистой) волевой теории. Рассматриваемая как мера должного поведения должника и кредитора добрая совесть объективна, не основана на произволе сторон и не зависит от него — отсюда и частый акцент на ее императивности <2>. Порядок взаимодействия сторон образуют не только согласованные ими правила, но и объективные, типичные стандарты поведения, спроецированные на данную конкретную ситуацию. Можно даже сказать, что соглашение сторон получает признание как один из элементов этой ситуации, поскольку того требует объективная норма: как должны вести себя стороны, учитывая, в частности, что ими достигнуто соглашение на таких-то условиях? <3> Правовые последствия договора полностью не охватываются волей сторон, не вытекают из нее, а иногда и вовсе идут с ней вразрез <4>. Однако при предложенной постановке вопроса это не аномалия, а естественное положение дел. Поэтому смещение акцентов на объективное и нормативное в договоре избавляет от необходимости оправдывать конкретизацию, дополнение или исправление договора ссылками на гипотетическую, молчаливую, а на самом деле — просто-напросто фиктивную волю сторон, а также лишает смысла деление прав и обязанностей на те, которые являются продуктом воли сторон, и те, которые возникли автоматически, в силу закона, и делает безосновательными сомнения в договорном характере последних <5>. Однако обсуждаемый подход не только освобождает судью от беспрекословного подчинения воле сторон, но и связывает его: ситуация, с которой стороны пришли в суд, и, в частности, спорные условия договора должны оцениваться по общему масштабу, по правилам, общим для подобных случаев <6>. ——————————— <1> Поэтому обсуждение объективных аспектов договора очень часто выходит на разговоры о доброй совести и наоборот; см., например: Сорокина Е. А. Указ. соч. С. 82 (Франция); Coipel M. Op. cit. P. 22 (Бельгия); Di Mojo A. Il contratto e l’obbligazione nei Principi // Europa e diritto privato. 2002. P. 893; Ibbetson D. J. Op. cit. P. 249; Fabre-Magnan M. Op. cit. P. 63 — 66 (Франция); Mestre J. Obligations en general // Revue trimestrielle de droit civil. 1986. P. 100 — 102; Oechsler J. Op. cit. S. VII, 6, 199, 286 — 290; Reiter C. Op. cit. S. 134 (Германия), 196 — 198 (Италия); Tallon D. Op. cit. P. 11 (Франция); Terre F., Simler R., Lequette Y. Op. cit. P. 47 — 48 (Франция). <2> См., например: Benabent A. Droit civil. Les obligations. 12e ed. Paris: Motchrestien, 2010. P. 306; Mestre J., Fages B. L’amenagement par les parties de leurs obligations contractuelles // Lamy. Droit du contrat. Paris: Lamy S. A., 1999 — … (2001). Etude 333, 90. На этом прямо настаивают даже проекты унификации частного права, не имеющие силы закона (п. 2 ст. 1:201 Принципов европейского договорного права, п. 2 ст. 1.7 Принципов международных коммерческих контрактов УНИДРУА, п. 2 ст. II.-3:301 и п. 2 ст. III.-1:103 проекта Общей системы координат (Principles of European Contract Law. P. 113, 116; Principles of International Commercial Contracts. Rome: International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit), 2010. P. 18, 22; Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Vol. I. P. 676 — 677); см. об этом: Grigoleit H. C. Zwingendes Recht (Regelungsstrukturen) // Handworterbuch des Europaischen Privatrechts. Bd. II. Tubingen: Mohr Siebeck, 2009. S. 1828 — 1830). <3> Ср., например: Atiyah P. S. The Rise and Fall of the Freedom of Contract. P. 692 — 693: «…it is always the law anyhow which imposes legal duties, including contractual duties… such duties are imposed for a variety of reasons, and… the element of consent or agreement is merely one relevant factor in the case…»; 734: «…even where parties enter into a transaction as a result of some voluntary conduct, the resulting rights and duties of the parties are, in large part, a product of the law, and not of the parties’ agreement»; 735. <4> Ср. у Й. Экслера: «Vertragsinhalt jenseits des Parteiwillens» (Oechsler J. Op. cit. S. 202). Проблема невыводимости правовых последствий договора из содержания соглашения сторон может быть представлена как противостояние двух разносущностных догматических категорий — договора и обязательства. Если первый — сфера произвола сторон, то во втором правит добрая совесть как объективный масштаб: «Obbligazione dunque versus contratto» (Di Mojo A. Il contratto e l’obbligazione nei Principi. P. 890 — 895). Этот разрыв между волей сторон и правовыми последствиями заключенного договора заслуживает рассмотрения и через призму общего учения о юридической сделке. В частности, можно обратить внимание на различие между недействительностью как следствием ничтожности договорного условия и неприменением того или иного условия в данном конкретном споре с учетом обстоятельств дела (Di Mojo A. Buona fede e nullita // Festschrift fur Peter Schlechtriemzum 70. Geburtstag. Tubingen: Mohr Siebeck, 2003. S. 462 — 463). <5> Ср.: Atiyah P. S. The Rise and Fall of the Freedom of Contract. P. 691 — 693; Oechsler J. Op. cit. S. VII, 168 — 174, 196 — 197, 199 — 266. <6> В договорных спорах эта задача отличается, разумеется, повышенной сложностью, так как судья имеет дело не просто с набором фактов, но с уникальным порядком согласования интересов, разработанным сторонами. О связанных с этим проблемах юридической методологии, особенно ярко проявляющихся в случае так называемых атипичных договоров, см.: Oechsler J. Op. cit.
Как следует совершить то определенное действие, которое составляет содержание обязательства должника? Как должен вести себя при этом кредитор? Ожидается ли от сторон какое-то поведение помимо совершения задолженного действия и принятия исполнения? Следовало ли должнику совершать предоставление в соответствии с условиями договора даже в этих конкретных обстоятельствах? Мог ли кредитор отказаться принимать исполнение, не соответствующее условиям договора, даже в этих конкретных обстоятельствах? Ответы на подобные вопросы, постоянно возникающие в практике договорного взаимодействия, дает любой правопорядок, причем очевидно, что в большинстве случаев они не могут и не должны <1> выводиться только из воли или соглашения сторон <2>, <3>. Ответы эти зависят от особенностей, в том числе правовых, данного общества. Каждая страна, каждая эпоха устанавливают свои требования к участникам оборота, задают свои параметры хозяйственного взаимодействия <4>, каждая правовая система выбирает свою точку равновесия между договорным формализмом и материальной справедливостью. Поэтому содержания, которыми обогащается договорное отношение за счет внешних, объективных, нормативных источников, различаются от правопорядка к правопорядку <5>. Неодинаковы и методы, опосредующие этот процесс: одна традиция больше склонна оперировать инструментарием, выполненным в стилистике волевой теории, другая открыто противопоставляет объективные требования доброй совести воле сторон <6>; развитая система институтов и специальных доктрин договорного права автоматически наполняет договор объективным содержанием, в то время как ее несовершенство ведет к активизации творческой деятельности судей и ученых, которая осуществляется то как толкование договора, то как конкретизация общего принципа доброй совести <7>. Mutatis mutandis для доброй совести в договорном праве верно многое из вышесказанного: речь идет об универсальных и вечных проблемах договорного права, решения которых как с содержательной, так и с методологической точки зрения обладают национальной и исторической спецификой. При этом сходства и различия между существующими и существовавшими подходами не определяются той ролью, которую в том или ином правопорядке играет ссылка на добрую совесть <8>. ——————————— <1> Ср. опровержение классической гипотезы М. Вебера, будто предельный договорный формализм, при котором судья скован текстом соглашения, дает столь полезную для коммерческого оборота предсказуемость: Collins H. Formalism and Efficiency: Designing European Commercial Contract Law // European Review of Private Law. 2000. No. 8. Автор настаивает на том, что предсказуемость, необходимая предпринимателям, достижима лишь при удовлетворении их нормативных ожиданий, связанных с договором, а концентрация на условиях заключенного соглашения приводит как раз к непредсказуемым результатам. При таком подходе необоснованными оказываются и сомнения Р. Гуда в том, не отпугнет ли бизнес та непредсказуемость, которой чревато введение принципа добросовестности: Goode R. Op. cit. P. 3, 9. <2> Ср.: Gordley J. Op. cit. P. 243: «It is hard to imagine a case in which a performance exactly matched a party’s conscious thoughts and expectations». <3> Показательно в этом смысле распространение «дополнительных», не основанных ни на договоре, ни на законе обязанностей, которые возлагаются на каждую из сторон договора — часто со ссылкой на добрую совесть: обязанности проявлять заботу о здоровье и имущественной сфере контрагента, обязанность предоставлять информацию и т. д. См. об этом, например: Егоров А. В. Структура обязательственного отношения: наработки германской доктрины и их применимость в России // Вестник гражданского права. 2011. N 3 (Германия); Синявская М. С. Вопросы нарушения договора и его последствий в современном французском праве: настоящее положение дел, критика, проект реформы // Вестник гражданского права. 2008. N 3. С. 70 — 85 (Франция, Германия); Она же. Обязанность обеспечить безопасность как специфическая категория французского обязательственного права // Безопасность бизнеса. 2006. N 1; Российский судья. 2006. N 6 (Франция); Сорокина Е. А. Указ. соч. С. 86 — 89 (Франция); Coipel M. Op. cit. Р. 89 — 90 (Бельгия); Hesselink M. W. Op. cit. P. 442 (выводы по результатам сравнительно-правового исследования); Lando O. Op. cit. P. 339 (Франция); Merz H. Op. cit. S. 347 — 349 (Швейцария); Picod Y. Op. cit. P. 101 — 127, 129 — 229 (Франция); Schlechtriem P. The Functions of General Clauses, Exemplified by Regarding Germanic Laws and Dutch Law. P. 45 — 46 (Германия); Sonnenberger H. J. Op. cit. S. 714 — 720 (Франция). <4> Основываясь на данных сравнительной политэкономии, акцент на различии производственных режимов современных экономик делает, например, Г. Тойбнер, демонстрирующий, что набор договорных обязанностей, которые немецкие суды выводят из доброй совести, неадекватен реалиям английского экономического уклада: Teubner G. Op. cit. P. 24 — 27. <5> Ср.: Yam Seng PTE Ltd v. International Trade Corporation Ltd [2013] EWHC 111 (QB) [151]: «…in so far as English law may be less willing than some other legal systems to interpret the duty of good faith as requiring openness of the kind described by Bingham LJ in the Interfoto case as «playing fair», «coming clean» or «putting one’s cards face upwards on the table», this should be seen as a difference of opinion, which may reflect different cultural norms, about what constitutes good faith and fair dealing in some contractual contexts rather than a refusal to recognise that good faith and fair dealing are required». <6> Ср.: Yam Seng PTE Ltd v. International Trade Corporation Ltd [2013] EWHC 111 (QB) [131]: «Under English law a duty of good faith is implied by law as an incident of certain categories of contract… I doubt that English law has reached the stage, however, where it is ready to recognise a requirement of good faith as a duty implied by law, even as a default rule, into all commercial contracts. Nevertheless, there seems to me to be no difficulty, following the established methodology of English law for the implication of terms in fact, in implying such a duty in any ordinary commercial contract based on the presumed intention of the parties»; Lando O. Op. cit. P. 344 — 346. <7> Ср.: Whittaker S., Zimmermann R. Coming to Terms with Good Faith. P. 675 — 684, 700 et passim. <8> См.: Ibid. P. 699 — 701. Ср.: Yam Seng PTE Ltd v. International Trade Corporation Ltd [2013] EWHC 111 (QB) [145]: «Understood in the way I have described, there is in my view nothing novel or foreign to English law in recognising an implied duty of good faith in the performance of contracts. It is consonant with the theme identified by Lord Steyn as running through our law of contract that reasonable expectations must be protected… Moreover such a concept is, I believe, already reflected in several lines of authority that are well established. One example is the body of cases already mentioned in which duties of cooperation in the performance of the contract have been implied. Another consists of the authorities which show that a power conferred by a contract on one party to make decisions which affect them both must be exercised honestly and in good faith for the purpose for which it was conferred, and must not be exercised arbitrarily, capriciously or unreasonably (in the sense of irrationally)… A further example concerns the situation where the consent of one party is needed to an action of the other and a term is implied that such consent is not to be withheld unreasonably (in a similar sense)… Yet another example, I would suggest, is the line of authorities of which the Interfoto case is one which hold that an onerous or unusual contract term on which a party seeks to rely must be fairly brought to the notice of the other party if it is to be enforced». Далее в этом же решении подчеркивается, что ни с методологической, ни с содержательной точек зрения обязанность добросовестного исполнения договорных обязательств не может рассматриваться как несовместимая с английским common law: Ibid. [147 — 152]. Ср. также: Picod Y. Op. cit. P. 22.
Вместе с тем у принципа добросовестности в договорном праве все же есть свое содержание — добрая совесть ориентирует на интеграцию в договорное отношение объективных элементов социального порядка и поэтому находится в постоянном конфликте с волевой теорией <1>. Это консолидирует предмет компаративных исследований доброй совести в договорном праве: они должны быть посвящены общей проблеме соотношения волевого и нормативного в договоре, а также многочисленным конкретным вопросам, в которых она проявляется. ——————————— <1> Ср.: Di Mojo A. Il contratto e l’obbligazione nei Principi. P. 892: «…la componente di «eteronomia» che e connaturale alla buona fede…»; Hesselink M. W. Op. cit. P. 442: «…in many systems good faith is regarded as one of the most important sources of heteronomous effects of the contract»; 443: «…a counterbalance to the rigour of the pacta sunt servanda rule». О несовместимости доброй совести с гипертрофированной волевой теорией юснатуралистов см., например: Ranieri F. Bonne foi et exercice du droit dans la tradition du civil law. P. 1062 — 1063,1085 — 1086. Во Франции, например, этот конфликт выразился в длительном противостоянии абз. 1 и 3 ст. 1134 ФГК, первый из которых объявляет соглашение законом для сторон, в то время как последний предписывает, чтобы соглашения исполнялись по доброй совести. Гегемония волевой теории привела к подавлению второго правила, которое без малого двести лет толковалось как требование исполнять договор в полном соответствии с волей сторон. Зато теперь возвращение абз. 3 самостоятельного значения проходит под знаком пересмотра концепции договора и отказа от примата воли (см. об этом: Сорокина Е. А. Указ. соч. С. 82 — 84; Ranieri F. Bonne foi et exercice du droit dans la tradition du civil law. P. 1063; Benabent A. Rapport francais. P. 292 — 293; Picod Y. Op. cit. P. 81; Sonnenberger H. J. Op. cit. S. 706).
Итак, принцип добросовестности закреплен в ГК РФ. Влияние этого события на отечественный правопорядок не предугадать. Оно может стать вехой в истории российского права или, наоборот, остаться незамеченным. Положительный эффект реформы зависит во многом от того, услышит ли отечественная юриспруденция исходящее от доброй совести напоминание или приглашение взять в руки зеркало сравнительного правоведения и повнимательнее вглядеться в черты своей юридической методологии и своего договорного права.
——————————————————————