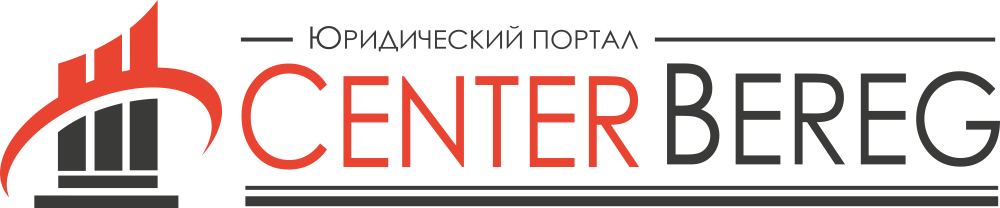Экономические основания принципа свободы договора
(Карапетов А. Г.) («Вестник гражданского права», 2012, N 3)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ДОГОВОРА <1>
А. Г. КАРАПЕТОВ
——————————— <1> Автор благодарит А. И. Савельева, В. В. Новикова, С. Б. Авдашеву, М. И. Одинцову и Г. Г. Сапова за ценные замечания и комментарии, сделанные в процессе подготовки настоящей статьи в отношении ее проекта и самой темы в целом.
Карапетов А. Г., доктор юридических наук, профессор Российской школы частного права при Правительстве РФ.
Данная статья посвящена анализу экономических оснований принципа свободы договора. Автор анализирует основные экономические аргументы в пользу расширения свободы договора и оценивает этические и утилитарные возражения против данного принципа. В результате делается вывод о том, что экономический анализ договорной свободы приводит к утверждению свободы договора в качестве базовой презумпции договорного права, опровержимой только при наличии крайне убедительных политико-правовых оснований.
Ключевые слова: свобода договора, право и экономика, экономический анализ права.
This article considers economic foundations of principle of freedom of contract. The author analyzes basic economic arguments in favor of widening of the scope of contractual freedom and comments ethic and utilitarian arguments against such principle. In the end the author put forward a thesis that economic analysis of contract law leads to establishing the contractual freedom as a basic contract law presumption that can be rebutted only in case of very persuasive policy reasons.
Key words: freedom of contract, law and economics, economic analysis of law.
Общие методологические замечания
Понимание принципа свободы договора и его практической роли в контексте российского права — вопрос не из легких. Из текста законов вывести сколько-нибудь реальное представление о функционировании этого базового принципа очень сложно. Торжественное провозглашение договорной свободы на уровне ГК РФ (ст. 1 и 421) дает крайне отдаленное представление о том, как функционирует данная идея в реальности. Кроме того, по ряду наиболее острых вопросов реализации свободы договора или ее ограничений ГК РФ выражается нечетко или попросту молчит. Обращение исследователя к отечественной доктринальной литературе также оказывается не вполне продуктивным. Применительно к принципу свободы договора и основаниям его ограничения (как, впрочем, и к целому ряду других острых проблем правовой политики — от допущения безотзывных банковских вкладов до легализации обеспечительной передачи права собственности вместо классического залога) анализ догматики права часто не позволяет сформировать сколько-нибудь убедительные ориентиры de lege ferenda. История позитивного права и формально-логическое толкование исторических источников, экзегетический анализ текстов действующих законов и формально-догматическая обработка позитивного права в духе «юриспруденции понятий», как правило, недостаточны для того, чтобы сформировать методологическую основу для принятия законодателем и высшими судами наиболее адекватных правотворческих решений. Из того, что работорговля считалась приемлемой частноправовой сделкой в ряде штатов США или в России во времена Франклина и Гоголя, отнюдь не следует, что такое проявление договорной свободы сейчас можно допустить. Вывод же о допустимости или недопустимости легализации обеспечительной передачи права собственности находится в крайне слабой причинно-следственной взаимосвязи с тем, признавалась ли данная конструкция в римском праве или нет. Исторический опыт крайне важен, но не достаточен при принятии государством конкретных регулятивных решений об ограничении или допущении тех или иных проявлений договорной свободы. В свое время профессор Р. Борк применительно к антимонопольному праву отметил, что «антимонопольная политика не может стать рациональной, пока мы неспособны дать твердый ответ на вопрос о том, в чем состоит цель антимонопольного права. Ответы на все частные вопросы вытекают из ответа на этот базовый вопрос… Только после этого возможно сформировать согласованную систему правового регулирования» <1>. Этот же вывод не менее очевиден и в отношении договорного права. В реальности без анализа истинных целей договорного права (справедливость, экономическая эффективность и т. п.), без постановки фундаментальных политико-правовых вопросов о свободе и индивидуализме, патернализме и социальной солидарности, о допустимой роли государства в экономике такие фундаментальные вопросы, как свобода договора, как нам кажется, исследовать бессмысленно и решать преждевременно. ——————————— <1> Bork R. H. The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself. Free Press, 1993. P. 50.
На некоторое время развития частного права научный анализ таких проблем фактически был табуирован. Выдающиеся немецкие пандектисты XIX в., которым мы обязаны целым рядом открытий в области систематики частного права, принципиально не исследовали вопросы политики права и поэтому практически полностью игнорировали вопрос о политико-правовых основаниях свободы договора и ее пределах. Сам принцип свободы договора проявился в форме априорного принятия так называемой «волевой теории» сделки, но проблематика ограничения содержательной свободы договора глубоко не изучалась, поскольку основное внимание было направлено на анализ проблематики процесса заключения договора. Научная методология пандектистов, основанная на комментировании римско-правовых текстов и индуктивном выведении из полученных оттуда догм согласованных концепций, понятий и классификаций, просто не могла ответить на острые политико-правовые вопросы, связанные с договорной свободой, не начиная изменять саму себя. Как отмечается в литературе, дискуссии на эту тему в среде немецких цивилистов и более или менее серьезный научный анализ данных вопросов в немецком праве начались только в XX в., когда эпоха великих пандектистов ушла в историю <1>. ——————————— <1> Abegg A., Thatcher A. Review Essay — Freedom of Contract in the 19th Century: Mythology and Silence of the Sources. — Sibylle Hofer’s Freiheit ohne Grenzen? Privatrechtstheoretische Diskussionen im 19. Jahrhundert // German Law Journal. 2004. Vol. 5. No. 1. P. 104 — 105.
Так, например, к концу XIX в. французские, немецкие и другие европейские цивилисты признали наличие дихотомии императивных и диспозитивных норм, но серьезный анализ тех критериев, по которым законодателю стоит формулировать ту или иную норму как императивную или диспозитивную, а суду — давать норме, не имеющей очевидных текстуальных атрибутов, императивную или диспозитивную интерпретацию, начался в правовой науке зарубежных стран только во второй половине XX в. <1>. ——————————— <1> Wagner G. Mandatory Contract Law: Functions and Principles in Light of the Proposal for a Directive on Consumer Rights // Erasmus Law Review. 2010. Vol. 3. Issue 1. P. 49 — 50.
В то же время правовая наука не стоит на месте. К настоящему моменту, как показывает изучение доступной автору зарубежной научной литературы, осмысление роли принципа свободы договора и оснований его ограничения все чаще строится в зарубежных странах на основе серьезного анализа политико-правовых (утилитарных, этических или иных) соображений, т. е. с учетом ценностей и целей, которым право должно следовать как инструмент социального контроля и инженерии, механизм проведения в жизнь ценностей справедливости и иных доминирующих в обществе моральных установок, а также катализатор экономического прогресса. Мир частного права как абсолютно автономной и трансцендентальной системы, выстроенной и развивающейся только на основе толкования неких «священных текстов» (будь то римские источники или гражданские кодексы), исторических изысканий и формальной логики, давно в прошлом. В науке зарубежных стран активно развивается множество конкурирующих научных методологий, акцентирующих внимание на различных аспектах содержательной рациональности права (например, юриспруденция интересов и ценностей в Германии, правовой прагматизм и экономический анализ права в США, школа критических правовых исследований и др.). В России ситуация принципиально иная. Политико-правовая научная методология в области частного права в России начала активно развиваться в начале XX в. во многом благодаря научным усилиям Л. И. Петражицкого. Он поставил в качестве основной цели своей научной деятельности формирование в сфере частного права в дополнение к историко-догматической юриспруденции такой методологии, которая была бы нацелена на научный анализ путей совершенствования позитивного права с точки зрения конечных целей права. Такого рода исследовательскую программу он называл политикой гражданского права. Эта методология должна была, на его взгляд, занять место теряющего авторитет естественно-правового учения, ранее de facto отчасти выполнявшего аналогичную роль <1>. Но после Первой мировой войны и Революции политика гражданского права в той ее форме, которая была близка Л. Петражицкому и многим другим дореволюционным цивилистам либерального или социально-идеалистического толка <2>, оказалась попросту никому не нужной. На арену выдвигалась новая, коммунистическая политика частного права, в рамках которой идее договорной свободы места, как правило, не находилось. ——————————— <1> См.: Петражицкий Л. И. Введение в науку политики права // Теория и политика права. Избранные труды. СПб., 2010. С. 3 — 187; Он же. К вопросу о социальном идеале и возрождении естественного права // Теория и политика права. Избранные труды. С. 562 — 601. <2> Л. И. Петражицкий не считал возможным существование гражданско-правовой политики без признания центрального значения принципов свободы договора, частной собственности и децентрализации экономической жизни (см.: Петражицкий Л. И. Введение в науку политики права. С. 42 — 43).
С крахом советского режима плановая правовая политика из научных исследований исчезла, оставив ученого один на один с голым текстом Гражданского кодекса и методологией «юриспруденции понятий», а «новая старая» рыночно ориентированная политика гражданского права так и не заняла это место. Научное направление, начатое более ста лет назад Л. И. Петражицким, так и не получило импульс к возрождению, несмотря на формальное возвращение к политико-правовым установкам рыночного гражданского права на уровне деклараций Конституции и ГК РФ. В результате в области методологии договорного права мы остались с наследством в форме четырех стен правовой догматики. В этой связи для развития правовой науки крайне важно несколько расширить методологические горизонты и попытаться взглянуть на проблемы частного права со стороны правовой политики. Необходимо начать научный поиск оптимальных регулятивных решений, способных вызвать те последствия, которые можно было бы признать желательными и адекватными исходя из конечных целей позитивного права. Независимо от того, занимается этим поиском правовая наука или нет, им серьезно занимаются экономисты, моральные философы, политологи и представители других социальных наук. Но самое главное состоит в том, что законодатели и высшие суды в своем правотворчестве во всех странах (и в не меньшей степени и в России) исходят прежде всего именно из так или иначе осознаваемых политико-правовых соображений (как минимум тогда, когда они в принципе осуществляют это правотворчество добросовестно). Не имея опоры в правовой науке, они, зачастую искренне желая достичь неких общественно-полезных результатов, чаще всего осуществляют регулятивный выбор сугубо интуитивно. К сожалению, этот выбор далеко не всегда оказывается удачным. При этом часто регуляторы некритически воспринимают нормативные предложения экономической науки без учета важнейших правовых соображений системной согласованности позитивного права или учета ценностей справедливости и иных этических принципов, которые выходят за рамки экономической методологии. Иначе говоря, если юристы не занимаются правовой политикой, это значит, что они принципиально отказываются строить развитие позитивного права на рациональных и объективных началах, смиряясь с тем позитивно-правовым материалом, которым их обрадуют официальные правотворцы. Нас такой подход категорически не устраивает. Можно серьезно спорить с Марксом, который отвел праву исключительно роль надстройки над экономической структурой общества, несколько принижая значение влияния на право со стороны культуры и религии, а также обратного влияния культуры, религии и права на структуру экономических отношений <1>. Судя по всему, классический марксизм, действительно, недостаточное внимание уделял ряду сложных взаимосвязей этих различных систем, а также недооценивал определенную ригидность частноправовой догматики как таковой. ——————————— <1> Маркс К. К критике политической экономии. М., 2010. С. 6 — 7.
В частности, очевидно, что очень часто именно правовые реформы предшествуют формированию тех или иных социально-экономических и культурных реалий и стимулируют их возникновение и изменение. Так, например, во многих обществах (особенно в странах догоняющего развития) предварительное признание права частной собственности и договорной свободы в позитивном праве являлось не следствием, а инструментом формирования рыночной экономики как таковой или легитимации ее начавшегося стихийного развития, а также разрушения коллективистской и патерналистской социальной структуры «сверху». Поэтому соотношение позитивного права и социально-экономического и культурного контекстов вряд ли можно описать исключительно в рамках модели базиса и послушно движущейся за ним надстройки. Взаимодействие всех этих элементов, видимо, куда более сложное и строится на началах взаимозависимости. Тем не менее трудно не признать, что право в значительной степени функционирует по описанной Арнольдом Дж. Тойнби модели «вызов-ответ» <1>. Это легко увидеть, если задаться вопросом о том, что заставило правительства постсоветских стран вводить в позитивное право признание и защиту частной собственности, а также декларировать договорную свободу и отпускать на свободу цены. Посредством введения или изменения позитивно-правовых норм государство и общество, как правило, пытаются дать регулятивный ответ на вновь возникшие экономические, нравственные и культурные вызовы, исходящие из социальной системы в целом. Иногда этот ответ задерживается, и в позитивном праве сохраняются решения, введенные в свое время в ответ на некие прежние исторические вызовы, давно утратившие свое функциональное оправдание. Но, как правило, рано или поздно эти анахронизмы отступают под давлением новых жизненных реалий. Это предопределяет постоянную и нескончаемую эволюцию позитивного права и относительность любых позитивно-правовых догм <2>. ——————————— <1> Данная предложенная Тойнби (см.: Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории: Сб. М., 2002) историософская концепция, безусловно, вряд ли способна объяснить формирование, развитие и гибель всех цивилизаций. Тем не менее она имеет высокое объяснительное значение, особенно в отношении развития ряда социокультурных институтов (политической системы, производственных отношений, деловой этики, правового регулирования оборота и прав собственности и т. п.). Подвижки в этих сферах очень часто стимулируются появлением новых вызовов, с которыми перестает справляться прежние институты. <2> Hogg M. Promises and Contract Law. Comparative Perspectives. Cambridge University Press, 2011. P. 173.
В этой связи стоит констатировать, что реальное позитивно-правовое наполнение принципа свободы договора и ограничения этого принципа всегда находились и находятся под значительным влиянием экономических, социальных, этических, культурных и даже религиозных идей и реалий, без понимания роли которых юрист не в силах осознать истинные приводные ремни развития данного правового явления и предложить адекватные пути реформирования. Так, например, отказ классического римского права оценивать эквивалентность обмениваемых благ, развитие института laesio enormis в позднем римском праве и Средние века, снижение его популярности в XIX в. и некоторое воскрешение в веке XX — все это отражало изменения в соотношении уходящих корнями в аристотелевскую и христианскую этику представлений о справедливости акта обмена, с одной стороны, и утилитарных соображений о пользе торговли, иммунизированной от государственного вмешательства и патернализма, и либеральных идей об автономии частной воли — с другой. В той же мере возникновение в XX в. детального регулирования ограничения договорной свободы в отношении трудовых, потребительских договоров и договоров, заключенных на стандартных условиях, а также договорных отношений монополистов невозможно понять в отрыве от реальных подвижек в структуре торговли, демократизации общества и развития доктрины государства всеобщего благосостояния. В равной мере без анализа политики права трудно понять, почему французское право столь упорно отказывало судам в праве снижать договорную неустойку в течение всего XIX в., а в 1970 — 1980-е гг. дало судам право снижать неустойку не только по просьбе должника, но и по собственной инициативе. По нашему убеждению, если юрист не привык смотреть на развитие позитивного права в широком социально-экономическом, этическом и культурном контексте, он оказывается бессильным смоделировать экономические и иные практические последствия, к которым приведет принятие той или иной нормы. Если, например, юрист знает только то, как в российском и (в лучшем случае) зарубежном праве подходили и подходят к вопросу о снижении неустойки судом, но не вникает в истинные причины и цели предоставления судам такой дискреции и связь данного института с конкретными социально-экономическими условиями и этическими ценностями, ему крайне сложно давать продуманные советы законодателю или судам в отношении того, как следует подходить к возможности снижения неустойки, включенной в акционерные соглашения, или снижения договорных пеней до или даже ниже ставки рефинансирования. Иначе говоря, юрист, который видит только конкретные изменения в законах и судебной практике и не анализирует их истинные политико-правовые основания, подобен тому медику, который наблюдает ход болезни, но не осознает ее причины и не интересуется путями эффективного лечения. С учетом того, что позитивное право как таковое существует не само для себя, а именно для «лечения» и «профилактики», сугубо догматическая методология хотя и, безусловно, крайне важна и полезна, особенно для обеспечения системной согласованности права, упрощения преподавания и реалий практического правоприменения, но имеет достаточно ограниченные возможности применительно к выявлению глубинных социально-экономических истоков тех или иных правовых проблем и анализу данных проблем de lege ferenda. Иногда некоторые юристы (особенно цивилисты) считают, что их воззрения на право носят сугубо нейтральный характер и никак не связаны с той или иной экономической теорией или этической системой. Этот самообман или умышленное введение в заблуждение приходилось не раз наблюдать при анализе истории права. Так, например, немецкие пандектисты всеми силами пытались скрыть свои истинные политико-правовые (на самом деле либерально-экономические) пристрастия отсылками к догмам римского права. Только внимательный читатель, который начинает обращать внимание на то, почему те или иные римские нормы пандектистами догматизировались, а другие предавались забвению, мог осознать, что рецептивная избирательность и само направление процесса формирования логических конструкций, возводившихся пандектистами на основе обобщения римских норм, отражали доминирующие в среде немецких классических правоведов-цивилистов и близких им интеллектуальных и экономических кругах идеологические предпочтения, этические установки и экономические теории (в первую очередь ценности laissez-faire, включая невмешательство государства в свободу экономического оборота) <1>. ——————————— <1> Эту обманчивость кажущейся идеологической нейтральности цивилистики немецких пандектистов (Савиньи, Пухта, Виндшейд и др.) и их подспудную ориентацию на либерально-экономические ценности отмечают большинство историков права (см., например: Dawson J. P. The Oracles of the Law. University of Michigan Law School, 1968. P. 458; Stein P. Roman Law in European History. Cambridge University Press, 1999. P. 122; Merryman J. H., Perez-Perdomo R. The Civil Law Tradition. An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America. 3rd ed. Stanford University Press, 2007. P. 65; Reimann M. Nineteenth Century German Legal Science // Boston College law Review. 1990. Vol. 31. Issue 4. P. 892; Wieacker F. A History of Private Law in Europe. Oxford: Clarendon Press, 2003. P. 349).
Аналогичная ситуация имела и отчасти имеет место и в других странах. Судьи общего права в рамках так называемой «декларативной теории» долгое время (в США как минимум до 1930-х гг.) пытались создать видимость того, что их решения, революционно максимизирующие сферу договорной свободы, есть некая механическая дедукция и чуть ли не единственно возможное следствие неких непреложных естественных истин, которые суды лишь декларируют, но ни в коем случае не их собственное креативное правотворчество. Представители французской школы экзегезы в XIX в. настаивали на том, что вся правовая наука сводится к комментированию кодекса, а французский Кассационный суд до сих пор практически не упоминает в своих решениях политико-правовые аргументы, притворяясь, что все решения даже в самых спорных, пробельных зонах закона он якобы выводит напрямую из толкования Гражданского кодекса. Такой подход был всегда куда более безопасен для юристов и правотворцев. Всегда намного проще проводить в жизнь свои идеи, в реальности основанные на оценке справедливости и комплексе утилитарных соображений, представляя аргументацию в качестве идеологически нейтральных дедукций из неких непреложных аксиом, даже если они на самом деле никакие не аксиомы и отсылки к ним носят чисто фиктивный характер. С риторической точки зрения техническое «камуфлирование» творческих инноваций под механическое следование формальной логике, представление своего субъективного мнения в качестве интерпретации неких авторитетных источников и сокрытие истинных — идеологически далеко не нейтральных — мотивов вызывает меньше сопротивления и упрощает принятие тех или иных идей. Куда сложнее честно раскрывать истинную политико-правовую подоплеку принимаемых решений или выдвигаемых предложений, тем самым демонстрируя их рукотворность и неизбежно вскрывая их имманентный субъективизм. Но претензия на идеологическую нейтральность — это не всегда осознанный риторический прием, упрощающий убеждение оппонента. Часто это зачастую банальный самообман, вызванный неотрефлексированностью собственных идеологических предпочтений или предубеждений. Поэтому пока юрист тщательно не осознает собственные экономические и этические воззрения хотя бы на самом общем уровне, его правовые взгляды не будут сколько-нибудь последовательными и логичными. Ученый в современных условиях не может позволить себе не видеть тех глубоких идеологических (экономических, но также и этических, философских и иных) оснований, из которых вытекают базовые юридические принципы, доктрины и идеи. Следует помнить, что за каждой prima facie чисто технической дискуссией юристов скрываются некие более или менее важные политико-правовые ставки, идеологические или этические установки и экономические доктрины, независимо от того, осознают это участники спора или нет <1>. ——————————— <1> См.: Kennedy D. The Political Stakes in «Merely Technical» Issues of Contract Law // European Review of Private Law. 2002. Vol. 10. Issue 1. P. 7 — 28.
Тем не менее при всей очевидности этих тезисов куда проще призывать к анализу политики права, чем такой анализ предпринять. Долгое время не существовало в принципе какой-либо научной методологии такого анализа (не считая естественно-правовых интуиций), что в некоторой степени препятствовало активному обращению цивилистов к изучению содержательной рациональности частного права, и в особенности проблемы договорной свободы. Полноценный научный анализ политики права начал развиваться только в XX в., особенно активно — в последние 30 — 40 лет. Но до сих пор говорить о формировании некой однозначной и всеобъемлющей методологии научного анализа политики права рано. Основная причина этого положения дел состоит в том, что попытка более широкого подхода к правовой методологии и выход за рамки сугубо исторического, толковательного или формально-логического подходов чреваты серьезными эпистемологическими сложностями. Более широкий взгляд на правовые проблемы требует погружения в отрасли науки, о которых у юристов часто недостаточно знаний (социология, экономика, моральная философия и т. п.). Понимание того факта, что проведение элементов междисциплинарности в научном исследовании в области правовой проблематики требует предварительного изучения соответствующей литературы и освоения чуждого научного аппарата, часто становится серьезным барьером для использования такой научной методологии. Кроме того, возникают серьезные риски не учесть всех нюансов соответствующих внеправовых научных дискурсов, выдвинуть поспешные суждения и ошибиться в прослеживании тех или иных каузальных междисциплинарных взаимосвязей. Эту проблему следует воспринимать очень серьезно. Но следует осознавать, что это универсальная методологическая проблема всех междисциплинарных исследований в любых областях социальных и естественных наук. В то же время, несмотря на все эти вызовы, современные социальные науки в зарубежных странах развиваются во многом в сторону этого междисциплинарного уклона. На каком-то этапе развития научного дискурса в любом научном домене ему требуется глоток свежего воздуха, некие новые ракурсы постановки традиционных вопросов и методы анализа. Так, например, в сфере анализа правовых проблем возникают правовая социология, криминология и криминалистика, правовая антропология, экономический анализ права, правовая психология и многое другое. Аналогичные процессы происходят и вне правовой науки. Так, например, соединение методологии классической политологии, неоинституциональной экономики и теории игр порождает возникновение крайне влиятельной теории публичного (общественного) выбора, а современная эволюционная антропология уже не мыслится без методов эволюционной психологии и палеогенетики. Примеры можно только продолжать. Междисциплинарность является одним из наиболее ярких трендов современной науки в целом. И во всех этих случаях ученые, сталкиваясь с естественными эпистемологическими проблемами и «трудностями перевода», не останавливаются перед ними и, принимая неизбежность возможных ошибок и неточностей, методом проб и ошибок формируют важнейшие для современной науки междисциплинарные течения и теории. Не видим причин бояться всех связанных с этим научным подходом сложностей и мы. Несмотря на очевидные проблемы методологической неопределенности, современный ученый просто не вправе игнорировать прямой анализ того, каким позитивное право должно быть с содержательной точки зрения. Кристаллизовать методологию политико-правового анализа можно, только пытаясь такой анализ проводить. Еще каких-то 100 — 200 лет назад теоретики экономической науки, правоведы и моральные философы говорили на одном языке или как минимум живо интересовались проблематикой и методами смежных научных доменов. С учетом колоссального объема накопленного с тех времен научного знания в каждой из этих областей знания вернуться во времена ученых-энциклопедистов вряд ли возможно, но пытаться понимать друг друга и искать точки соприкосновения можно и нужно. Настоящая статья посвящена достаточно узкому вопросу — экономическим основаниям принципа свободы договора. Будучи ограниченными форматом научной статьи, мы исключаем из анализа или затрагиваем лишь вскользь ничуть не менее важные этические и философские основания данного принципа и основания его ограничения (вопросы личной свободы, этические издержки неограниченного патернализма и т. п.) <1>. В центре нашего внимания — вопрос о том, какие имеются экономические основания держаться идеи судебного признания условий заключенных сторонами частных сделок. ——————————— <1> Данные вопросы будут подробно проанализированы в готовящейся к выходу в 2012 г. книге «Свобода договора и ее пределы», написанной автором настоящей статьи в соавторстве с А. И. Савельевым.
Экономический анализ оснований принципа свободы договора: вводные замечания
Джон Мейнард Кейнс в свое время отмечал, что многие люди практического толка, которые считают себя совершенно не подверженными интеллектуальным влияниям, сами того зачастую не замечая, являются рабами какого-нибудь экономиста прошлого <1>. Та же ситуация и в праве. Система юридических взглядов любого судьи, законодателя или даже ученого-правоведа находится под прямым влиянием тех экономических воззрений, которые он вольно или невольно впитал в студенческие годы и закрепил позднее посредством собственного жизненного опыта. Юрист может вполне искренне верить в то, что его подход к правовому анализу абсолютно нейтрален и подчинен одной лишь внутренней логике права, но на самом деле чаще всего он лишь невольно придает системную согласованность тем или иным экономическим теориям. ——————————— <1> Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М., 1978. С. 458.
Как уже отмечалось, классические европейские цивилисты XIX в. интернализировали и вводили внутрь правовой догматики многие ценности в то время доминирующей экономической идеологии laissez-faire, многие советские цивилисты прямо или косвенно обслуживали установки экономической теории плановой экономики, а современные европейские цивилисты в основном транслируют в теорию гражданского права и формируемые ими акты унификации европейского частного права ценностной «микса» из либерально-экономический идей и идеологии экономики всеобщего благосостояния. Тем не менее далеко не всегда этот ценностной выбор оказывается вполне осознанным. Связано это во многом с отсутствием опыта и практики думать о правовых проблемах с экономической точки зрения. Не секрет, что способы мышления юристов и экономистов настолько различаются, что они часто не могут друг друга понять даже тогда, когда думают об одном и том же социальном феномене. Как верно отмечал Фридрих Август фон Хайек, «пагубные последствия специализации знания особенно сказываются в двух старейших дисциплинах — в экономической теории и юриспруденции… Правила справедливого поведения, изучаемые юристом, служат основанием определенного порядка, характерные свойства которого остаются юристу неизвестными, а изучением этого порядка занимается, главным образом, экономист, который, в свою очередь, мало что знает о характерных особенностях правил поведения, на которых покоится изучаемый порядок» <1>. ——————————— <1> Хайек Ф. А. фон. Право, законодательство и свобода: современное понимание либеральных принципов и справедливости и политики. М., 2006. С. 23.
И проблема здесь не только в том, что юристы перестали понимать экономический вокабуляр и считать необходимым знать элементарные законы микроэкономики или следить за дискуссиями в области экономической науки, но и в том, что экономисты на некоторое время (не считая взлета американской институционалистской экономической теории в период до Второй мировой войны) утратили интерес к правовой проблематике, а впоследствии, вернувшись к ней к 1970-м гг., очень часто не уделяют должного внимания множеству важнейших правовых деталей, без которых глубинное понимание экономических аспектов права достаточно затруднено <1>. ——————————— <1> На эту проблему невнимательного отношения экономистов к юридическим тонкостям обращал внимание еще Л. Петражицкий (Петражицкий Л. И. Введение в науку политики права. С. 36).
Иначе говоря, мы имеем очевидный дефицит взаимопонимания. В то же время как минимум с точки зрения юридической науки достаточно очевидно, что без серьезного изучения экономических последствий действующих норм гражданского права и предложений по его реформированию гражданско-правовая наука, как уже отмечалось, сегодня развиваться уже не может. Ученым все сложнее игнорировать тот факт, что позитивное частное право как в форме законодательных реформ, так и в форме судебного правотворчества развивается в реальности во многом именно для решения конкретных экономических проблем и именно под влиянием изменений социально-экономического базиса. Как покажет дальнейший анализ, с экономической точки зрения свобода договора является проявлением в области права идеи о свободной экономической деятельности и неотъемлемым признаком и необходимым условием функционирования рыночной экономики в целом. В те периоды истории, когда рыночная экономика становилась более интенсивной и свободной от государственного контроля, существенно расширялась сфера реальной свободы договора в позитивном праве (классическое римское право, частное право развитых западных стран XIX в.). И наоборот, в условиях деградации или замены рыночной экономики на натуральные или плановые методы организации экономической жизни, а также в условиях резкого возрастания конкурирующих ценностей социальной или коррективной справедливости утилитарная ценность договорной свободы в той или иной степени снижалась, а в позитивном праве вводилось множество ограничений свободы договора (средневековое право европейских стран, плановая экономика «народных демократий» или возникшие в XX в. современные западные государства всеобщего благосостояния). Некоторые авторы отмечали, что цивилисты, для большинства из которых экономика — это terra incognita, часто неосознанно угадывают верные с экономической точки зрения правовые решения, так как они в силу укорененных в частноправовой догматике принципов исходят из приоритета частных интересов, в то время как рыночная экономика, собственно говоря, в свое время и породившая соответствующие нормы и принципы, покоится именно на том же идеологическом фундаменте <1>. Думается, что в ряде случаев это действительно так. Современная западная цивилистика есть в значительной степени порождение римской рыночной экономики и во многом питается новым всплеском рыночных отношений Нового времени. Поэтому было бы странно, если бы у цивилистики и рыночной экономической теории не было бы общих тем и принципов. Но также вполне очевидно, что сама вероятность такого «угадывания» в отношении экономических последствий предложений de lege ferenda не столь высока, как хотелось бы. Это особенно наглядно видно, когда перед цивилистом встают задачи в области защиты прав потребителя, работника по трудовому договору, допущения свободы договора в корпоративных отношениях, регулирования секьюритизации и оборота финансовых инструментов, злоупотребления доминирующим положением при согласовании договорных условий и т. п. В такого рода вопросах классическая цивилистика, основанная на абсолюте автономии воли, способна предложить только самые простые и не приемлемые в современных условиях решения в духе тотальной договорной свободы, но не в состоянии обосновать их аргументами из области оценки реального воздействия соответствующего правового решения на условия экономического оборота. Классическая и «не замутненная» политикой права цивилистика в духе пандектной научной методологии потребует воспринимать эти нормативные импликации в качестве механических дедукций из якобы априорных постулатов и откажется их критически обсуждать. Безусловно, в современных условиях законодатели и суды такие рекомендации обычно игнорируют. В тех случаях, когда они пытаются добросовестно творить правовые нормы (а это происходит далеко не всегда), их интересует оценка ожидаемого регуляторного воздействия соответствующей правовой инновации. ——————————— <1> Петражицкий Л. И. Введение в науку политики права. С. 169 — 170.
Соответственно, для по-настоящему глубокого понимания сути важнейших правовых принципов и решений в области договорной свободы нам неминуемо следует осознать их роль в широком экономическом контексте. Современная юриспруденция ряда ведущих зарубежных стран (таких, например, как США или Германия) в последние годы, хотя и с разной скоростью, движется навстречу экономической науке, вырываясь из цепких объятий голой догматики позитивного права и формальной логики. В частности, вопросы пределов свободы договора в США давно изучаются и передаются в том числе и как проблемы экономической политики <1>. Все чаще к использованию экономического анализа договорной свободы прибегают и европейские правоведы <2>. Так, например, достаточно перечитать второй том хорошо известной в России классической работы немецких цивилистов К. Цвайгерта и Х. Кетца о сравнительном правоведении <3>, чтобы увидеть явные признаки проникновения экономического анализа договорного права в рамки классического европейского цивилистического дискурса. ——————————— <1> См., например: Handbook of Law & Economics / A. Mitchell Polinsky, S. Shavell (eds.). Vol. 1. Elsevier, 2007. P. 18 — 57. <2> См., например: Wagner G. Op. cit. P. 47 ff.; Cserne P. Freedom of Choice and Paternalism in Contract Law: a Law and Economics Perspective // German Working Papers in Law and Economics. 2006. Paper No. 6; Smorto G. Efficiency and Justice in European Contract Law // European Review of Private Law. 2008. Vol. 16. Issue 6. P. 925 — 948. <3> Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. Т. 2. М., 2000. С. 8 — 31 (здесь вопросы договорной свободы анализируются в том числе в контексте социально-экономической эволюции, проблем Парето-оптимизации, переговорных возможностей и т. п.). Это неудивительно с учетом того, что Х. Кетц является одним из видных немецких экспертов в области экономического анализа права, а Германия — одной из тех европейских стран, в которых экономический анализ права хотя и не исключил классическую догматическую методологию, но укоренился достаточно прочно. Обзор обширной немецкой литературы по экономическому анализу права см.: Kirstein R. Law and Economics in Germany // Encyclopedia of Law and Economics / B. Bouckaert, G. de Geest (eds.). Vol. 1. Edward Elgar Publishing, 2000 (доступно в Интернете по адресу: http://encyclo. find-law. com/0330book. pdf).
Экономический анализ права, активно развивающийся во многих странах в последние 40 лет, является далеко не бесспорной, но, пожалуй, первой попыткой предложить некоторую относительно ясную методологию правовой науки, вырвавшейся из оков догматической научной методологии еще в начале XX в. (в частности, благодаря движению за свободное право и юриспруденции интересов в Германии и прагматической юриспруденции и школе правового реализма в США), но не способной определиться с принципами политико-правового анализа. Как отмечал Рональд Коуз, большая часть юридической научной литературы долгое время «представляла собой своего рода коллекционирование марок; появление же экономического анализа права начало эту ситуацию менять» <1>. Но и в ведущих западных странах еще очень далеко до формирования полноценного экономического анализа принципа договорной свободы и политики частного права в целом. До сих пор, как справедливо отмечает Эрнандо де Сото, «редкие юристы понимают экономические последствия своей деятельности» <2>. Экономический анализ права имеет множество ограничений и пока может предложить ценные для правовой науки и развития права позитивные и нормативные выводы далеко не во всех областях частного права. ——————————— <1> Coase R. Law and Economics at Chicago // Journal of Law and Economics. 1993. Vol. 36. P. 254. <2> Сото Э. де. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всем остальном мире / Пер. с англ. Б. Пинскер; Науч. ред. Р. Левита. М., 2004. С. 200.
Но в нашей стране этот интегративный процесс по большому счету так до сих пор и не начался. Соответственно, осмысление таких правовых феноменов, как свобода договора, через призму их экономической роли до сих пор выглядит достаточно экзотично, но от этого не менее актуально. Здесь, правда, нужно уточнить во избежание ложных иллюзий, что найти в экономической науке четкие ответы на все интересующие нас вопросы договорной свободы, как, впрочем, и правовой политики в целом, вряд ли удастся. Как справедливо отмечал Кейнс, экономика предлагает не набор готовых заключений, а способ анализа проблем <1>. Экономическая наука отнюдь не является точной наукой. В ней ведутся очень жаркие споры между различными течениями и школами. В результате, как однажды пошутил Рональд Рейган, если бы в игру «Счастливый случай» сыграли экономисты, ее ведущий получил бы на 100 вопросов 300 разных ответов <2>. ——————————— <1> Цит. по: Veljanovski C. G. Economic Principles of Law. Cambridge University Press, 2007. P. 19. <2> Мэнкью Н. Г. Принципы макроэкономики. 2-е изд. М., 2004. С. 57.
Следует быть реалистом. Глупо предполагать, что современная экономическая наука в полной мере осознает все нюансы функционирования экономики и тем более может объяснить все правовые феномены. Несмотря на то что современные физиологи или астрономы знают о человеческом мозге и устройстве галактик намного больше, чем 200 лет назад, этих знаний все равно далеко не достаточно, чтобы с абсолютной уверенностью отвечать на многие вопросы, точно давать рекомендации и делать надежные предсказания. В той же степени и экономическая наука со времен испанских схоластов, французских физиократов и Адама Смита накопила солидный багаж знаний, но все еще неспособна точно высчитывать экономические циклы, безошибочно предсказывать кризисы и прописывать бесспорные рекомендации политикам. Экономическая политика не может быть просчитана на компьютере при предварительном введении в него неких «непреложных» экономических законов. Многие переменные невозможно просчитать с абсолютной точностью: это и важнейший культурный фактор, и роль доминирующих этических и религиозных установок, и пресловутый этнический менталитет, и труднопредсказуемые всплески массовой иррациональности и ажиотажа, и роль отдельных пассионарных личностей, и колебания в геополитической обстановке, и сложная система взаимовлияния различных экономик в современном глобализованном мире, и многое другое. Кроме того, зачастую у экономистов не хватает точных статистических данных, а анализ доступного эмпирического материала не всегда бесспорен из-за сложностей в выявлении причинно-следственных связей. Тем не менее экономическая наука, безусловно, развивается, наблюдая за теми или иными реальными феноменами, экспериментами правительств различных стран, разнообразными кризисами, взлетом отдельных более удачливых (например, некоторых восточноазиатских) или стагнацией менее удачливых (например, ряда латиноамериканских и африканских) стран и накапливая все новые и новые данные, позволяющие уточнять и корректировать ее базовые установки. Такие новации, как, например, бихевио-экономический анализ ограниченной рациональности или изучение проблемы информационной асимметрии, позволяют более точно просчитывать последствия реакций людей на те или иные внешние стимулы и объяснять многие феномены, которые раньше не находили убедительных объяснений в рамках экономической науки. Вопрос об экономической роли договорной свободы стал предметом серьезного экономического анализа, по сути, с момента формирования современной экономической теории. Многие аспекты данной проблематики (в том числе ограничение процентных ставок, противодействие навязыванию некоторых договорных условий работникам, антиконкурентные соглашения и т. п.) анализировал в свой знаменитой книге «О природе и причинах богатства народов», во многом заложившей фундамент классической экономической теории, Адам Смит. Благодаря продолжавшимся в XIX и XX вв. научным спорам и накоплению опыта правоприменения современное понимание экономической подоплеки принципа свободы договора и его ограничений в значительной степени углубилось по сравнению с воззрениями Смита, Рикардо и Милля и других классиков экономической науки. Некоторые важные закономерности и методы научного анализа были открыты позднее (например, маржинальный анализ) и уточнялись в процессе споров сторонников разных экономических теорий (например, кейнсианцев, пост-кейнсианцев, неокейнсианцев, «австрийцев», институционалистов, анархо-капиталистов, сторонников немецкого ордолиберализма, монетаристов, апологетов теории государства всеобщего благосостояния и др.). Любому читателю, решившему расширить свои знания для лучшего понимания роли договорной свободы в экономическом развитии, можно порекомендовать ознакомиться с рядом современных учебников по экономике, и в частности по институциональной экономике <1>. Там читатель найдет детальное изложение основных законов спроса и предложения, функций свободного колебания цен, причин неэффективности искусственного ограничения свободы договора, деструктивной и позитивной роли монополий, роли трансакционных издержек, а также огромный объем иной полезной информации, без которой продуктивный политико-правовой анализ правового принципа договорной свободы, в котором все эти экономические закономерности и установки в той или иной степени отражаются, будет затруднен. ——————————— <1> Из тех учебников, которые изданы на русском языке, можно в качестве примеров привести: Самуэльсон П. Э., Нордхаус В. Д. Экономика: Пер. с англ. 18-е изд. М., 2010; Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с англ. 16-е изд. М., 2006; Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория. М., 2010; Кузьминов Я. И., Бендукидзе К. А., Юдкевич М. М. Курс институциональной экономики: институты, сети, трансакционные издержки, контракты. М., 2006.
В результате диалектического процесса развития экономической науки некоторые экономические законы на настоящий момент перестали вызывать серьезные сомнения у большинства экономистов. Такие принципы сейчас входят в «жесткое ядро» доминирующей последние 200 лет версии экономической теории и фундаментально, как правило, не оспариваются. И среди них — идея экономической оправданности договорной свободы в качестве базовой, хотя и опровержимой в ряде случаев презумпции. Безусловно, как и в любой науке, в экономике существуют некоторые периферийные, радикальные течения, выдвигающие кардинально отличающиеся представления о договорной свободе. Так, например, думается, существует некоторое число убежденных экономистов-коммунистов (в Северной Корее, например, или некоторых иных странах). В полной мере признавая право на существование любых научных течений в экономике и по возможности избегая их критического анализа, юрист, пытающийся понять экономические ставки в вопросе о свободе договора, как минимум для начала должен разобраться с тем, что ему предлагает «мэйнстрим» экономической науки. Погрузившись в экономический научный дискурс достаточно глубоко, юрист получает некое моральное право пытаться критически оценивать соответствующие экономические теории и, полностью раскрывая свои экономические убеждения, пытаться убедить коллег-юристов в необходимости реализации нормативной правотворческой программы, вытекающей из некоторой радикальной экономической теории. Мы со своей стороны, не будучи уверенными в достаточности своих познаний в области экономической теории для столь смелых выводов, в рамках данной статьи по возможности ограничимся лишь выведением тех экономических принципов и выводов, которые разделяются сейчас, судя по доступным нам источникам, большинством экономистов, юристов и политиков. Собственные критические оценки вопросов экономической теории мы будем позволять себе только в тех случаях, когда у нас имеется достаточная убежденность в верности наших суждений. Осуществляемый таким образом экономический анализ, конечно же, не является неким «волшебным ключом», которым можно открыть все «двери» политико-правового анализа договорной свободы. Вопросы этики имеют не менее важное политико-правовое значение. Но экономический анализ действительно помогает приблизиться к пониманию глубинной сущности тех вопросов, которые юристы-догматики обычно либо вовсе не обсуждают в силу отсутствия внятной методологии, либо затрагивают самим поверхностным образом, зачастую неосознанно транслируя в свои рассуждения отдельные элементы некритически усвоенных представлений об экономике.
Экономическое понимание договорной свободы как базовой опровержимой презумпции
Как было отмечено выше, одно из, как правило, не подвергаемых фундаментальному оспариванию в экономической теории воззрений состоит в экономической оправданности организации рыночного оборота на основах автономии воли сторон частных сделок. Ученые часто спорят об экономической оправданности отдельных ограничений и опровержения данной базовой презумпции (например, в сфере антимонопольного права или защиты потребителя как слабой стороны договора). Но, пожалуй, подавляющее большинство экономистов согласятся с тем, что свобода договора в сочетании с приданием условиям договора судебной защиты — наиболее эффективная регулятивная стратегия, которую государству стоит реализовывать в сфере договорных отношений как минимум тогда, когда не приводятся убедительные аргументы в пользу желательности обратного подхода. Такая экономическая политика отдает параметры оборота на усмотрение его участников, обеспечивает стабильность деловых связей и создает уверенность в исполнении принятых обязательств, хотя и допускает некоторые продуманные исключения. Современное понимание экономической свободы вообще и свободы договора в частности далеко от догматизма и упрощений, свойственных радикальным либертарианцам и коммунистам. Подавляющее большинство экономистов пытаются найти некий разумный компромисс между государством и рынком. Это стремление объединяет как убежденных сторонников экономической свободы и laissez-faire, так и сторонников усиления государственного контроля над рыночными процессами. Так, Милтон и Роуз Фридманы пишут, что «вопрос не в том, что вмешательство правительства не может быть оправдано, а в том, что бремя оправдания должно лежать на его сторонниках» <1>. Похожую мысль высказывает и ярый оппонент Фридмана, нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц, отмечающий, что реальная проблема сейчас состоит в нахождении разумного баланса между рынком и правительственным вмешательством, который, безусловно, будет различаться в разное время и в разных местах <2>. В общем и целом эта точка зрения разделяется сейчас подавляющим большинством экономистов, не считая разве что немногочисленных сторонников анархо-капитализма и плановой экономики, далеких от экономического мэйнстрима. ——————————— <1> Фридман М., Фридман Р. Свобода выбирать. М., 2007. С. 47. <2> A Q&A; with Joseph Stiglitz (http:// economistsview. typepad. com/ economistsview/ 2006/ 10/ joseph_stiglitz. html).
Иначе говоря, большинство современных экономистов согласны с тем, что договорная свобода должна рассматриваться как базовая презумпция, споря, по сути, лишь о количестве исключений. В условиях двухвекового доминирования этого базового экономического консенсуса идея свободы договора как опровержимой презумпции стала краеугольным камнем в фундаменте современной рыночной экономики развитых и активно развивающихся стран. Джон Стюарт Милль, развивая во второй половине XIX в. идею Смита о невмешательстве государства в свободу экономического оборота как некой презумпции, отступление от которой может быть оправдано в отдельных случаях, выразил ее достаточно четко. Так, резюмируя анализ отдельных случаев допустимого вмешательства государства в сферу договорной свободы, он писал: «Общепризнанные функции государственной власти простираются далеко за пределы любых ограничительных барьеров, и функциям этим вряд ли можно найти некое единое обоснование и оправдание, помимо соображений практической целесообразности. Нельзя также отыскать какое-то единое правило для ограничения сферы вмешательства правительства, за исключением простого, но расплывчатого положения о том, что вмешательство это следует допустить исключительно при наличии особо веских соображений практической целесообразности» <1>. В другом месте он выразил эту крайне важную идею еще более лаконично. Милль писал, что «laissez-faire должно быть общим правилом» и «всякое отступление от него будет очевидным злом», если только оно не оправдывается «какой-либо громадной пользой» <2>. ——————————— <1> Милль Дж. С. Основы политической экономии: В 3 т. Т. 3. М., 1981. С. 151 — 152. <2> Милль Дж. С. Указ. соч. С. 350.
Мы со своей стороны полностью эту идею поддерживаем и попытаемся далее подкрепить данный тезис экономическими аргументами.
Теория рационального выбора как основание принципа свободы договора
На чем же основывается уверенность экономистов в том, что оставление экономического оборота на откуп частной инициативе контрагентов, автономии их воли и договорной свободе и эффективное обеспечение судебной защиты договорных прав силами государственного принуждения как минимум по общему правилу есть лучшая стратегия государства? Как справедливо отмечал выдающийся экономист Дуглас Норт, «в явном или скрытом виде все теоретические исследования в области социальных наук опираются на некоторые концепции человеческого поведения» <1>. Действительно, в области социальных наук (будь то экономика или юриспруденция) любая теория не может не опираться на некое обобщающее представление о природе человека и доминирующих моделях его поведения. В полной мере осознавая наличие исключений, ученые, работающие в рамках одной научной парадигмы, обычно соглашаются в отношении неких базовых характеристик индивида и мотивов его поведения. В доминирующих в XIX — XX вв. экономических теориях и во многом производных от них теориях договорного права таким базовым методологическим консенсусом о природе человека, вступающего в договорные отношения, являлось согласие в отношении рациональности его поведения и более общего феномена рациональности индивидуального выбора (rational choice theory) <2>. ——————————— <1> Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., 1997. С. 34. <2> Краткий анализ сути данной теории и ее роли в правовом анализе см.: Ulen T. S. Rational Choice in Law and Economics // Encyclopedia of Law and Economics. B. Bouckaert, G. de Geest (eds.). Vol. 1. P. 790 ff. (доступно в Интернете по адресу: http://encyclo. findlaw. com: перевод на русский язык см.: Улен Т. С. Теория рационального выбора в экономическом анализе права // Вестник гражданского права. 2011. N 3. Т. 11. С. 275 — 315).
В самом общем виде согласно данной теории человек преимущественно ведет себя рационально и стремится максимизировать свою «целевую функцию», т. е. то, как он понимает свои собственные цели на основе соизмерения целей и средств, выгод и издержек. Данная теория имеет несколько вариантов. Первый, наиболее строгий вариант теории рационального выбора гласит, что в большинстве случаев основной мотив человеческого поведения — максимизация своего экономического благосостояния. Даже если указанное понимание человеческого поведения относить лишь к случаям заключения юридически значимых сделок, не претендуя на столь же редукционистское описание человеческого поведения в семейной, религиозной и иных сферах, такая версия представляется достаточно уязвимой. Легко привести примеры того, что люди и некоммерческие структуры, заключая договоры, очень часто имеют и реализуют цели, не связанные непосредственно с приращением материального богатства. Тем не менее нет никаких сомнений, что эгоистичная нацеленность на максимизацию своего собственного материального благосостояния (богатства) является все же доминирующей поведенческой стратегией подавляющего большинства коммерческих компаний, на которых приходится основная доля экономического оборота. Более того, стремление к умножению экономического благосостояния крайне характерно и для большинства граждан — участников современной гонки потребления в западных обществах. Люди хотят жить лучше, интереснее и веселее, а деньги и иные материальные блага позволяют эти стремления реализовывать. Поэтому страсть к умножению богатства является достаточно характерной и вполне естественной чертой современного человека, причем чем выше цена сделки, тем сильнее проявляется эта стратегия. Человек может в глобальном плане считать себя богаче и сложнее неприятного архетипа homo economicus и действительно в ряде вопросов вести себя альтруистично или непосредственно максимизировать свои нематериальные цели без использования денег в качестве «посредника». Тем не менее в сотнях ежедневно заключаемых экономических сделок человек вольно или невольно проводит калькуляции экономических издержек и выгод и, как правило, пытается избежать неоправданных затрат и увеличить материальную выгоду. С учетом сказанного модель рациональности, описывающую доминантную поведенческую стратегию как нацеленную на приумножение богатства, можно признать частично, хотя и далеко не полностью верной. Второй, несколько облегченный вариант теории рационального выбора предполагает, что в большинстве своем люди стремятся к удовлетворению своих эгоистичных интересов и желаний, независимо от того, являются они сугубо материальными или нет <1>. Многие считают своим приоритетным интересом увеличение свободного времени, рост своего влияния и власти над другими людьми, получение научного признания и другие не сугубо материальные достижения, не считая рост своего богатства оптимальным или доступным путем достижения данных целей. Описанная Гегелем и развитая А. Кожевым <2> идея жажды признания как движущей силы развития человеческой цивилизации предполагает различные способы достижения данного результата, помимо максимизации богатства. ——————————— <1> Идею о том, что экономическое поведение людей является преимущественно рациональным и инструментальным, но ни в коем случае не может сводиться к максимизации богатства, поддерживал, в частности, выдающийся представитель австрийской экономической школы Л. фон Мизес (см.: Мизес Л. фон. Теория и история: интерпретация социально-экономической эволюции. Челябинск, 2009. С. 184 — 185). <2> Кожев А. Введение в чтения Гегеля. СПб., 2003. С. 615 — 630.
Соответственно, при такой интерпретации, если человек, заключая сделку, не нацелен на прирост богатства или иного материального удовлетворения, а стремится напрямую удовлетворить свои нематериальные интересы (например, отказывается от более высокой зарплаты, связанной с предлагаемым повышением по службе, из-за нежелания уменьшать свое свободное время, которым придется неминуемо пожертвовать), его поведение также следует считать рациональным. Думается, подавляющее большинство трансакций в экономике совершается людьми если не для увеличения своего материального благосостояния, то как минимум ради обеспечения иных своих эгоистических интересов. По крайней мере когда речь идет о заключении юридически значимых сделок, это наблюдение представляется вполне точным. Исключения, конечно же, будут иметься. В ряде экономических сфер (например, в области благотворительности или мелких бытовых сделок) целевая функция может быть сугубо альтруистичной. Тем не менее достаточно очевидно, что по крайней мере в современном рационалистичном и индивидуалистичном мире трудно, к сожалению, ожидать того, что большинство людей будет склонно к устойчивой тенденции заключать сделки исключительно ради блага других людей, жертвуя своим собственным интересом. Расчеты трудно сопоставимых издержек и выгод производятся среднестатистическим участником оборота зачастую на интуитивном уровне. Но именно они, как правило, определяют выбор между покупкой продуктов в соседнем, но дорогом супермаркете за 5 тыс. руб. или двухчасовой поездкой в дешевый загородный гипермаркет для того, чтобы купить тот же объем товаров за 4 тыс. руб. При сравнении потери двух часов дороги и экономии в 1 тыс. руб. человек вольно или невольно выражает свое предпочтение и совершает ту сделку, которая направлена на увеличение его благосостояния в широком смысле этого слова. Если он решает купить более дорогой товар и потратить сэкономленное время на просмотр нового кинофильма, значит, ценность этого культурного досуга для него выше, чем потерянная на разнице цен сумма. Соответственно, совершенная сделка увеличивает благосостояние как дорогого супермаркета, так и покупателя, несмотря на то что последний при заключении сделки жертвует своей сугубо материальной выгодой. Когда люди заходят в метро, покупают фрукты или автомобиль, берут кредит для строительства дачи, продают свою квартиру, устраиваются на работу или меняют место работы, а равно когда они принимают сотни аналогичных решений по совершению тех или иных экономических трансакций, именно фактор максимизации собственной материальной или нематериальной выгоды доминирует среди тех или иных эвристических стратегий или по крайней мере наблюдается чаще других. В самом упрощенном виде эта стратегия проявляется в стремлении совершать наиболее выгодные для себя сделки. При этом в рамках второй модели рационального выбора могут быть признаны рациональными и некоторые формы альтруистического на первый взгляд поведения человека, в реальности мотивированного такими эгоистическими интересами, как стремление к славе, общественному признанию или к получению некоторых ответных выгод от бенефициара в будущем (так называемый реципрокный альтруизм). Наконец, третий, еще более облегченный и «инклюзивный» вариант теории рационального выбора позволяет объявить рациональным в том числе и альтруистичное поведение в чистом виде. Этот последний вариант интерпретации рациональности, пожалуй, наиболее близок к обыденному пониманию рационального поведения как любого действия, осуществляемого человеком осознанно. В этом случае заключение сделки считается рациональным даже тогда, когда человек делает это не для себя, а во имя блага других лиц или другого контрагента <1>. Здесь человек также преследует свои интересы — просто в данном конкретном случае его интерес и воля состоят в том, чтобы помочь другим. Интересы третьих лиц или другого контрагента (например, при дарении томографа медицинскому центру или покупке телевизора, который любит смотреть жена) «интернализируются» и с точки зрения субъективной шкалы предпочтений альтруиста оказываются выше, чем то, чем он для этого жертвует. Соответственно, рациональный расчет имеет место и здесь. Благотворитель может быть готов потратить на дар миллион рублей, но воздержаться от доброго дела, если речь пойдет о сумме, в два раза большей. В конечном итоге принятие решение о заключении сделки даже истинного альтруиста чаще всего осуществляется на основе того или иного сопоставления издержек и выгод. Тот факт, что здесь выгоды от сделки «экстернализируются», по существу, не лишают процесс принятия решения признака рациональности. ——————————— <1> Ричард Познер пишет, что счастье другого человека вполне может являться частью рациональных предпочтений человека (Posner R. A. Economic Analysis of Law. 5th ed. Aspen Publishers, 1998. P. 4) (см. также: Хейне П. Экономический образ мышления. М., 1991. С. 23 — 24).
Часто ли участники оборота, заключая сделки, преследуют сугубо альтруистические цели? Думается, что в деятельности коммерческих организаций это происходит крайне редко. В то же время многие некоммерческие организации в принципе имеют альтруистические цели своего существования и поэтому ряд своих сделок совершают, преследуя не свою выгоду, а обеспечивая интересы третьих лиц. Достаточно характерно такое поведение и в отношениях между людьми, особенно близкими родственниками. По сути, подавляющее число договоров дарения в нормальных условиях совершаются в рамках этой модели рациональности. Этот наиболее «инклюзивный» вариант теории рационального выбора можно представить в виде следующих основных принципов. Во-первых, в силу ограниченности экономических ресурсов и невозможности удовлетворения всех своих чаяний участник оборота вынужден делать выбор. Во-вторых, осуществляя этот выбор, человек ориентируется на свою субъективную систему предпочтений, но принимает во внимание и имеющиеся ограничения (например, величину собственных доходов и цены на желаемое благо). В-третьих, делая выбор и принимая во внимание свои предпочтения и ограничения, человек стремится оценить доступные альтернативы и сопоставить издержки и выгоды каждой. В-четвертых, оценивая различные альтернативы, человек стремится реализовать свою цель наиболее рациональным образом и пытается сделать такой выбор, который в наибольшей степени отвечает его интересам, максимизируя выгоды, которые могут включать и благосостояние других людей, и минимизируя издержки. В-пятых, при осуществлении выбора люди, как правило, соблюдают принципы устойчивости и транзитивности своих предпочтений, т. е. основываются на некой осознанной или подсознательной иерархии своих желаний. Если человек предпочитает поездку в заграничный тур приобретению нового костюма, а приобретение нового костюма ценит выше установки нового окна в своей квартире, то он должен ценить заграничный тур выше установки стеклопакета. В-шестых, информация для верного выбора ограничена, а поиск дополнительной информации влечет рост издержек. Соответственно, эти издержки составляют одну из форм ограничений, влияющих на совершаемый выбор <1>. ——————————— <1> Близкий набор принципов теории рационального выбора, в частности, дает В. С. Автономов (см.: Автономов В. С. Модель человека в экономической науке. СПб., 1998. С. 10 — 11).
Для нас очевидно, что наиболее адекватной является именно последняя, наиболее широкая интерпретация понятия рационального выбора. Подведем некоторые итоги. Подавляющее число сделок, совершаемых коммерческими компаниями, объяснимо в рамках первой модели рационального выбора (максимизация прибыли). При заключении же договоров гражданами максимизация благосостояния является, безусловно, крайне распространенной целью, но не менее часто контрактирование предопределяется нематериальными эгоистическими и достаточно часто альтруистическими целями, что может быть объяснено в рамках максимально широкой, третьей модели рациональности. При этом общественная полезность и экономическая оправданность принципа свободы договора могут быть обоснованы путем использования любой из вышеописанных моделей рациональности. Если в конкретной ситуации оба участника сделки нацелены на максимизацию богатства (как это чаще всего бывает в случае сделки между двумя коммерсантами), заключение сделки фиксирует тот факт, что оценка обоими контрагентами экономической отдачи от сделки оказывается положительной и оба в результате заключения сделки приумножают свое материальное благосостояние. Если один из участников сделки стремится в результате ее исполнения максимизировать свои неэкономические интересы, то и в данном случае свобода договора оказывается общественно полезной. Один участник может выигрывать в сугубо материальном плане, в то время как второй может приумножать удовлетворение своих нематериальных интересов. В конечном итоге оба выигрывают и получают дополнительное удовлетворение своих интересов так, как они их понимают. Если же один из контрагентов видит в сделке инструмент максимизации выгоды для третьего лица, следовательно, он оценивает то, что он отдает при исполнении этой сделки, меньше, чем выигрывает от ее исполнения третье лицо, чьи интересы контрагент интернализировал (т. е. оценивает как свои). Вряд ли найдется кто-то более приспособленный к тому, чтобы произвести такое сопоставление лучше, чем сам контрагент-альтруист. Поэтому, думается, можно достаточно легко доказать, что даже сделка между «эгоистом» и «альтруистом» общественно полезна: «эгоист» приумножает удовлетворение собственных эгоистичных желаний, а «альтруист», реализуя свои благородные цели, приумножает удовлетворение интересов третьих лиц или общества в целом. Таким образом, какая бы модель рационального выбора ни была задействована, вполне дескриптивно верно предположение о том, что люди в процессе заключения контрактов чаще всего должны действовать рационально, осознавая издержки и выгоды и стремясь максимизировать реализацию своих целей, как бы они ни понимали выгоды, издержки и сами цели. Соответственно, если при заключении договора не было пороков воли и иных процедурных дефектов, предположение о том, что сделка, скорее всего, будет приумножать общественное благосостояние, окажется в большинстве случаев точным. Рациональная природа человека делает его сравнительно наилучшим оценщиком собственных интересов и позволяет правовой системе установить презумпцию юридического признания этого расчета, отраженного в условиях договора. Кто может оценить интересы взрослого человека лучше, чем он сам? Думается, что чаще всего никто. Отсюда и тезис о презумптивной обоснованности принципа свободы договора. Конечно же, все описанные выше варианты теории рационального выбора являются некими усредненными упрощениями, позволяющими прогнозировать человеческое поведение в условиях той или иной институциональной (в том числе правовой) среды. В ответ на это могут возразить, что человек часто ошибается и далеко не всегда принимает самые оптимальные с точки зрения его собственной целевой функции решения. Современные исследования в области поведенческой экономики вскрыли множество сбоев рациональности человеческого поведения. Его предпочтения могут быть неустойчивыми, а выбор — нарушать закон транзитивности (например, реальный человек, в отличие от теоретической модели homo economicus, может в ряде случаев предпочесть А перед Б, Б перед В, но парадоксальным образом предпочесть В перед А). В ряде случаев человек может заключать сделки под влиянием эмоций, не осуществляя рациональный поиск варианта, максимизирующего его предпочтения. В некоторых других случаях его когнитивные возможности настолько ограничены, что он просто не в состоянии просчитать до конца последствия своего выбора. Кроме того, современные рекламные технологии достигли таких высот, что зачастую способны относительно эффективно манипулировать процессом выбора и принятия экономических решений <1>. Наконец, контрагент может не иметь доступ ко всей релевантной информации для осуществления осмысленного выбора и действовать отчасти интуитивно. ——————————— <1> Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты. М., 2003. С. 168.
Все эти оговорки следует принимать всерьез. Как с иронией отмечают некоторые исследователи, столь укоренившемуся в неоклассической экономической теории образу «экономического человека» может в полной мере соответствовать как минимум выдающийся математик <1>. В результате теория рационального выбора на практике в ряде случаев не срабатывает из-за проблемы ограниченной рациональности и ограниченного доступа к информации <2>. ——————————— <1> Там же. С. 132. <2> Критику реалистичности теории рационального выбора см.: Green D. P., Shapiro I. Pathologies of Rational Choice Theory. A Critique of Applications in Political Science. Yale University Press, 1994.
Правда, здесь следует уточнить, что отнюдь не все эти prima facie сбои теории рационального выбора означают, что человек ведет себя неразумно или глупо. Так, например, решение о заключении сделок без детального просчета всех издержек и выгод может быть вполне оправданным в силу того, что их оценка требует доступа ко всей релевантной информации (например, ценам конкурентов), а поиск данной информации имеет свои издержки, подчиняющиеся закону убывающей предельной отдачи. Например, иногда человеку разумнее решиться заключать договор почти вслепую, не читая и не пытаясь вникнуть в его условия, чем пытаться тратить силы и время на изучение и понимание договорных условий, так как риск столкнуться с неприемлемыми условиями просто несоразмерен цене сделки и дополнительным расходам, которые пришлось бы понести при попытке осуществить идеально рациональный выбор. Тем не менее нельзя не признать, что в ряде случаев люди (особенно потребители) при заключении сделок ведут себя поистине нерационально и конкретные заключаемые ими сделки могут действительно оказаться не отвечающими их интересам даже при учете трансакционных издержек доступа к релевантной информации и оценке всех договорных условий. В этой связи начиная с 1990-х гг. доминирующая неоклассическая микроэкономическая теория с ее идеей рациональности волеизъявления контрагентов и Чикагская школа экономического анализа права, абсолютизирующая договорную свободу, оказались под серьезным давлением представителей поведенческой экономической теории и бихевио-экономического анализа права <1>. Сторонники данных воззрений среди экономистов и юристов, как правило, не пытаются полностью опровергнуть теорию рационального выбора (представление о рациональности участников оборота и их способности заключать взаимовыгодные сделки) и не выступают за тотальный государственный патернализм. Тем не менее они обращают серьезное внимание на сбои в работе теории рационального выбора, систематизируют эти наблюдения и предлагают ограничивать свободу договора в целях устранения последствий таких сбоев куда чаще, чем это считалось возможным ранее. ——————————— <1> О бихевио-экономическом анализе права см. подробнее: Behavioral Law and Economics / C. R. Sunstein (ed.). Cambridge University Press, 2000; Jolls C., Sunstein C. R., Thaler R. Behavioral Approach to Law and Economics // Stanford Law Review. 1997 — 1998. Vol. 50. P. 1471 ff.; Korobkin R. B., Ulen T. S. Law and Behavioral Science: Removing the Rationality Assumption from Law and Economics // California Law Review. 2000. Vol. 88. P. 1051 ff.
Например, в рамках этих исследований фиксируется такое очевидное и характерное для большинства людей отклонение от идеального типа рациональности, как «сверхоптимизм» (overoptimism). Многочисленные эксперименты современных западных исследователей подтверждают, что в среднем люди склонны переоценивать свои возможности и недооценивать риски, формируя свои планы на будущее <1>. Издержки конкретного экономического решения, наступление которых в будущем не гарантировано и которые могут возникнуть лишь с незначительной долей вероятности, большинство людей склонны игнорировать или патологически недооценивать <2>. При этом возможность получения выгоды от совершения трансакции люди часто склонны существенно переоценивать. По мнению многих экспертов, во многом именно благодаря этому сбою человеческой рациональности в экономике постоянно возникают и разрастаются всевозможные финансовые и иные «пузыри», не остаются без работы разработчики самых примитивных «пирамид», а также заключаются договоры с драконовскими неустойками, учет которых в составе издержек удержал бы рационального контрагента от желания заключать договор на таких условиях <3>. ——————————— <1> Eisenberg M. A. The Limits of Cognition and the Limits of Contract // Stanford Law Review. 1994 — 1995. Vol. 47. P. 216 — 218. <2> Институциональная экономика. Новая институциональная экономическая теория: Учебник. М., 2005. С. 384. <3> Подробнее см.: Карапетов А. Г. Политико-правовой анализ проекта концепции совершенствования общих положений обязательственного права в части регулирования института неустойки // Закон. 2009. N 5.
Думается, что в ряде подобных случаев сбоя теории рационального выбора право действительно может реагировать путем введения ограничения свободы договора, тем самым считая общую презумпцию опровергнутой. Например, по мнению ряда зарубежных юристов, феномен сверхоптимизма формирует дополнительное политико-правовое оправдание для существования правила о контроле соразмерности неустойки судом <1>, и право большинства стран так или иначе допускает такой контроль. Также в качестве примера можно привести современное европейское и российское потребительское право, наполненное множеством ограничений договорной свободы, защищающих не всегда рационального потребителя. ——————————— <1> См.: Eisenberg M. A. The Limits of Cognition and the Limits of Contract // Stanford Law Review. 1994 — 1995. Vol. 47. P. 225 ff. Обратную точку зрения сторонников классического экономического анализа права, опирающихся на идею безошибочности рационального выбора в отношении согласованной сторонами неустойки, см.: Goetz C. J., Scott R. E. Liquidated Damages, Penalties and the Just Compensation Principle: Some Notes on an Enforcement Model and a Theory of Efficient Breach // Columbia Law Review. 1977. Vol. 77. P. 554 ff.
Иначе говоря, теория рационального выбора в ряде случаев оказывается дескриптивно не вполне точной. С этим фактом трудно спорить, даже если не погружаться в объемную научную литературу по поведенческой экономике и бихевио-экономическому анализу права. Но без усредненной базовой презумпции рациональности как доминирующей модели человеческого поведения невозможно понять логику экономического развития. Никакого лучшего объяснения того, как функционирует рыночный гражданский оборот и совершаются сделки, способствующие росту экономического благосостояния, видимо, привести нельзя. Вся система рыночного спонтанного порядка построена на укорененном в природе человека стремлении по возможности рационально реализовывать свои интересы, причем чаще всего эгоистичные и, когда речь идет о коммерческих сделках, преимущественно сугубо материальные. Именно поэтому рациональность участников сделок воспринимается современной экономической наукой в качестве базовой опровержимой презумпции. Такой подход в целом достаточно характерен для экономической науки. Внимательно накапливая эмпирический материал, экономисты упрощают реальность, вычленяя из своих наблюдений некие повторяющиеся закономерности, причинно-следственные связи и иные взаимосвязи, а затем создают на их основе презумпции и обращаются к детальному поиску тех случаев, когда эти презумпции подтверждаются или опровергаются. Верность этих презумпций определяется способностью объяснить и предсказать экономическое поведение людей и реальные социально-экономические феномены в большинстве случаев <1>. ——————————— <1> Этот постулат современной экономической науки был наиболее ярко представлен Милтоном Фридманом в одной из своих наиболее известных статей (см.: Фридман М. Методология позитивной экономической науки // THESIS. 1994. Вып. 4. Т. 2. С. 20 — 52 (доступно в Интернете по адресу: http://igiti. hse. ru/Editions/THESIS/Issue4)).
Участники оборота могут ошибаться в расчете ожидаемого прироста своего благосостояния или получения иного удовлетворения от совершения сделки изначально, или их расчеты могут быть подорваны последующими изменениями во внешних условиях. Но такие расчеты оказываются чаще всего верными или как минимум оказываются верными чаще, чем при любой другой модели определения желательных условий экономического обмена. Именно в силу преимущественно рационального поведения участников оборота рыночный порядок существует и развивается столетиями без тотального планирующего вмешательства бюрократов или иного координирующего центра. Поэтому, как бы нам ни казалась условной и редукционистской идея о преимущественно рациональной и «максимизирующей» природе человеческого поведения и какие бы исключения мы бы ни приводили, если мы говорим о современной культуре обществ, прошедших период урбанизации, избавления от патриархального и религиозного уклада жизни и вступивших в эпоху индивидуализма, эта модель доказывает свою достаточно высокую дескриптивную точность и нормативную полезность того, чтобы именно свобода договора была признана базовой презумпцией договорного права как минимум с экономической точки зрения <1>. По сути, эта «эвристическая фикция» <2> оправдана ровно до тех пор, пока большинство людей при принятии экономических решений будут как минимум стремиться делать рациональный выбор, соответствующий их собственным предпочтениям, т. е. как минимум до тех пор, пока большинство людей на Земле не сойдет с ума или не впадет в некую иную форму помешательства. Иначе говоря, экономический подход исходит из опровержимой презумпции того, что реальные договоры по общему правилу эффективно адаптируются к издержкам и рискам экономического оборота <3>. ——————————— <1> Обоснование с помощью теории рационального выбора примитивных, дорыночных и внерыночных моделей экономического обмена может вызывать споры, поэтому речь здесь идет именно о современной экономике (см.: Автономов В. С. Указ. соч. С. 42 — 43). <2> Mathis K. Efficiency Instead of Justice? Searching for the Philosophical Foundations of the Economic Analysis of Law. Springer, 2009. P. 14. <3> Veljanovski C. G. Op. cit. P. 112.
Так как иррациональность все же является исключением из этого правила и весь экономический оборот состоит из миллионов обоюдно оптимизирующих и рациональных сделок, свобода частных трансакций в общем и целом обеспечивает рост общественного благосостояния на макроуровне. Стремление участников экономического оборота к обеспечению своих интересов формирует тот сложнейший механизм конкуренции, координации и кооперации <1>, скрытых сигналов и взаимовлияния, который приводит к возникновению уникального по своей сложности спонтанного экономического порядка и экономического роста, без которых наша современная жизнь была бы в принципе невозможна. ——————————— <1> Линдблом Ч. Рыночная система. Что это такое, как она работает и что с ней делать. М., 2010. С. 52.
Таким образом, сейчас уже не подвергается сомнению, что, возможно, не совершенный, но единственный, реально доказавший свою работоспособность способ организовать экономику — доверить производство и обмен миллионам заинтересованных в реализации своей «целевой функции» граждан и предпринимателей, ограничив централизованное вмешательство государства теми случаями, когда такая базовая стратегия не срабатывает (в частности, когда она, вопреки общему правилу, начинает не приумножать, а ущемлять общее благосостояние или имеют место иные «провалы рынка»). Кажущийся хаос рыночных отношений и все связанное с ними «броуновское движение», как правило, прекрасно решают основную задачу экономического развития — эффективное производство и распределение ограниченных ресурсов. Аккумулируя и передавая информацию и сигналы именно тем, кто в них кровно заинтересован, стимулируя эффективно и своевременно ее использовать, разоряя неэффективные и возвышая эффективные предприятия и координируя экономическое поведение миллиардов людей, рынок (хотя и не без помощи государств) позволил добиться невиданных ранее успехов в росте благосостояния, вывел из нищеты и прозябания миллиарды людей, помог справиться с ранее не излечимыми болезнями и в целом сформировал современную цивилизацию такой, какой мы ее знаем. Основанная на способности индивидов, преследующих собственные цели, делать рациональный выбор, система свободных сделок в подавляющем числе случаев действует настолько эффективно, что мы зачастую не осознаем и не замечаем ежедневную рутинную работу этой «невидимой руки» <1>. Как пишут известные экономисты П. Самуэльсон и В. Нордхаус, эта система великолепно работает, несмотря на то что никто специально не трудился над ее созданием и не изобретал это уникальное открытие человечества <2>. ——————————— <1> Фридман М., Фридман Р. Указ. соч. С. 28. <2> Самуэльсон П. Э., Нордхаус В. Д. Указ. соч. С. 84.
Таким образом, теория рационального выбора находится в полном соответствии с той идеей, которая имплицитно заложена в основании принципа свободы договора в частном праве. Если не доказано иное, каждый удар по принципу свободы договора, означающий недоверие государства к способности индивидов осуществлять рациональный выбор и соизмерять свои цели и правовые средства их обеспечения, следует считать вредным для экономического благосостояния нации. Даже самое незначительное ущемление этого принципа может дестабилизировать множество тонких и сложных взаимосвязей в спонтанном порядке рыночной экономики, увеличить трансакционные издержки, сбить те или иные сигнальные эффекты, исказить структуру спроса и предложения и в итоге снизить экономическую эффективность. Когда же таких ударов становится слишком много, экономика и, соответственно, благосостояние миллионов людей начинают серьезно страдать. Оборот дестабилизируется, заменяется натуральным самообеспечением или подменяется планово-административной системой распределения ресурсов. Многие потенциальные взаимовыгодные сделки, целые рыночные ниши и формы обмена блокируются. Развитие и рост экономики оказываются под угрозой, а крупные предприниматели, недовольные сформированной институциональной средой, используют все доступные приемы для увода заключаемых сделок и своих капиталов под покровительство иностранных юрисдикций, способных предложить более сбалансированный регулятивный режим. Именно поэтому столь важными считаются аккуратное отношение к исключениям из принципа свободы договора и внимательный расчет экономических, этических и иных издержек и выгод отступления от общего правила.
Улучшение по Парето
Как мы выше показали, в силу склонности людей к осуществлению рационального выбора оба участника свободно заключенной сделки, как правило, выигрывают от ее исполнения или как минимум рассчитывают на это при ее заключении. Данный тезис объясняется тем, что стороны по-разному оценивают обмениваемые блага. Если продавец продает квартиру за 3 млн. руб., значит, он эту сумму ценит выше, чем саму квартиру (например, потому, что у него есть другая, и предельная полезность каждой следующей квартиры для него снижается). С другой же стороны, тот факт, что эта квартира приобретается покупателем по данной цене, означает, что тот ценит квартиру выше, чем принадлежащие ему 3 млн. В итоге квартира оказывается в руках у того, кто ее ценит больше, и оба контрагента выигрывают <1>. ——————————— <1> Тезис о том, что в результате свободного экономического обмена блага и права стремятся в руки тех, кто ценит их выше и готов предложить более высокую цену, нашел крайне важное развитие в знаменитой статье нобелевского лауреата Рональда Коуза (Coase) «Проблема социальных издержек» (см.: Coase R. H. The Problem of Social Cost // Journal of Law and Economics. 1960. Vol. 3. P. 1 ff.; перевод на русский язык см.: Коуз Р. Проблема социальных издержек // Фирма, рынок и право. М., 2007). Данная статья является основополагающей для всего экономического анализа права и на настоящий момент является самой цитируемой в американской юридической периодике (см.: Shapiro F. R. The Most-cited Law Review Articles Revisited // Chicago Kent Law Review. 1996. Vol. 71. P. 751 — 779). В ней Коуз показал, что экономически эффективные сделки часто блокируются из-за высоких трансакционных издержек (расходов и иных трудностей, связанных со сбором информации, ведением переговоров, заключением договора и обеспечением его исполнения). В условиях нулевых или крайне низких трансакционных издержек вопрос о том, за кем изначально закреплено то или иное право или благо, не столь важен, так как если этот первоначальный обладатель не является тем, кто ценит это благо или право больше других, он все равно продаст их тому, кто ценит их выше. В результате серии сделок это право или благо окажутся в конечном итоге у того, кто является их наиболее заинтересованным «владельцем» и способен за это заплатить. Так, например, из этой теории вытекает, что при создании условий для легкого оборота приватизационных ценных бумаг (и, соответственно, минимизации трансакционных издержек) то, кому в результате приватизации изначально досталась государственная собственность, не столь принципиально, так как в конечном итоге соответствующие чеки будут скуплены тем, кто является наиболее эффективным претендентом на эту собственность. Из данного наблюдения, в частности, многие юристы делают вывод о том, что важнейшая функция права состоит в том, чтобы издержки свободного оборота снижались, создавая комфортные условия для перетекания благ и прав в руки их наиболее эффективных владельцев. Так как трансакционные издержки неизбежны, а иногда и достаточно высоки, из теории Коуза вытекает, что государство должно распределять права и обязанности наиболее эффективным образом. Это означает, что государство должно стремиться закрепить тот результат, который был бы достигнут при свободном контрактировании в условиях отсутствия трансакционных издержек. Это означает, что право, на взгляд многих сторонников экономического анализа права, должно как бы имитировать аукцион, предоставляя права непосредственно тем, кто ценит их больше, и снимая с участников оборота необходимость заключения серии сделок по передаче этого права такому конечному и неизбежному адресату. Этот тезис сформировал основной, часто оспариваемый посыл экономического анализа права — представление правового регулирования в качестве инструмента максимизации экономического благосостояния в тех случаях, когда такая максимизация не может быть достигнута путем свободного обмена. При таком подходе не только подчеркивается важность свободы договора как приводного ремня роста экономического благосостояния, но и устанавливается модель, которой государство должно придерживаться при регулировании в ситуациях, когда свободный обмен заблокирован, а также для целей минимизации трансакционных издержек участников оборота. Так, например, если право возлагает риск случайной гибели не на того из контрагентов, кто может предотвратить гибель дешевле и проще или в чьей сфере контроля он возникает, а на его партнера, ограниченного в возможностях влиять на этот риск, оно поступает неэффективно. Сторона, на которую правом возложен риск, будет вынуждена включить высокие расходы на его предотвращение или страхование в цену, что в итоге уменьшит общую прибыльность сделки для сторон. Если бы риск был возложен на того, кто может предотвратить или застраховать его дешевле, то в цену была бы включена куда меньшая доля издержек. Соответственно, в интересах обеих сторон закрепить этот риск за тем, кто может предотвратить (или застраховать) его дешевле и проще. Поэтому при неудачном распределении риска законодательством контрагенты как рациональные максимизаторы собственной выгоды всего равно перераспределят этот риск между собой так, чтобы он лежал на наиболее адекватном носителе риска, но должны будут при этом нести расходы на согласование соответствующих договорных условий, отступающих от диспозитивной правовой нормы. В тех же случаях, когда трансакционные издержки блокируют такое перераспределение, будет консервироваться неэффективная аллокация прав и благ, что как минимум с экономической точки зрения неразумно, так как создает некомфортную институциональную среду для экономического оборота (подробнее об экономическом анализе подходов к распределению рисков между контрагентами см.: Архипов Д. А. Правовой критерий распределения договорных рисков в гражданском праве: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011). В такой ситуации право может способствовать максимизации эффективности, если изначально возложит риск на того, кто может проконтролировать его дешевле и проще. Выраженная в данной статье основная идея, впоследствии названная Джорджем Стиглером «теоремой Коуза» (Coase Theorem), вызвала много интерпретаций и споров в среде юристов, чему, кстати, сам Коуз был немало удивлен. Некоторые интерпретаторы выводили из этой «теоремы» идею о том, что право вообще мало что значит, так как люди посредством свободных договоров все равно перераспределят права и блага так, чтобы они достались тем, кто готов заплатить за них больше. Это утопическое представление о «коузианском мире» нулевых трансакционных издержек не замечало того, что предположение об отсутствии издержек контрактирования в статье Коуза — это лишь абстрактное допущение, позволяющее от обратного осознать важнейшую роль права в условиях, когда в реальности трансакционные издержки всегда позитивны и часто достаточно значительны. Сам Коуз в этой статье отмечал, что роль государства и права крайне важна в силу того, что в реальном мире трансакционные издержки велики и могут заблокировать эффективное перераспределение благ, и призывал изучать именно мир положительных трансакционных издержек. Трезвый подход к интерпретации идей Коуза см.: Farber D. A. Parody Lost / Pragmatism Regained: the Ironic History of the Coase Theorem // Virginia Law Review. 1997. Vol. 83. No. 2. P. 397 ff. (перевод на русский язык см.: Фарбер Д. Отжившая пародия. Возрожденный прагматизм: ирония теоремы Коуза // Вестник гражданского права. 2012. N 2. Т. 12. С. 191 — 222); Veljanovski C. G. Op. cit. P. 5; Боулз С. Микроэкономика. Поведение, институты и эволюция. М., 2011. С. 218.
Эта закономерность в самых общих словах была предугадана экономистами еще в XVIII в. Об этом, в частности, писал в XVIII в. еще знаменитый французский министр финансов и последователь экономической школы физиократов Анн Робер Жак Тюрго <1>. Подробное же научное обоснование этого феномена было получено только с окончательным утверждением субъективной теории стоимости в результате так называемой «маржиналистской революции», произошедшей в экономической теории в 1870 — 1880-е гг. после публикации «прорывных» работ Вальраса, Джевонса и Менгера, систематизировавших более ранние догадки Бентама, Госсена и других мыслителей и экономистов <2>. Совместными усилиями эти выдающиеся экономисты опровергли трудовую теорию стоимости, распространенную со времен Рикардо и столь близкую сердцу Маркса, а также надолго дискредитировали представления об объективной и справедливой стоимости материальных благ. Большинством экономистов, не разделявших марксистские установки, с конца XIX в. стало признаваться, что у благ не может быть объективной стоимости в отрыве от субъективных оценок их полезности конкретными участниками сделки, а также их редкости (избытка). Как писал основоположник австрийской экономической школы Карл Менгер, «ценность не есть нечто присущее благам», ее «не существует вне сознания людей» <3>. ——————————— <1> Кенэ Ф., Тюрго А. Р.Ж., Дюпон де Немур П. С. Физиократы: избранные экономические произведения. М., 2008. С. 654 — 656. <2> О «маржиналистской революции» и ее предтечах см.: Автономов В. С. Указ. соч. С. 83 — 94; Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М., 1994. С. 275 — 306; Эволюция теория стоимости: Учебное пособие / Под ред. Я. С. Ядгарова. М., 2010. С. 94 — 174. <3> Цит. по: Негиши Т. История экономической теории. М., 1995. С. 328.
Маржиналистский анализ показал, что стоимость благ не может быть определена абстрактно. Стоимость конкретной единицы блага определяется для конкретных участников экономического оборота при заданном состоянии спроса и предложения, редкости или избытка данного блага и других обстоятельств и отражается в цене свободно заключенного договора. Полезность благ имеет тенденцию к падению по мере насыщения исходной потребности. Соответственно, определить ценность воды в принципе невозможно, а определить ценность конкретного стакана при его продаже возможно. Стакан воды в знойной пустыне может стоить в сотни раз дороже, чем тот же стакан, подаваемый в обычном ресторане. Цена конкретной сделки есть функция от соотношения множества различных факторов (спроса и предложения, издержек и рисков, платежеспособности покупателя и др.). Но сам стимул заключать договор и обмениваться экономическими благами возникает именно из-за того, что каждая из сторон ценит отчуждаемое ею благо меньше, чем приобретаемое. Если бы обмениваемые блага были эквивалентны, как на том настаивали некоторые средневековые мыслители, требовавшие соразмерности обмениваемых благ, то сделка просто бы не состоялась, так как ее участникам не было бы смысла нести трансакционные издержки по ее заключению <1>. Сейчас эта идея разделяется большинством экономистов <2>. Считается, что эта ex ante неэквивалентность, предопределенная разными субъективными оценками обмениваемых благ участниками сделки, при совершении обмена ex post приводит к общему росту благосостояния обоих контрагентов. ——————————— <1> Известный представитель австрийской экономической школы О. Бем-Баверк в конце XIX в. отмечал, что интерес сторон к сделке, а также получаемая ими от нее выгода тем выше, чем значительнее разница между их субъективными оценками стоимости предмета сделки. Соответственно, при уменьшении этой разницы выгода от обмена уменьшается, а если она понижается до нуля, то сделка становится экономически невозможной (см.: Бем-Баверк О. Основы теории ценности хозяйственных благ // Австрийская школа в политической экономии. К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер. М.: Экономика, 1992. С. 243 — 426 (доступно в Интернете по адресу: http://www. libertarium. ru/lib_mbv)). <2> Хейне П. Экономический образ мышления. М., 1991. С. 174.
Приведем классический для современной литературы по экономическому анализу контрактного права расчет роста общего благосостояния при совершении добровольной сделки. Допустим, у продавца есть рефрижератор, который он готов продать как минимум за 100 тыс. руб. Эта сумма представляет собой так называемую «резервную цену», фиксирующую субъективную ценность товара для продавца. Также имеется покупатель, для которого резервная цена составляет 150 тыс. руб., что означает то, что он ценит благо владения этим рефрижератором максимум в эту сумму и не готов (или неспособен) заплатить ни копейки больше. Это различие резервных цен, а значит, и субъективных оценок стоимости одного и того же товара может быть предопределено целым рядом причин (например, возникновением у покупателя острой потребности именно в данном типе рефрижераторов и низким уровнем предложения). Стороны, как правило, не знают резервные цены друг друга. Это формирует институциональные условия для начала торга (переговоров), в рамках которых каждая из сторон пытается «прощупать» резервную цену своего потенциального партнера, угрожает уйти к конкурентам, нередко блефует и всеми силами стремится ни в коем случае не продешевить и согласовать цену и иные условия, которые бы разделяли общие выгоды от трансакции максимально выгодным для себя образом. При этом сложность этого процесса состоит в том, что искомые договорные условия должны быть такими, чтобы они одновременно не «отпугнули» партнера лишением его всяческой выгоды и стимула заключать данную сделку в принципе или не спровоцировали его уход к конкурентам. Процесс подобного торга par excellence можно наблюдать на восточном базаре. Но, по сути, аналогичное явление в прямой или скрытой форме можно наблюдать повсеместно. Даже тогда, когда компания в одностороннем порядке устанавливает цены и условия сделок с потребителями и, казалось бы, не ведет никаких переговоров, она вынуждена заранее просчитывать реакцию потребителя на предлагаемые ценовые и неценовые условия, учитывать условия, предлагаемые конкурентами, и риск обвалить объем своих продаж и в той или иной степени подстраивает условия договора под эти прогнозы. Суть предконтрактных переговоров как игровой модели, глубоко изучаемой сейчас в рамках теории игр и зарубежной юриспруденции, состоит в том, что каждая из сторон переговоров по их результатам должна выиграть. Данная игра не носит характера некооперативной игры «с нулевой суммой», где выигрыш одного обеспечивается равноценным проигрышем другого. Но, с другой стороны, процесс контрактирования не представляет собой и классическую кооперативную игру, в которой интересы сторон не противоречат друг другу. По сути, переговоры по заключению взаимовыгодного договора комбинируют конкурентный и конфликтной элементы, с одной стороны, и элементы кооперации и координации — с другой. Томас Шеллинг в своей знаменитой книге «Стратегия конфликта» назвал эту игру «игрой со смешанными мотивами» <1>. ——————————— <1> Шеллинг Т. Стратегия конфликта. М., 2007. С. 116 — 117.
В этих условиях очевидно, что стороны, если будут вести себя разумно, согласуют сделку продажи рефрижератора в нашем примере по цене, находящейся в диапазоне между 100 тыс. и 150 тыс. руб. Допустим, сделка состоялась по цене в 125 тыс. Перед сделкой у продавца был рефрижератор, который он ценил в 100 тыс., а у покупателя имелось 125 тыс. руб. наличными, которые он впоследствии согласился за него заплатить. В совокупности перед заключением сделки у сторон имелось имущество на сумму 225 тыс., которым они согласились обменяться. После исполнения сделки и осуществления обмена продавец получил 125 тыс., а покупатель — агрегат, который он изначально ценил в 150 тыс. В совокупности по итогам сделки стороны имеют имущество уже на 275 тыс. руб. В итоге общий прирост благосостояния обоих участников, а значит, и всего общества в целом составил 50 тыс. <1>. Это та величина, на которую ценность благ выросла в результате их перехода из рук тех, кто их ценит ниже, в руки, кто их ценит выше. Так как субъективное осознание ценности конкретных благ является, судя по всему, единственным объективным мерилом их материальной ценности, можно утверждать, что исполнение сделки увеличило благосостояние сторон на 50 тыс. Если сделка не причиняет ущерб третьим лицам, то в результате на ту же сумму вырастает и общественное благосостояние. ——————————— <1> Kronman A. T., Posner R. A. The Economics of Contract Law. Little, Brown, 1979. P. 2.
Выигрыш покупателя от исполнения сделки составляет то, что экономисты называют «потребительский излишек» (consumer surplus), — разницу между той максимальной ценой, которую он был бы готов заплатить, и реальной ценой заключенного им договора. Выигрыш же продавца в виде разницы между той минимальной ценой, по которой он мог бы совершить сделку, и реальной ценой заключенного договора обозначается как «излишек производителя» (producer surplus). В совокупности мы имеем общий кооперативный излишек (cooperative surplus) от состоявшегося факта обмена, т. е. общий выигрыш сторон от реализации сделки. Чем выше этот общий излишек (т. е. разница между исходными резервными ценами сторон заключенного договора), тем эффективнее конкретная сделка и тем значительнее — при прочих равных условиях — ее вклад в рост общественного благосостояния <1>. ——————————— <1> Самуэльсон П. Э., Нордхаус В. Д. Указ. соч. С. 321 — 322.
Итак, как мы видим, в результате исполнения договора в стандартной ситуации один контрагент не обогащается за счет другого. Вместо этого от обмена из-за разницы в субъективных оценках стоимости предмета договора выигрывают оба участника. Экономисты называют такую ситуацию «улучшением по Парето» <1>. Данный процесс обозначает такое изменение в распределении благ и прав, при котором хотя бы один из участников соответствующей трансакции выигрывает, в то время как другие либо также выигрывают, либо как минимум не проигрывают. Максимально эффективным (Парето-оптимальным) будет такое распределение благ от исполнения сделки, при котором ни одна из сторон не ухудшает свое положение, и при этом выигрыш обеих сторон или хотя бы одной стороны оказывается максимально возможным, т. е. таким, что дальнейшее улучшение положения одной из сторон уже приведет к проигрышу другой. ——————————— <1> По имени известного экономиста и политолога Вильфредо Парето, предложившего данное понимание экономической эффективности.
На практике из-за когнитивных ограничений, трансакционных издержек и ряда других причин добровольная сделка далеко не всегда бывает Парето-оптимальной, но, как правило, всегда оформляет ту или иную степень улучшения по Парето. Как правило, от добровольной сделки взрослых и дееспособных участников оборота выигрывают обе стороны <1>. ——————————— <1> Trebilcock M. J. The Limits of Freedom of Contract. Harvard University Press, 1997. P. 7.
Добровольное согласие на сделку здесь играет фундаментальную роль. Факт состоявшейся добровольной сделки, как правило, означает, что, по мнению ее участников, она увеличивает их личное благосостояние. Так как лучше их самих вряд ли кто-либо знает наверняка, что сделка приводит к обоюдовыгодному результату, праву по общему правилу остается только положиться на обоснованность субъективной оценки контрагентами своих интересов и свободу договора, в котором эта оценка и была отражена <1>. ——————————— <1> Contract Law and Economics. Encyclopedia of Law and Economics. 2nd ed. Vol. 6 / G. de Geest (ed.). Edward Elgar Publishing, 2011. P. 76.
Из миллионов таких частных сделок и локальных Парето-улучшений агрегируется увеличение благосостояния всего общества за счет более эффективного распределения ограниченных ресурсов, т. е. перераспределения их в пользу тех, кто ценит их выше. Данный способ взаимного обогащения участников частной сделки и всего общества, вовлеченного в этот рыночный процесс распределения произведенных благ, является намного более общественно полезным, чем принудительное перераспределение (рабский труд, грабеж и т. п.) именно потому, что представляет собой игру не «с нулевой суммой»: выигрыш одного не обеспечивается за счет проигрыша другого. Это, собственно говоря, один из центральных законов рыночной экономики. И именно данная идея Парето-улучшения, вытекающая из теории рационального выбора, формирует как минимум экономические основания принципа договорной свободы.
Этические возражения против принципа Парето-улучшения и договорной свободы
Принцип Парето-оптимизации и вытекающий из него принцип свободы договора, безусловно, небесспорны с этической точки зрения. У нас нет здесь возможности разворачивать этическую аргументацию contra договорной свободы сколько-нибудь подробно, но некоторые важные тезисы необходимо озвучить для более ясного представления о сложности вопроса. Во-первых, функционирование системы Парето-оптимизации посредством свободных договоров и перетекание благ в руки тех, кто ценит их больше, во многом определяются изначальным распределением собственности. Современные общества не соответствуют идеалам эгалитаризма. Одни уже с рождения имеют колоссальные состояния, другие же имеют мало природных и социальных возможностей вырваться из нищеты. Рынок распределяет блага в пользу тех, кто ценит их больше, достаточно эффективно определяя эту субъективную ценность по готовности платить. Но сама эта готовность платить предопределяется во многом изначально неравномерной дистрибуцией богатства в обществе. В силу того, что богатство подчиняется закону убывающей предельной полезности, каждый новый рубль имеет куда меньшую ценность для миллионера, чем для живущего на пособие инвалида. Соответственно, первый может быть готов заплатить за некое благо значительно больше в абсолютных цифрах, чем второй, не потому, что это благо ему объективно нужнее и он является его более эффективным владельцем. В результате свободный рынок иногда приводит к тому, что благо, которое объективно более эффективно может использовать бедный, перетекает в руки богатого, который нуждается в нем меньше, но в силу избытка денег способен заплатить больше, так как 1 тыс. руб. для успешного московского юриста равносильны 100 руб. для пенсионера. Соответственно, в реальной экономике блага достаются далеко не всегда тем, кому они реально нужнее, — часто они уходят тем, кто свое желание может подкрепить достаточной платежеспособностью. В ряде случаев это расхождение может быть достаточно драматичным и этически неприемлемым. Во-вторых, распределение общего выигрыша может быть явно несправедливым. Эта несправедливость может состоять, в частности, в неравном распределении общего кооперативного излишка. Читатель наверняка заметил, что в вышеприведенном примере с рефрижератором мы предположили, что сделка купли-продажи состоится по цене 125 тыс. руб., т. е. разделили общий кооперативный излишек сторон договора ровно пополам. Но в реальности распределение общего излишка редко бывает равноправным. Чем сильнее переговорные возможности контрагента и чем, соответственно, меньше возможности другой стороны влиять на содержание условий договора, тем большую долю общего излишка присваивает себе сильная сторона. Данный дисбаланс переговорных возможностей может быть следствием ограниченной конкуренции и рыночной власти одного из контрагентов, асимметрии профессионализма (как, например, в случае потребительских сделок), асимметрии информированности, чрезвычайности обстоятельств заключения договора и отсутствия у одной из сторон времени на ведение детальных переговоров и массы иных причин. Неравенство переговорных возможностей заставляет слабого контрагента заключать договор на условиях, при которых тот хотя и не проиграет, но выиграет крайне мало, в то время как выигрыш сильной стороны окажется максимально возможным. Как отмечает Амартия Сен, состояние, при котором некоторые люди голодают и испытывают острую нужду, в то время как другие процветают, может быть вполне Парето-оптимальным <1>. И действительно, Парето-улучшение и взаимовыгодный обмен могут происходить и при недобросовестном использовании обладателем некоего дефицитного лекарства бедственного положения больного, срочно в нем нуждающегося, или злоупотреблении монополистом своим доминирующим положением. Как ни может это звучать странно для юристов, большинство кабальных сделок или сделок с монополистами на, казалось бы, вопиюще несправедливых условиях являются при всем при том взаимовыгодными: от сделки выигрывает и слабая сторона договора, так как иначе она бы ее просто не заключила. ——————————— <1> Sen A. K. Resources, Values and Development. Harvard University Press, 1984. P. 18.
Неравенство переговорных возможностей приводит к тому, что сильная сторона навязывает слабой цену, крайне близкую к резервной цене последней, присваивая себе львиную долю кооперативного излишка. Например, допустим, что минимальная цена, при которой у монополиста сохраняется интерес продавать производимый им товар (с учетом явных и альтернативных издержек, рисков и т. п.), составляет 100 руб., в то время как максимальная цена, при которой покупателю имеет смысл его приобретать, составляет 300 руб. Очевидно, что монополист, пользуясь своим подавляющим переговорным преимуществом, скорее всего, навяжет покупателю цену, близкую к 300. Допустим, что эта цена будет равна 280 руб. Это будет означать, что кооперативный излишек в 200 руб. как разница между резервными ценами контрагентов будет разделен в пропорции 90/10, что может нарушать укорененные в общественном сознании представления о коммутативной справедливости (т. е. справедливости взаимного обмена). Кроме того, явная неравноценность выгод от контрактирования для сторон договора может быть следствием не столько неравенства переговорных возможностей, сколько просто недостаточной рациональности сторон договора. Даже если сторона не является явно слабой стороной договора, она далеко не всегда способна просчитать все последствия заключения договора и соотнести их с собственными интересами и целями. Это особенно характерно для поведения обычных граждан, не являющихся профессиональными коммерсантами. Такие граждане часто проявляют избыточный оптимизм и неадекватно просчитывают риски, соглашаясь на явно неравноправные условия, не будучи вынуждаемыми к этому сравнительной слабостью своих переговорных возможностей перед лицом некоего сильного контрагента, а просто в силу своей ограниченной рациональности (bounded rationality). Но фактор несправедливости раздела кооперативного излишка может проявиться не только в его формально неравном распределении и дисбалансе прав и обязанностей сторон, но и тогда, когда выгоды от контрактирования с формально-экономической точки зрения разделены абсолютно поровну, но разрыв в резервных ценах сторон оказался крайне значительным из-за неких чрезвычайных обстоятельств, драматично снизивших переговорные возможности одной из сторон. Человек, остро нуждающийся в средствах для проведения жизненно важной и безотлагательной операции, вынужденный в связи с этим быстро продавать свой автомобиль и, тем самым, оказавшийся слабой стороной такого договора, не имеет времени на поиск лучших условий сделки. И иногда он готов продать свой автомобиль фактически по любой цене, достаточной для покрытия стоимости операции. Резервная цена (т. е. минимально приемлемая для него цена продажи) из-за этой чрезвычайности может рухнуть до крайне низких величин и оказаться во много раз ниже рыночного уровня. Например, несмотря на то что рыночная цена такого автомобиля может составлять 500 тыс. руб., продавец может быть готов расстаться с ним минимум за 100 тыс. рублей (операция стоит именно столько). Допустим, что покупателем, согласившимся экстренно купить автомобиль, оказался человек, знакомый с жизненной ситуацией продавца и пожелавший на ней нажиться. Также допустим, что покупатель теоретически мог бы купить данный автомобиль максимум за 400 тыс. руб. (покупать ее по рыночной цене у него нет интереса). Таким образом потенциальный кооперативный излишек от трансакции составляет 300 тыс. руб. Если договор в итоге будет заключен по цене в 250 тыс. руб., кооперативный излишек будет разделен ровно пополам. В то же время эта цена окажется в два раза ниже рыночной. И данный разрыв, сопряженный с рядом специфических обстоятельств, указывающих на явную эксплуатацию неравенства переговорных возможностей, и сам драматический и чрезвычайный характер причин этого неравенства могут спровоцировать оценку обществом такой сделки как несправедливой. Мы отнюдь не утверждаем, что такой договор заслуживает отмены или коррекции условий с точки зрения права. Как мы далее покажем, против подобного вмешательства могут быть приведены очень сильные утилитарно-экономические аргументы. Экономистов часто удивляет, что люди в ряде случаев испытывают куда большее этическое негодование в отношении тех, кто помогает попавшим в сложное положение из корыстных соображений и наживает на этой помощи некоторую «сверхприбыль» (отличную от той, которую он получил бы в стандартных условиях), чем по отношению к тем, кто просто прошел мимо и не оказал помощи вовсе. При трезвом взгляде на проблему становится очевидным, что карать «корыстных спасателей» не вполне разумно, так как «спасателей-альтруистов» категорически не хватает, и, как мы более подробно покажем далее, истинной жертвой попыток государства систематически контролировать условия договоров, заключаемых с «корыстными спасателями», могут в ряде случаев оказаться жертвы обстоятельств, шансы которых получить помощь будут снижены. Тем не менее нельзя не признать, что общественная нравственность воспринимает в качестве несправедливого поведение тех, кто вместо милосердной помощи попавшему в беду ближнему, пытается извлечь из его зависимого положения максимально возможную для себя выгоду. Более того, мы не исключаем, что в некоторых подобных случаях, аккуратно взвесив все «за» и «против», и право может легитимировать законодательное или судебное вмешательство в сферу свободы таких кабальных контрактов. Итак, как мы видим, иногда против договорной свободы восстает укорененное в человеческом подсознании чувство справедливости. Многих экономистов справедливость распределения общего излишка между контрагентами не интересует. Все, что их обычно интересует в этом контексте, — это максимизация общего экономического излишка (т. е., иными словами, экономическая эффективность сделки) <1>. Правда, многие экономисты отнюдь не делают из этого вывод о неважности вопроса о справедливом распределении выгод, считая просто, что ответ на него лежит вне экономической методологии и находится в сфере теории справедливости, этики и политики <2>. Соответственно, обсуждение этого вопроса, на их взгляд, возможно, но требует выхода за рамки сугубо экономического анализа. ——————————— <1> Craswell R. Passing on the Costs of Legal Rules: Efficiency and Distribution in Buyer-Seller Relationships // Stanford Law Review. 1990 — 1991. Vol. 43. P. 361, 363. <2> Мэнкью Н. Г. Указ. соч. С. 179.
В-третьих, в ряде случаев частные сделки просто бросают вызов фундаментальным принципам общественной нравственности. Эти принципы крайне подвижны. Многие сделки, которые еще несколько десятилетий назад признавались в европейских странах нарушающими нормы соответствующих гражданских кодексов о добрых нравах, сейчас не признает недействительными ни один суд (например, договоры на предоставление гостиничного номера разнополой неженатой паре и т. п.) <1>. С другой стороны, некоторые сделки, которые признавались вполне законными в XIX в. в некоторых правопорядках, однозначно спровоцируют применение современными судами доктрины добрых нравов (например, сделки по продаже рабов, договоры на оказание платных сексуальных услуг) <2>. «Все течет, все изменяется» — и доктрина добрых нравов ощущает на себе справедливость этого тезиса Гераклита как никакой другой гражданско-правовой институт. ——————————— <1> Так, ведущий французский цивилист Евгений Годэмэ достаточно недавно (в середине XX в.) без каких-либо сомнений поддерживал практику французских судов по признанию договоров граждан с брачными агентствами противоречащими добрым нравам (см.: Годэмэ Е. Общая теория обязательств. М., 1948. С. 133). <2> Обзор таких случаев влияния этической динамики на применение доктрины добрых нравов см.: Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. Т. 2. М., 2000. С. 81 — 82; Афанасьев Д. В. Нарушение публичного порядка как основание признания сделки недействительной в российском и зарубежном праве // Недействительность в гражданском праве: проблемы, тенденции, практика: Сб. ст. М., 2006. С. 116 — 143.
Тем не менее необязательно быть «моральным абсолютистом» и верить в априорность этических принципов, чтобы искренне считать, что сделки, грубо нарушающие основы общественной нравственности, должны в той или иной степени судами или законодателем пресекаться. Так что аргумент об основах нравственности действительно является важным этическим возражением против применения принципа договорной свободы в отдельных случаях. Так, например, очевидно, что некоторые блага на современном этапе культурного развития западной цивилизации не могут и не должны быть включены в систему рыночного обмена в принципе (например, родительские права или права на усыновление, право на человеческую жизнь и т. п.). Выше мы привели, конечно же, неисчерпывающий список этических возражений против принципа договорной свободы. Но этих аргументов, как нам кажется, достаточно, чтобы проиллюстрировать существование серьезных аргументов против как минимум абсолютизации идеи об автономии воли сторон частной сделки. Эти этические соображения требуют достаточно серьезного внимания. Тем не менее они не означают этический приговор рынку и договорной свободе. Проблема в том, что до сих пор не изобретена достаточно эффективная альтернатива, кроме тотального натурального самообеспечения семей и плановой экономики, которые, в свою очередь, доказали свою неэффективность и нежизнеспособность. Если ценность благ будет определяться не по реальному платежеспособному спросу, а по некоторым умозрительным соображениям о том, для кого из претендентов соответствующее благо объективно ценнее, то кто эту ценность будет выявлять и сопоставлять? Очевидно, что переход благ в руки тех, кто готов заплатить больше, на основе свободно функционирующей системы рыночных цен и свободного же определения иных условий договорного взаимодействия этически несовершенен, так как предоставляет определенные преимущества более состоятельным людям и не всегда верно определяет наиболее эффективных обладателей благ. Эти этические соображения, в свою очередь, иногда приводят к локальной отмене рыночных принципов при обороте некоторых благ или к введению локальных ограничений свободы договора. Но можно ли в принципе отказаться от этого несовершенного инструмента и заменить его на некий иной способ выявления оптимального владельца тех или иных благ и оптимальных условий их передачи в глобальном масштабе? Ответ, который мы имеем сейчас в экономической теории и реальном правовом регулировании, очевиден, и он отрицателен. Если мы отвергаем рыночный формат распределения общего кооперативного излишка и пытаемся поставить под тотальный контроль справедливость его раздела, то кто будет выступать арбитром и проводить такие расчеты в отношении каждой из миллиардов заключаемых в обороте сделок? Как некий всемогущий регулятор сможет определить ex ante или ex post резервные цены сторон и подменить их волю, не рискуя сформировать такие условия, которые окажутся за пределами резервных цен и, тем самым, просто заблокируют возможность заключения аналогичных трансакций как таковых в будущем? Кроме того, тотальный контроль справедливости условий договора неминуемо увеличивает по экспоненте патерналистскую роль государства в экономике вплоть до тотального контроля над ценами и перехода к плановой экономике. Наконец, в отношении аргумента о возможном попрании сделкой основ общественной нравственности следует напомнить об изменчивости такого феномена, как добрые нравы, и сложности его однозначной фиксации в таком мультикультурном обществе, как российское. То, что может казаться абсолютно вопиющим попранием добрых нравов в сообществе жителей Северного Кавказа, окажется вполне приемлемым в средней полосе России, и наоборот. Тем не менее вышеобозначенные этические возражения против рыночной свободы не следует вовсе игнорировать в силу того, что анализ политики права не сводится к поиску экономически эффективных решений. Как отмечается авторами самого последнего по времени и наиболее обсуждаемого в среде европейских цивилистов акта унификации частного права «Принципы, определения и модельные правила европейского частного права: Проект общей системы координат» (2009 г.), в основе всей их работы лежит не только принцип экономической эффективности, но и принципы свободы, защищенности и справедливости <1>. Это, пожалуй, доминирующий взгляд на политику права в странах, где правовая наука указанной сферой в принципе интересуется. Юристу, занимающемуся политико-правовым анализом, игнорировать вопросы этики, как это делают экономисты, достаточно трудно, так как политика права, по общему убеждению юристов, включает в себя нормативные установки не только экономической эффективности, но и справедливости. ——————————— <1> Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference. Vol. I. Sellier, 2009. P. 37 ff.
Мы со своей стороны не исключаем того, что в некоторых случаях законодатель или суды вправе взять под контроль справедливость договорных условий — особенно тогда, когда речь идет о патерналистской опеке не над коммерсантом, а над некоммерческим участником оборота, и особенно в тех ситуациях, когда его переговорные возможности ограничены в силу асимметрии профессионализма или иных оснований (например, в случае потребительских сделок). Патерналистская опека над коммерсантами и их защита от принятых ими добровольно несправедливых условий — вещь, безусловно, в большинстве случаев абсолютно неприемлемая, так как иррациональность коммерсантов непростительна, и они должны до дна испивать чашу своих просчетов. Но даже применительно к коммерсантам патерналистский контроль за справедливостью договора со стороны законодательных императивных норм или судов, применяющих такие универсальные корректоры договорной свободы, как принцип добросовестности, может быть признан, на наш взгляд, иногда допустимым в тех случаях, когда условия являются радикально несправедливыми, а сам коммерсант — очевидно слабой стороной договора (например, при заключении договора с монополистом). Наконец, даже при недоказанности неравенства переговорных возможностей патерналистская защита коммерсантов в отдельных, исключительных случаях может быть оправдана тогда, когда условия договора настолько вопиюще несправедливы, что разумно исходить из презумпции наличия некоего скрытого порока воли. Кроме того, мы также убеждены в том, что в ряде случаев государство применительно к обороту некоторых особенно этически «чувствительных» товаров может принять во внимание фактор социального неравенства и ограничить рынок, введя вместо него иные принципы распределения дефицитных благ (например, органов для трансплантации) или попросту взяв на себя функции по обеспечению населения соответствующими благами за счет изъятия налогов у наиболее состоятельных сограждан (например, некоторый уровень бесплатной медицины). Наконец, у нас не вызывает никаких сомнений, что некоторые базовые ценности общественной нравственности являются достаточно укорененными в сознании большинства жителей даже таких пестрых с культурной точки зрения стран, как Россия, и право может и должно легитимно блокировать некоторые сделки только лишь на том основании, что они попирают данные этические установки. Каждый такой случай требует детального политико-правового анализа с целью поиска компромисса между этическими и утилитарными ценностными установками, часто вступающими в конфронтацию, и учета множества иных факторов. Тем не менее для нас очевидно, что в ряде случаев этические нормативные установки могут привести к преодолению презумпции свободы договора даже тогда, когда ограничение свободы договора будет аннулировать или адаптировать Парето-оптимизирующую сделку. При этом соизмеряя утилитарную необходимость придания юридической силы свободным сделкам и возможные этические контраргументы, государству в лице законодателя, создающего соответствующие императивные нормы, или судов, применяющих такие ex post корректоры договорной свободы, как правила о кабальных сделках, нормы о добросовестности и добрых нравах и другие аналогичные инструменты «юснатурализации» правоприменения, не стоит забывать, что в основе всего роста рыночной экономики лежат миллионы ежедневно заключаемых и в большинстве случаев Парето-улучшающих частных сделок. Дистрибутивная и коррективная справедливость, принципы общественной нравственности являются, безусловно, не менее важными ценностями и ни в коем случае игнорироваться в частном праве не могут. Но избыточные вторжения государства в сферу автономии воли сторон препятствуют совершению потенциальных Парето-улучшений и создают помехи для динамичного экономического развития. Иначе говоря, правовое регулирование договорных отношений не должно упускать из виду одну из основных своих целей, а именно создание благоприятных институциональных условий для совершения и исполнения приносящих сторонам максимальный экономический излишек (т. е. максимально эффективных) сделок. Безусловно, это не единственная цель норм договорного права, но было бы большой ошибкой структурировать нормативное регулирование и ограничивать свободу договора, не относясь со всей серьезностью к данной важнейшей задаче. В конечном итоге сложность феномена правотворчества состоит в необходимости осуществлять сложный и не просчитываемый ни на одном суперкомпьютере выбор между зачастую не соизмеримыми политико-правовыми утилитарными и этическими ценностями, пытаясь находить наиболее разумные в заданных условиях компромиссы.
Утилитарные возражения против идеи договорной свободы
Но против идеи договорной свободы могут быть выдвинуты и сугубо утилитарные возражения. Так же как и вышеперечисленные вопросы этики, у нас здесь нет возможности их подробно анализировать, поэтому ограничимся лишь самым общим обзором. Во-первых, одним из поводов ограничения свободы договора является необходимость предотвращения сделок, опосредующих гражданско-правовое оформление деятельности, противоречащей основам государственного правопорядка. Нередко частные сделки бросают вызов основам государственного управления (например, скупка голосов на выборах или элементарные коррупционные сделки), фискальным интересам (например, заключение сделок с целью уклонения от уплаты налогов). Практически никто из известных нам авторов (за исключением, возможно, отдельных радикальных либертарианцев) не позволит себе высказываться принципиально против блокирования таких проявлений договорной свободы. Во-вторых, выше было показано, что, как правило, частные сделки затрагивают интересы только их участников. В силу общепризнанной презумпции рациональности контрагентов последние являются лучшими оценщиками своих собственных интересов, поэтому их воля, закрепленная в контракте, должна быть по общему правилу защищена от вмешательства государства. Но в некоторых случаях сделки могут затрагивать интересы третьих лиц. В этом случае экономисты говорят о возникновении экстерналий (т. е. побочных внешних эффектов) частных сделок. Когда такие экстерналии оказываются позитивными и третьи лица выигрывают от сделки (например, когда сделка заключена в пользу третьего лица или от независимого аудита банка выигрывают его клиенты и вкладчики), праву нет причин вмешиваться. Но когда внешние эффекты носят негативный характер и интересы третьих лиц страдают, возникает явная аномалия. Получается, что лица, не выразившие свое согласие на сделку и тем самым не просигналившие о том, что она соответствует их интересам, могут оказаться заложниками воли двух контрагентов. Возражение против идеи договорной свободы применительно к таким случаям может основываться на принципах справедливости. Но в равной степени ограничение свободы договора в таких случаях может быть зачастую оправдано и с сугубо экономической точки зрения <1>. Безусловно, участники сделки, презюмирующиеся рациональными максимизаторами своей выгоды и лучшими оценщиками собственных интересов, заключая сделку, считают ее результат Парето-улучшением. Но при наличии негативных экстерналий этот расчет субъективных выгод и издержек может не соответствовать социальным выгодам и издержкам. Иначе говоря, открытый Адамом Смитом закон соответствия частной и общей выгоды при осуществлении свободного экономического оборота может не сработать. Сделка может обогащать ее участников на 1 тыс. руб. (размер кооперативного излишка), но приносить третьим лицам вред на 1500 руб. Так как участники сделки в силу своей преимущественно эгоистичной природы, как правило, не интернализируют (не принимают в расчет) негативные экстерналии, создаваемые собственным поведением, если их к этому не принуждает государство, они вполне могут заключить сделку, которая не максимизирует, а приуменьшает экономическое благосостояние общества. ——————————— <1> См.: Trebilcock M. J. Op. cit. P. 58 — 60; Hermalin B. E., Katz A. W., Craswell R. Contract Law // Handbook of Law and Economics. Vol. I / A. Mitchell Polinsky, S. Shavell (eds.). P. 30 ff.
Как верно в свое время подметил американский судья Оливер Уенделл Холмс, при разработке позитивного права не следует исходить из предположения о благородстве тех, чьи отношения регулируются правом. Благородные и честные люди в принципе в праве нуждаются в крайне незначительной степени. Поэтому право должно строиться, исходя из предположения о «плохом человеке» (bad man theory), и вторгаться там, где среднестатистический эгоист, способный на самоограничение своих желаний только под угрозой принуждения, может в своем стремлении к личному преуспеванию ущемить интересы третьих лиц <1>. Поэтому так же как право не должно рассчитывать на то, что производители будут учитывать ущерб, причиняемый их производством экологии, и стремиться его добровольно минимизировать, оно не должно питать иллюзий и в отношении того, что контрагенты при заключении договора и согласовании его условий будут из альтруистических соображений слишком часто задумываться об ущемлении интересов лиц, в договоре не участвующих. ——————————— <1> О теории «плохого человека» см.: Holmes O. W. The Path of the Law // Harvard Law Review. 1897. Vol. 10. P. 457 ff.
Подобный сбой в работе «невидимой руки» экономисты относят к категории «провалов рынка» (market failure) и, как правило, с первой половины XX в. считают заслуживающими введения те или иные ограничения свободы договора. Например, сделки компании по распродаже своих активов по бросовым ценам аффилированным покупателям, а равно списание долгов своим крупным должникам могут быть признаны правовой системой недействительными, если совершаются в преддверии банкротства и de facto направлены на лишение кредиторов этой компании фактической возможности удовлетворить свои требования. В этом случае конкретная сделка вполне может удовлетворять интересам компаний, в ней непосредственно участвующих, или их основных акционеров. Но такая сделка может быть отменена правом из-за негативных экстерналий, которые она создает в отношении интересов кредиторов. Здесь возникает очень сложный вопрос проведения демаркации между оправданными и не оправданными с политико-правовой точки зрения негативными экстерналиями <1>. Дело в том, что в принципе очень многие сделки создают негативные последствия в отношении интересов третьих лиц, но далеко не всегда право ограничивает и должно ограничивать свободу договора. ——————————— <1> Parisi F. Autonomy and Private Ordering in Contract Law // European Journal of Law and Economics. 1994. Vol. 1. P. 217.
Более того, если говорить серьезно, то следует признать, что практически любая сделка может ущемить интересы третьих лиц <1>. Например, покупая акции какой-либо компании на фондовом рынке по цене, более высокой, чем та, которая сложилась на нем накануне, покупатель вносит свой вклад в общее повышение стоимости акций данной компании. Эта сделка, безусловно, имеет позитивную экстерналию в отношении не участвующей в сделке компании-эмитента, чья общая капитализация вырастает, и крупных акционеров этой компании, чьи пакеты акций без их непосредственного участия дорожают. Но эта же сделка может создать и негативный эффект в отношении инвесторов, пожелавших купить акции этого эмитента на следующий день после совершения указанной сделки: из-за роста цены им придется заплатить больше. Кроме того, страдают и интересы инвесторов, игравших на понижение стоимости этих акций (например, за счет так называемых «коротких продаж»): они несут прямые убытки. ——————————— <1> См.: The Fall and Rise of Freedom of Contract / F. H. Buckley (ed.). Duke University Press, 1999. P. 86 — 87; Mathis K. Op. cit. P. 37.
Те же или похожие цепочки экстерналий, как круги на воде, могут расходиться от практически любой сделки, даже такой незначительной, как покупка вентиляторов в знойный московский август 2010 г. Покупая дефицитный вентилятор, покупатель лишает такой возможности другого страдающего от жары москвича. Соответственно, правотворцы вынуждены разделять допустимые и недопустимые типы и степень негативных экстерналий, порождаемых частными сделками. Сложность этого вопроса очевидна, если мы от достаточно простых вышеуказанных примеров, в которых политико-правовая интуиция легко находит правильный ответ, перейдем к куда более сложным случаям. Так, например, договор залога, по которому некий должник передает банку свое основное ликвидное имущество в залог в обеспечение привлекаемого кредита, может серьезно ущемить интересы незалоговых кредиторов должника, чьи перспективы удовлетворения своих требований в случае банкротства должника в этом случае значительно снижаются. De facto договор залога предоставляет одному из кредиторов преимущества в ущерб другим кредиторам, чье согласие на снижение обеспеченности их требований не испрашивается (классический пример негативной экстерналии) и зачастую не может ни подразумеваться, ни фактически быть испрошено в принципе (например, кредиторы по деликтным требованиям). И хотя ряд современных авторов всерьез обсуждают данную проблему и ставят под сомнение политико-правовую адекватность залога как института ущемления прав незалоговых кредиторов и создания негативных экстерналий <1>, право практически всех стран мира не запрещает договоры залога. ——————————— <1> См.: LoPucki L. M. The Unsecured Creditor’s Bargain // Virginia Law Review. 1994. Vol. 80. No. 8. P. 1887 ff. Активная научная дискуссия на тему политико-правовой оправданности института залога началась в США в 1970-е гг. (см.: Jackson T. H., Kronman A. T. Secured Financing and Priorities Among Creditors // Yale Law Journal. 1979. No. 6. P. 1143 ff.) и до сих пор далека от завершения.
Но если этот пример имеет решение в праве большинства развитых стран, то имеются примеры ситуаций, вызывающих споры до сих пор и однозначно не разрешенных в позитивном праве. Например, как мы видели, позитивное право, вопреки звучащим в последнее время сомнениям ряда ученых, продолжает считать договор залога допустимым институтом договорного права. Также, как уже отмечалась, функция залогового статуса кредитора (в случае непосессорного залога) реализуется в основном в случае возбуждения процедуры банкротства. Иначе говоря, заключая договор залога, стороны тем самым оговаривают процедуру преимущественного удовлетворения прав данного кредитора на случай банкротства должника. Но если право считает возможным такой способ частноправового согласования одного из элементов процедуры банкротства (очередности удовлетворения требований кредиторов), то почему бы не допустить и иные договоры, направленные на регулирование процедуры банкротства и распределение прав и обязанностей сторон данного процесса? Например, почему банк и заемщик не могут оговорить, что введение моратория на погашение требований кредиторов при возбуждении против заемщика дела о банкротстве не будет распространяться на данный банк? Или почему контрагенты не могут заключить договор, согласно которому в случае возбуждения дела о банкротстве в отношении одного из них другой обязуется не голосовать в пользу банкротства? Ведь здесь мы имеем, по сути, ту же самую проблему негативных экстерналий и все тот же вопрос о степени свободы договора в сфере правового регулирования банкротства, что и при заключении договора залога. Ряд современных авторов (например, С. Л. Шварц, А. Шварц) отстаивают политико-правовую адекватность расширения сферы свободы договора в сфере законодательства о банкротстве. Одновременно некоторые американские суды признают законность соглашения об отказе от моратория на удовлетворение требований отдельного кредитора в случае возбуждения дела о банкротстве, несмотря на то что это может ущемить интересы других кредиторов должника, не выражавших свое согласие на это <1>. Другие ученые (например, Линн ЛоПуки) столь же уверенно критикуют такое расширение сферы свободы договора, ссылаясь на необходимость предотвращения данной негативной экстерналии в отношении прав третьих лиц <2>. Как мы видим, в этой сфере могут возникать вопросы с достаточно неочевидными ответами. ——————————— <1> См.: Schwarcz S. L. Rethinking Freedom of Contract: A Bankruptcy Paradigm // Texas Law Review. 1998 — 1999. Vol. 77. P. 515 ff.; Schwartz A. A Contract Theory Approach to Business Bankruptcy // Yale Law Journal. 1998. Vol. 107. P. 1807 ff. <2> LoPucki L. M. Contract Bankruptcy: A Reply to Alan Schwartz // Yale Law Journal. Vol. 109. 1999 — 2000. P. 317 ff.
Применительно к вышеприведенным примерам мы не будем высказывать свою позицию. Но они показывают, что вопрос о разграничении случаев «здорового» и «нездорового» с политико-правовой точки зрения ущемления прав и интересов третьих лиц при заключении договоров является крайне сложным, вряд ли может быть решен путем применения некоего метапринципа и требует учета всего комплекса различных и разноплановых политико-правовых факторов. Среди таких факторов немаловажную роль, видимо, должны играть вопросы о степени выраженности негативных экстерналий, отдаленности причинно-следственной связи между заключением контракта и причинением ущерба третьим лицам, сопоставлении объема общего излишка сторон и масштаба ущерба третьим лицам, наличии компенсирующих позитивных экстерналий и другие аналогичные соображения. В-третьих, выше мы показали, что некоторые сделки могут создавать негативные экстерналии в отношении интересов третьих лиц, в сделке не участвующих. Но некоторые сделки могут порождать негативные экстерналии в отношении стабильности и развития экономики в целом. Здесь следует согласиться с Р. Познером, Дж. Стиглицем, Р. Шиллером, Н. Рубини и рядом других современных юристов и экономистов, которые отмечают, что поведение участников некоторых рынков (независимо от того, является ли оно рациональным в отношении интересов самих участников сделки) зачастую склонно продуцировать серьезные проблемы для стабильного развития экономики в целом. Очевидно, что невидимая рука рынка не всегда работает успешно. Так, например, самый типичный и актуальный пример — систематическое надувание «пузырей» на финансовых рынках, рынках ценных бумаг и рынках недвижимости, «разрыв» которых способен причинить и регулярно причиняет значительный ущерб не только самим участникам этой ажиотажной гонки завышенных ожиданий, но и всей экономике: пенсионерам, чьи сбережения сгорают при крахе пенсионных фондов, наемным работникам, чьи рабочие места исчезают из-за разорения работодателей, и государству, а в итоге всем налогоплательщикам, вынужденным тратить миллиарды на стабилизацию финансовой системы и исправление просчетов любителей играть в спекулятивную рулетку. Возникновение, рост и разрыв таких «пузырей» являются неотъемлемой частью современной рыночной экономики и в некоторой степени побочным следствием ее гипердинамизма. В условиях рыночной экономики постоянно открываются потенциальные возможности много заработать, незанятые ниши, неудовлетворенный спрос, «прорывные» технологии или новые финансовые инструменты. Некоторые из этих возможностей являются мнимыми — другие же реальными. Инвесторы-капиталисты находятся в постоянных поисках возможностей максимально выгодно приложить свой капитал и пытаются успеть оказаться первыми к «праздничному столу», рискуя и ставя на кон собственные (а иногда и чужие) состояния. Как верно отмечал еще Кейнс, абсолютно точно просчитать риск невозможно. Знаменитый «предпринимательский дух» и состоит в том, чтобы все время быть готовым рисковать — выигрывать или проигрывать. Этот предпринимательский риск часто оказывается оправданным, и быстро накопившие инвестиции новые бизнес-проекты способствуют замечательному процессу рыночного созидательного разрушения (например, весь мир окутывают сети железных дорог или Интернета). Но еще чаще риск не оправдывается, и инвестиции сгорают, что заканчивается для капиталиста зачастую достаточно трагично (громкие провалы кажущихся удачными инвестиционных проектов происходят достаточно регулярно). Этот процесс рыночного естественного отбора в целом крайне эффективен и лежит в основе всей рыночной экономики. Но время от времени жадность и избыточный оптимизм инвесторов приводят к тому, что реальный спрос профессиональных предпринимателей уступает месту сугубо спекулятивному и начинается иррациональный ажиотаж, охватывающий значительные массы населения. Такие пузыри начали расти еще на заре капитализма и являются его верным спутником. Вспомним здесь о знаменитой «тюльпаномании» в Голландии в 1630-е гг., французской афере «Компании Миссисипи» в 1710-е гг. и буме акций «Компании южных морей» в Англии того же времени. Из недавних подобных случаев можно упомянуть так называемый «Пузырь доткомов» (dot-com bubble) конца 1990-х — начала 2000-х гг. или «пузыри» на рынке недвижимости многих стран в годы, предшествующие начавшемуся в 2008 г. мировому финансовому кризису. Судьба этих «пузырей», как правило, одинакова. Ажиотаж направляет в соответствующие рынки огромные потоки свободного капитала. Цены на предмет ажиотажа устремляются вверх, и начинает расти не основанный ни на чем, кроме веры людей в продолжение их роста, «пузырь». Поводом для его разрыва может быть любая случайность. Но после того как люди теряют веру в дальнейший рост данного актива, цены перестают расти, начинаются вначале осторожные, а затем обвальные распродажи, цены стремительно летят вниз, инвесторы банкротятся, взятые на эти спекуляции кредиты не возвращаются, разоряются банки, сгорают накопления людей, предприниматели реального сектора не могут получить кредит на развитие… Причем чем больше капитала было «влито» в этот «пузырь» на стадии его роста и чем больше участников оборота пыталось заработать на его росте, тем разрушительнее последствия его «разрыва» для всей экономики. Случай, когда прогорает отдельный бизнес-проект, — это индивидуальная драма; разрыв же глобального спекулятивного пузыря иногда превращается в национальную трагедию <1>. ——————————— <1> Подробнее о природе спекулятивных пузырей см.: Shiller R. J. Irrational Exuberance. 2nd ed. Crown Business, 2006; Kindleberger C. P., Aliber R., Solow R. Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises. 5th ed. Wiley Investment Classics, 2005.
По мере развития индустриального капитализма, увеличения свободных капиталов и глобализации экономики, развития современных телекоммуникаций и СМИ, обычно распаляющих такого рода ажиотажи, масштабы этих «пузырей» и драматичность их «разрывов» все нарастали. Напомним, что США отошли от Великой депрессии, спровоцированной «разрывом» в 1929 г. невиданного «пузыря» на фондовой бирже, только в годы Второй мировой войны и во многом благодаря ей. В этих условиях неудивительно, что государства иногда вводили регуляторные ограничения свободы экономических трансакций, обусловленные необходимостью предотвратить негативные экстерналии в отношении интересов всей экономики в целом и обеспечить стабильность ее развития. Устранение системных рисков, провоцируемых высокорискованным поведением отдельных «игроков», в XIX — XX вв. стало считаться одним из оснований для ограничения свободы договора во имя общего блага. Так, например, в США после Великой депрессии были введены жесткие ограничения в сфере финансовых сделок (в том числе и в отношении их условий), что, по мнению многих, препятствовало «надуванию» столь же масштабных спекулятивных «пузырей» вплоть до 1980-х гг. Эпоха дерегулирования и расширения договорной свободы во многих областях, начавшаяся с приходом к власти Рональда Рейгана, сняла эти барьеры и позволила участникам оборота посредством свободных и никак не регулируемых государством сделок, подпитываемых дешевыми деньгами ФРС и зарубежными инвестициями, запустить рост масштабных спекулятивных «пузырей» (прежде всего на рынках телекоммуникационных компаний и жилья), а нежелание государства регулировать сектор секьюритизации и деривативов способствовало тому, что эти диспропорции только усиливались <1>. ——————————— <1> Рубини Н., Мим С. Нуриэль Рубини: как я предсказал кризис. М., 2011. С. 27 и сл.
Эффективность мер по ограничению свободы финансовых сделок вызывает множество споров. В настоящий момент, судя по доступной нам литературе, многие эксперты и политики склоняются к необходимости ужесточения регулирования финансового рынка и ограничения свободы финансовых сделок. Другие эксперты им активно оппонируют, но в последние несколько лет часто проигрывают в деле влияния на реальное правотворчество. Не вдаваясь в обсуждение оправданности тех или иных конкретных ограничений, заметим, что, на наш взгляд, очевидно право государства на законодательном уровне вводить точечные ограничения свободы договора, предотвращая те или иные договорные практики, когда их использование может подорвать стабильность и рост экономики в целом и значительно ущемить интересы широких масс участников оборота в частности. Например, государство, осознавая серьезность проблемы «пузырей» на валютных, фондовых и иных рынках, «разрыв» которых всегда имел и имеет колоссальное негативное влияние на экономику в целом, может осторожно вводить некоторые ограничения в отношении операций с валютой и ценными бумагами, деривативами, секьюритизации и иных финансовых сделок. В этом же контексте следует воспринимать и императивный запрет на согласование в договорах банковского вклада с гражданами условия о запрете на досрочное снятие средств как часто оспариваемый, но пока действующий инструмент, посредством которого государство пытается обеспечить большее доверие граждан к банковской системе. Такие меры должны быть хорошо продуманы и ни в коем случае не избыточны. К сожалению, эти качества характеризуют вышеописанные инструменты ограничения свободы договора далеко не всегда. Но, говоря в общем, в современных условиях сложно отрицать, что государство, озабоченное стабильностью экономического развития, может ограничивать отдельные коммерческие практики во имя общего благосостояния. Если речь идет о детально продуманных и точечных мерах, а не об огульном ограничении всего и вся под прикрытием демагогических и неаргументированных доводов о защите экономики, такие меры могут быть оправданы с политико-правовой точки зрения. Так, например, там, где утрата некоторыми особенно рисковыми участниками рынка определенных возможностей извлечь краткосрочную прибыль из-за ограничения свободы договора несравнима с тем значительным ущербом, который может быть причинен такой рискованной деятельностью при расширении ее масштабов всей экономике, государство должно быть готово вводить те или иные ограничения, оберегая от соответствующих рисков не столько тех, кто был бы готов их принять, сколько интересы остального общества. В-четвертых, выше мы показали, что право большинства стран вводит те или иные ограничения свободы договора, когда сделка продуцирует негативные экстерналии в отношении интересов третьих лиц, а также перспектив развития и стабильности экономики в целом. На стыке этих двух случаев проявляет себя один из самых известных примеров того, как свободное соглашение может ущемлять интересы лиц, не участвующих в сделке. Речь идет о соглашениях, влекущих ограничение конкуренции. Ограничение конкуренции рассматривается в качестве основного примера «провала рынка», т. е. ситуации, когда контрактирование на основе идеи договорной свободы может не приводить к экономическому процветанию. Монополизм снижает объем выпуска товаров и услуг, их качество, поддерживает искусственный дефицит, нарушает естественные механизмы балансирования спроса и предложения, часто подрывает стимулы к инновациям, блокирует процесс повышения эффективности производства и снижения затрат, провоцирует неоправданные издержки на защиту монопольных позиций и имеет ряд других дефектов <1>. Хотя в ряде отдельных случаев монополизм и может быть экономически оправдан и даже эффективен как инструмент инновационного развития, еще со времен средневековых мыслителей и особенно после появления классической экономической теории он по общему правилу считается заслуживающим ограничения. ——————————— <1> Veljanovski C. G. Op. cit. P. 38.
Из-за того, что соглашения, направленные на подавление конкуренции, признаются большинством экономистов и юристов и общественным мнением в качестве ухудшающих положение потенциальных клиентов участников такого соглашения, а также с учетом того, что конкуренция справедливо рассматривается как залог успешного развития экономики в условиях рыночной парадигмы, право в большинстве стран получает серьезные основания отступать от принципа свободы договора в отношении сделок, влекущих подавление конкуренции <1>. ——————————— <1> Ойкен В. Основные принципы экономической политики. М., 1995. С. 364.
Некоторые экономисты оспаривают тот факт, что такого рода ограничения оправданы реальностью угрозы, которую создают монополии и договорные ограничения конкуренции <1>. В США споры в среде юристов и экономистов об эффективности антимонопольного регулирования ведутся последние десятилетия с небывалой интенсивностью. В последние 30 лет под воздействием критиков активного антимонопольного регулирования из стана столь влиятельной в США Чикагской школы экономического анализа права антимонопольный контроль в этой стране был значительно ослаблен. Сомнения в способности государства эффективно администрировать соответствующее антимонопольное регулирование и воскрешение веры в способность свободного рынка к саморегуляции в 1980-е гг. лишили юристов, поддерживающих жесткий антимонопольный контроль, прежнего влияния. Эффект этого изменения вызывает споры. ——————————— <1> Арментано Д. Антитраст против конкуренции. М., 2008.
Как бы то ни было, ни в США, ни в Европе антимонопольные ограничения соглашений, направленных на ограничение конкуренции, не были отменены полностью. В частности, под жесткий императивный ex ante запрет или судебный ex post контроль сейчас могут попадать соглашения о разделе рынка, ценовые сговоры, соглашения об ограничении предложения, соглашения об эксклюзивном дистрибьюторстве, фиксация цены перепродажи и иные подобные «горизонтальные» и «вертикальные» соглашения, ограничивающие конкуренцию. Различные нюансы введения подобных ограничений свободы договора обычно подробно регламентируются как в договорном, так и в антимонопольном законодательстве или прецедентной судебной практике, развивающейся на его основе. Не являясь компетентными в данной области, мы не возьмем на себя смелость представлять свою позицию по данной сложнейшей теме. Важно лишь отметить, что возможность некоторых таких ограничений соответствует представлениям, пожалуй, большинства современных экономистов. Думается, есть все основания считать этот тезис в целом верным. Споры могут вестись лишь об эффективности отдельных ограничений, механике такого контроля и разумной степени его интенсивности. В-пятых, не стоит забывать о том, что рациональный выбор — это лишь презумпция и иногда «ограниченная рациональность» участников оборота (например, сверхоптимизм) подталкивает их заключать сделки, не влекущие улучшение по Парето (т. е. невзаимовыгодные сделки). Идеально рациональный контрагент никогда не заключит договор, который принесет ему выгоду в размере 10 тыс. руб. в случае нормального развития событий, но при этом оговаривает уплату им в случае нарушения им договора неустойки размером в 100 тыс. руб., если вероятность такого нарушения равна 15%. Идеально рациональный контрагент, умножив сумму такой неустойки на процент вероятности ее уплаты, выяснил бы, что размер ожидаемых издержек по уплате неустойки равен 15 тыс. рублям, что с лихвой перекрывает выгоду от заключения договора. Но реальный участник оборота нередко такую ошибку допускает и заключает невыгодный для себя договор с драконовскими неустойками просто в силу патологической недооценки рисков. Ровно таким же образом идеально рациональный заемщик, легко соотнеся размер процентной ставки и всевозможные комиссии, зафиксированные в предлагаемом ему кредитном договоре, определил бы величину реального финансового бремени, которое он возьмет на себя при его заключении, и оценил бы Парето-эффективность договора. В то же время реальные заемщики в силу ограниченности своих когнитивных способностей часто не в состоянии осуществить данную элементарную математическую операцию и принимают на себя условия, которые они бы никогда не приняли, если бы смогли их адекватно осознать и оценить. Безусловно, проблема нарушения принципа Парето-эффективности в отдельных случаях из-за ограниченной рациональности контрагентов не означает, что право должно всегда исправлять такие ошибки. Более того, мы утверждаем, что такая регулятивная стратегия по исправлению просчетов должна быть крайне осторожной, а применительно к коммерсантам просто недопустима, так как их иррациональность в принципе непростительна. Но трудно отрицать тот факт, что столь же жесткий подход в отношении потребителей не вполне приемлем. В связи с этим неудивительно, что право большинства стран пытается в той или иной форме защитить потребителя от принятия на себя не вполне просчитанных и невыгодных договорных условий. В качестве примеров можно привести принуждение банков к раскрытию эффективной процентной ставки потребительских кредитов и запреты сокрытия процентного бремени заемщика-потребителя под видом всевозможных банковских комиссий. Безусловно, выше мы перечислили далеко не все утилитарные возражения против идеи Парето-оптимизации посредством заключения свободных договоров. Тем не менее их достаточно, чтобы проиллюстрировать наш тезис о наличии не только этических, но и серьезных утилитарных, и в том числе экономических, возражений против договорной свободы. В то же время эти возражения способны лишь поразить отдельные проявления договорной свободы и обосновать необходимость опровержения данной базовой для частного права презумпции в некоторых строго очерченных случаях, но на настоящий момент не сфальсифицировали «жесткое ядро» (позаимствуем этот термин у Имре Лакатоса) идеи договорной свободы как основного приводного ремня рыночной экономики, если по крайней мере мы говорим о «мэйнстриме» экономической и юридической наук, а также практике реальной экономической политики и регулирования экономического оборота в большинстве развитых и развивающихся странах.
Причины устойчивости «жесткого ядра» идеи договорной свободы
Почему же до сих пор «жесткое ядро» принципа свободы договора фундаментально не сфальсифицировано в экономической науке и правовом регулировании развитых и развивающихся стран? Почему ограничение государством договорной свободы, несмотря на очевидные случаи провалов рынка (негативных экстерналий, монополизма, примеров нарушения презумпции рационального выбора и т. п.), все же сохраняет во всех развитых и развивающихся странах статус исключения из общего правила, а государства воздерживаются от избыточных вмешательств в сферу автономии воли участников оборота? Здесь можно привести множество причин. Некоторые из них мы ниже обозначим.
Ограничения свободы договора и разрушение спонтанного порядка балансирования спроса и предложения
Мало кто среди экономистов, политиков и юристов западных стран сейчас спорит с тем, что плановая экономика, указывающая на то, какие блага и в каком количестве должны производиться и на каких ценовых и неценовых условиях и по каким каналам реализовываться, как правило, приводит к катастрофической экономической неэффективности. Так, например, экономисты давно (как минимум со времен Адама Смита) заметили, что введение максимальных цен искажает работу механизма балансирования спроса и предложения и провоцирует формирование устойчивого дефицита и очередей. Если спрос превышает предложение, а продавцы не могут поднять цены настолько, чтобы блага попали в руки тех, кто их ценит и готов заплатить за них больше, имеющийся объем предложения поглощается, а остальная часть спроса остается неудовлетворенной. Поднятие цены послало бы четкий и чувствительный сигнал покупателям сократить потребление дефицитного блага и искать субституты, продавцам — сигнал о необходимости оперативного роста производства для извлечения максимальной выгоды из создавшегося положения, а владельцам капитала — сигнал о том, что инвестиции в производство этого блага сейчас могут принести некие сверхдоходы. В результате возникший разрыв спроса и предложения в условиях свободного определения ценовых договорных условий был бы сравнительно быстро устранен за счет создания стимулов к росту предложения и снижению потребления. Фиксация же цен государством нарушает эту систему спонтанного координирования, сигналов и стимулов и консервирует дефицит. При этом тот факт, что цена сделки ограничена, отнюдь не означает, что покупатель платит именно столько, сколько предписано законом. В ответ на ограничение естественного роста цен, обусловленного превышением объема спроса над объемом предложения, как правило, неминуемо возникают черные рынки, на которых сделки совершаются по рыночной, равновесной цене, превосходящей законодательный максимум. В то же время сама нелегальность данной сделки создает риски, которые конвертируются в дополнительную прибавку к цене. В итоге сделки на черном рынке часто заключаются по ценам, даже превосходящим тот уровень, на котором они бы остановились при отсутствии законодательного максимума. Кроме того, даже если исключить проблему черного рынка, издержки покупателя все равно превышают ценовой максимум. Эти дополнительные издержки обременяют покупателя не напрямую, в виде дополнительных доплат к прежней цене, а в виде трансакционных издержек стояния в очереди, поиска дефицитного товара и т. п. При этом такие издержки становятся достаточно значительными, если мы примем в расчет не только явные издержки в виде фактически понесенных затрат, но и альтернативные издержки в виде упущенной выгоды от иного использования сил и времени, потраченных на стояние в очереди и поиск дефицита <1>. ——————————— <1> Альтернативными издержками некой деятельности в экономике называют упущенную выгоду от альтернативного использования своих ресурсов, сил и времени при наличии взаимоисключающих видов деятельности. Величина альтернативных издержек определяется как размер упущенной выгоды от наиболее экономически привлекательной из отброшенных альтернатив. Например, если человек покупает земельный участок за 1 млн. руб. и инвестирует в обработку земли и выращивание зерна еще 0,5 млн. («явные издержки»), чтобы в конечном итоге извлечь 1,8 млн. от продажи зерна в год, такая экономическая операция может prima facie показаться экономически эффективной, так как приносит человеку 300 тыс. прибыли. Но этот расчет не учитывает альтернативные издержки. Допустим, что если бы гражданин потратил те же самые 1,5 млн. руб. на приобретение земельного участка с загородным домом для сдачи в аренду, то он смог бы получить 2 млн. руб. арендной платы в год и извлек бы в итоге 0,5 млн. руб. прибыли. Последняя сумма и составляет альтернативные (неявные) издержки, которые разумный предприниматель должен в теории принимать в расчет при определении наиболее эффективного приложения своих ограниченных ресурсов. Если принять в расчет эту величину, то при прочих равных условиях выбор в пользу инвестиций в сельское хозяйство с чисто экономической точки зрения нелогичен, так как альтернативные издержки перевешивают прибыль от выращивания зерна. Это никак не отменяет тот факт, что выбор в пользу сельского хозяйства может быть предопределен не экономическими соображениями (например, личным пристрастием). Но данная ситуация сигнализирует об ошибке в расчете, если инвестор ставил перед собой сугубо коммерческие цели.
Если бы продавец из-за превышения спроса над предложением мог бы поднять цену, то дефицитное благо было бы распределено в руки тех, кто готов заплатить больше. Другие бы просто отказались от покупки, либо ограничив свои желания, либо найдя субституты. Очередь бы не образовывалась. Но если введен ценовой максимум, распределение ограниченного ресурса происходит не в пользу тех, кто готов больше заплатить за само благо, а тех, кто готов тратить больше усилий на его поиск, стояние в очередях и попытки достать дефицит. Альтернативные издержки в виде упущенной возможности потратить это время и силы на полезную производственную деятельность могут быть в ряде случаев куда выше издержек покупателя от необходимости приобретать товар по рыночной цене. Но это происходит далеко не всегда, так как потраченное «в очереди» время разных людей имеет разную альтернативную стоимость. Когда общество выбирает «принцип очереди», вводя максимальные цены в отношении тех или иных благ, оно на первый взгляд уравнивает бедных и богатых, лишая последних своих материальных преимуществ, но в реальности вольно или невольно отдает преимущество менее состоятельным. Это связано с тем, что свободное время менее состоятельных граждан, как правило, куда дешевле, чем время более состоятельных. Соответственно, альтернативные издержки получения ставшего дефицитным блага для бедных меньше, чем для более состоятельных сограждан. В итоге «принцип очереди» приводит к тому, что данное благо достается богатому дороже, а бедному — дешевле, т. е. в той или иной степени обеспечивает идеалы дистрибутивной справедливости, что является мечтой любого «перераспределителя». Мы в свою очередь допускаем, что в некоторых случаях подобная дистрибутивная стратегия и исключение преимуществ богатых за счет ограничения рыночного механизма, видимо, могут быть оправданы этически. Тем не менее следует признать, что эта мера часто оказывается в долгосрочном плане достаточно неэффективной. Альтернативные издержки, вызванные стоянием в очереди в той иной ее форме, и иные издержки, которые покупатели несут для приобретения дефицитного блага, в отличие от прироста цены не посылают нужных сигналов производителям. Указанные затраты отражают высокую заинтересованность покупателя в этом благе. Покупатель, простаивая в очереди несколько часов, посылает четкий сигнал о своей готовности потратить на этот товар больше, чем он официально стоит. Но эта доплата не уходит продавцу, а распыляется (в форме дополнительных положительных трансакционных издержек) или просто выступает как чистый убыток (в форме альтернативных издержек). В итоге сигнальный и стимулирующий эффект, который подталкивал бы продавца к более оперативному наращиванию объема производства и продаж ставшего дефицитным блага, поступай этот излишек именно ему, сбивается, и он менее оперативно реагирует на рост величины спроса. В итоге именно поэтому фиксация максимальных цен приводит к консервации дефицита на куда более длительный срок, чем если бы цены были свободными. В последнем случае на резкий рост спроса продавцы ответили бы столь же резким скачком цен. Но эти сверхдоходы как минимум в условиях наличия достаточной конкуренции простимулируют сравнительно быстрый рост производства, обеспечиваемый продавцами, заинтересованными в максимальном обогащении за счет этого всплеска спроса, и инвесторами, направляющими свободный капитал в производство этого дефицитного товара для извлечения сверхприбыли. В итоге предложение достаточно быстро вырастает, спрос насыщается, а возросшая конкуренция начинает толкать цены вниз. Все эти закономерности достаточно очевидны. Если речь идет о конкурентной среде и отсутствуют иные «провалы рынка», свободные цены куда более эффективно обеспечивают саморегуляцию экономического обмена, и государство по общему правилу должно воздерживаться от прямого ограничения ценовой свободы. Многие экономисты считают, что в случае особенно болезненных всплесков цен на жизненно важные блага куда более разумная регулятивная стратегия — прямые трансферты из бюджета тем, кто действительно нуждается в средствах для их приобретения. Мы не готовы однозначно и безоговорочно принять эту позицию без дополнительного анализа. Тем не менее вполне очевидно, что избыточное и систематическое вмешательство в работу «невидимой руки» и договорной свободы с целью коррекции динамики цен под влиянием колебаний спроса и предложения приводит к дисфункции рынка и крайне неприятным побочным эффектам. Правда, здесь следует оговориться, что, как было отмечено выше, далеко не все редкие блага с точки зрения общественной этики и практической реализуемости можно распределять путем свободных цен (например, органы, необходимые для трансплантации, или такие общественные блага, как дневное освещение в городах или дороги). Кроме того, далеко не везде и всегда имеется конкурентная среда. В условиях монополии стимулы к увеличению объема предложения значительно ниже, и монополии могут достаточно долго присваивать себе сверхдоходы, пользуясь силой своих переговорных позиций и поддерживая искусственный дефицит. Соответственно, в таких случаях иногда может потребоваться вмешательство государства или иного координирующего органа, устанавливающего максимальные цены или вовсе отменяющего рыночный принцип ценообразования <1>. ——————————— <1> Хейне П. Экономический образ мышления. М., 1991. С. 111 — 112.
В то же время современные экономики практически всех стран мира (и, безусловно, всех развитых и цивилизованных стран) считаются рыночными именно потому, что описанные выше примеры, когда те или иные блага распределяются не посредством договорной и ценовой свободы, являются скорее исключениями. Большинство всех дефицитных благ распределяются именно путем свободного ценообразования и согласования иных договорных условий, переходя в руки тех, кто готов заплатить больше. Именно такая система посылает те сигналы, которые стимулируют пропорциональный рост предложения и оперативную ликвидацию разрыва между спросом и предложением. В общем и целом вся система рыночной экономики работает именно на этом двигателе. Впервые выпущенные на рынок «прорывные» лекарства или технологии обычно вначале стоят дорого и достаются богатым, что может показаться несправедливым в краткосрочном периоде. Но в долгосрочном периоде жажда сверхприбыли стимулирует наращивание производства и усиление конкуренции производителей, удовлетворение спроса, усиление конкуренции и снижение цен, делающее данное благо или его заменители доступными любому. Достаточно сравнить стоимость и доступность мобильной связи в 1990-е и 2000-е гг. в России. В отсутствие государственного регулирования цен конкуренция провайдеров сотовой связи привела к тому, что мобильный телефон сейчас может позволить себе практически любой россиянин. Аналогичная картина наблюдается и при попытке государства реагировать на падение цен на те или иные блага путем установления минимальных цен (как в случае установления минимального уровня заработной платы). Такое вмешательство государства в сферу свободного ценообразования, в частности, в сфере трудовых отношений приводит к тому, что блокируется возможность заключения добровольной сделки по цене ниже законодательно предписанной, даже если работник был бы готов работать за такой небольшой оклад. В результате работодатель, который был бы согласен взять человека на работу только на зарплату ниже минимально предписанной, отказывается от найма. В конечном итоге это способствует росту безработицы, особенно в среде молодых и неопытных работников и чернорабочих <1>. Как категорически заявлял Нобелевский лауреат Гэри Беккер, «повысив минимальную заработную плату, вы лишите работы тысячи людей» <2>. Является ли это последствие желательным? Вряд ли. ——————————— <1> Сейчас негативное влияние законодательства о минимальной оплате труда на занятость признается большинством экономистов (см.: Paul E. F. Freedom of Contract and the «Political Economy» of Lochner v. New York // New York University Journal of Law and Liberty. 2005. Vol. 1. P. 553), хотя, как показывают некоторые исследования, этот негативный эффект сказывается только при значительном превышении минимальным уровнем оплаты труда его рыночного значения. <2> Цит. по: Самуэльсон П. Э., Нордхаус В. Д. Указ. соч. С. 173.
Это не значит, что законы о минимальных размерах оплаты труда вовсе не имеют разумных политико-правовых оснований (например, противодействие уклонению от уплаты налогов посредством выплаты зарплаты «в конвертах»). Но мы вынуждены признать возможность подобного побочного эффекта: введение ограничения ценовой свободы путем установления ценовых минимумов блокирует естественное балансирование спроса и предложения труда и формирует избыток нереализованного предложения (в данном случае — безработицу). Принципиален и спорен здесь вопрос степени этого негативного влияния на занятость, но само наличие указанного побочного эффекта, видимо, нельзя недооценивать. Когда минимальный уровень заработной платы становится ниже равновесного, он фактически не оказывает никакого влияния на рыночные процессы. Когда МРОТ отсекает лишь совсем маргинально низкие оклады, его влияние на свободное ценообразование будет в целом не столь значительным или вовсе не заметным. Но как только популизм толкает политиков к поднятию этого минимума на уровень, существенно превышающий равновесную, рыночную стоимость труда значительной части работников, это оказывает на рынок и занятость достаточно деструктивное воздействие.
Проблема неэффективности государства как заменителя рыночного порядка
Как уже отмечалось, у рыночного, спонтанного механизма распределения ограниченных ресурсов на основе договорной свободы в пользу тех, кто ценит их выше и готов заплатить больше, пожалуй, в современных условиях, когда возврат к натуральному хозяйству уже невозможен, есть, пожалуй, единственная альтернатива — делегация функции оценки интересов, издержек и выгод некому третьему лицу — «всемогущему плановщику». Если право не доверяет контрагентам самим определять цены и иные условия обмена, то единственный субъект, способный реально делать такой выбор, — это государство, или некие ассоциации, или иные подобные внешние структуры. В принципе они теоретически действительно способны разрушать рыночный порядок, определять, какие условия обмена будут действовать независимо от реальных желаний и предпочтений сторон, блокировать процесс перетекания благ в руки тех, кто готов платить за них больше, и прямо ограничивать те или иные виды сделок. Десятки стран, осуществлявших несколько десятилетий XX в. советский эксперимент, демонстрируют нам принципиальную возможность отмены рынка как такового. Эти возможности подавления рынка небезграничны. У любого государственного или иного внешнего вмешательства в рыночные процессы есть определенные пределы. Неизбежное возникновение в ответ на введение подобных интервенций черных рынков в странах плановой экономики иллюстрирует пределы государственных возможностей. Тем не менее, даже если отбросить этот нюанс, мы остаемся один на один с вопросом: «А судьи кто?» Насколько бюрократы способны обрабатывать всю необходимую информацию и координировать работу миллионов граждан и компаний таким образом, чтобы спрос и предложение балансировались, инвестиции шли именно в производство тех благ, которые востребованы обществом, существовали стимулы к наиболее продуктивному производству, а сами блага перетекали в руки именно тех, кому они нужнее всего? Известный экономист Артур Пигу считал, что у бюрократов имеются определенные возможности заменить свободный рынок, хотя они и носят ограниченный характер. Это, на его взгляд, предопределяет допустимость осторожного государственного вмешательства в рыночные процессы <1>. В то же время многие другие выдающиеся экономисты (такие, например, как Хайек) доказали принципиальную неспособность государства справиться с этой задачей в сколько-нибудь масштабном формате. ——————————— <1> Pigou A. C. The Economics of Welfare. Macmillan and Co. Pub., 1920. P. 296.
Для нас вполне очевидно, что отрицать полностью способности государственной бюрократии исправлять сбои в работе свободного оборота в современных условиях достаточно сложно. В то же время здесь следует проявлять повышенную осторожность. Рынок способен интегрировать и перерабатывать объем информации (о запасах, динамике издержек, колебаниях спроса, субъективной ценности благ и т. п.), непосильный для любой системы централизованного планирования <1>. Эта информация не централизована и распылена среди миллиардов людей. Каждый человек владеет лишь той частицей этой общей информационной картины, которая характеризует его потребности и возможности. Свободный же рынок создает такую систему стимулов, при которой эта распыленность информации и отсутствие единого центра управления не препятствуют, а, наоборот, формируют основания для координации экономического взаимодействия людей. Как справедливо отмечается, «система рыночных цен реагирует на эту децентрализацию информации децентрализацией власти по принятию экономических решений… и передает игрокам рынка именно ту информацию… которая нужна им для принятия разумных решений» <2>. Попытка же организовать командно-административный формат экономического взаимодействия индивидов попросту обречена в силу естественных эпистемологических ограничений. Никакой Госплан неспособен справиться с задачей по обработке необходимого объема информации о предпочтениях, ценности благ, издержках, дефиците, рисках, шансах, ожиданиях и других обстоятельствах и более или менее активно выбирать обоюдно выгодные условия миллиардов совершаемых в обороте сделок лучше, чем сами участники оборота, имеющие реальные стимулы к наиболее рациональному поведению. ——————————— <1> См.: Хайек Ф. А. фон. Дорога к рабству. М., 2005. С. 236 — 237; Hayek F. A. The Use of Knowledge in Society // American Economic Review. 1945. Vol. 35. P. 526 ff. (перевод на русский язык см.: Хайек Ф. А. Индивидуализм и экономический порядок. М., 2011. Гл. IV «Использование знания в обществе» (доступно в Интернете по адресу: http://www. libertarium. ru/10062)). <2> Zwolinski M. Price Gouging and Market Failure // New Essays on Philosophy, Politics and Economics: Integration and Common Research Projects / C. Favor, G. Gaus, J. Lamont (eds.). Stanford University Press, 2010. P. 333 ff. (перевод на русский язык доступен в Интернете по адресу: http://www. inliberty. ru/library/study/2538).
В силу этих естественных информационных ограничений попытки государства административно навязывать участникам оборота ассортимент и объемы продукции и услуг, цены и параметры обмена в ряде случаев приводят к дефициту и очередям, низкой эффективности и падению производительности труда, производству массы не востребованных обществом благ, снижению инвестиционной и инновационной активности, иногда к росту коррупции и в конечном итоге к стагнации. Это на своем примере почувствовали миллиарды жителей Земли, вольно или невольно оказавшиеся участниками коммунистического эксперимента. Возврат большинства бывших советских государств к рыночной парадигме и принципу свободного экономического обмена был неизбежен и предопределен. При прочих равных условиях свободный обмен позволяет обеспечить значительно более эффективное распределение ограниченных экономических ресурсов, чем может предложить система централизованного планирования. И основная причина здесь именно в информационной ограниченности любого централизованного регулятора. Так, например, как установление патерналистски обусловленных императивных норм, так и осуществление патерналистской коррекции договорной свободы ex post во имя идеи защиты слабой стороны договора требует от государственных служащих (законодателей или судей) крайне высокой компетенции, необходимой для адекватной оценки эффективности и справедливости договорных условий, их оценки в совокупности с иными договорными условиями, обстоятельствами заключения договора и устоявшейся бизнес-практикой. Иначе говоря, чтобы исправить сбой теории рационального выбора, бюрократы должны быть более рациональными, чем сами стороны. Но логично задаться вопросом: если мы не уверены в рациональности кровно заинтересованных в согласовании выгодного контракта участников сделки, всегда ли мы можем быть уверены в том, что бюрократы, куда менее заинтересованные в результатах сделки, не страдают ограниченной рациональностью? <1> ——————————— <1> Glaeser E. L. Paternalism and Psychology // Regulation. 2006. Vol. 29. No. 2. P. 2 (доступно в Интернете по адресу: http://papers. ssrn. com/sol3/papers. cfm? abstract_id=917383&).
При этом основная проблема состоит даже не столько в сложностях абстрактного определения ex ante или казуистичного введения ex post тех или иных ограничений договорной свободы, сколько в сложности просчета законодателями или судами тех долгосрочных последствий, которые вытекают из принятия и фиксации на будущее вводимых ограничений свободы договора. Возможности бюрократов предугадать долгосрочные последствия вводимых ограничений, как правило, невелики. Для просчета долгосрочного эффекта принимаемых мер требуется очень высокая экспертиза и анализ множества взаимовлияющих факторов. Во многих случаях абсолютно точно просчитать такие последствия крайне сложно. При этом часто на коротком временном отрезке эффект от принимаемых ограничительных мер может вполне удовлетворить регулятора, в то время как долгосрочные последствия могут оказаться крайне нежелательными. Пытаясь бороться с негативными экстерналиями частного оборота, правительства часто невольно провоцируют возникновение не менее разрушительных негативных экстерналий от своего вмешательства <1>. В ряде случаев вызванный ограничением свободы договора этический и экономический выигрыш «сегодня» покупается за счет непреднамеренных экономических и этических издержек «завтра». ——————————— <1> Таллок Г. Общественные блага: перераспределение и поиск ренты. М., 2011. С. 36.
Эти проблемы порой игнорируются государством, которое часто не удосуживается прогнозировать то, к чему иногда приводят такие благие намерения. В результате во многих случаях от введения тех или иных ограничений свободы договора либо вовсе нет никакого эффекта с точки зрения тех целей, которые были перед такой мерой поставлены, либо «волны» непреднамеренных негативных последствий расходятся крайне широко, деформируя сложные взаимосвязи и провоцируя негативные внешние эффекты далеко за пределами того, что могло предвидеть государство. Так, например, некоторые недавно опубликованные социолого-экономические исследования показывают, что принятый в РФ Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», который ввел множество ограничений договорной свободы в отношениях между поставщиками продукции и розничными торговыми сетями (например, ограничил размер «бонуса» за объем продаж, ввел максимальные сроки отсрочки платежа и т. п.), не возымел того эффекта, на который рассчитывали разработчики. Как отмечает В. В. Радаев, в итоге «малый бизнес выиграл заметно меньше крупного бизнеса, поставщики не получили заметных преимуществ по сравнению с розничными сетями, а вместо конечных потребителей бенефициарами новых условий стали скорее чиновники» <1>. Нам трудно без детального изучения данного специального вопроса согласиться или не согласиться с В. В. Радаевым в этой оценке. Тем не менее такого рода неудачи в достижении целей введения сколько-нибудь интенсивного и масштабного регулирования содержания договорных отношений случаются достаточно часто, а для российского правотворчества являются чуть ли не правилом. ——————————— <1> Радаев В. В. Возвращение государства к регулированию внутренней торговли в России: анализ процесса разработки, обсуждения и первых последствий принятия Федерального закона о торговле // Аналитика ЛЭСИ. Вып. 8. Государственное регулирование торговой деятельности: основы и противоречия. М., 2011. С. 59 (доступно в Интернете по адресу: http://www. hse. ru/mag/analitics/2011-8.html).
И это вполне понятно. В ходе нашей повседневной жизни мы после приобретения некоторого опыта куда быстрее осознаем негативные побочные последствия осуществляемого якобы в наших интересах патернализма и его деструктивное влияние на наши собственные интересы, чем это может сделать законодатель, принимающий абстрактные нормы, или высшие суды, фиксирующие некие прецедентные правовые позиции. Законодатели или судьи часто не испытывают на себе побочные эффекты принимаемых решений. Сигналы отрицательной обратной связи от неудачных ограничительных решений нечасто до них доходят, так как они сами далеко не всегда живут по тем правилам, которые пишут, или просто с ними не сталкиваются. Так, например, судьи не занимаются бизнесом и не могут ощутить напрямую негативные последствия принятия тех или иных ограничений свободы сугубо коммерческого договора. Это снижает стимулы к более осторожному подходу и глубокому изучению последствий принимаемых решений перед их введением. Казалось бы, регулятор должен опасаться общей утраты доверия со стороны общества, и именно это должно заставлять его стремиться максимально добросовестно оценивать регуляторное воздействие своих решений. Но в макроэкономическом плане негативный эффект от каждой неоправданной патерналистской меры по ограничению свободы договора оказывается слишком незначительным, чтобы быть сколько-нибудь чувствительным с политической точки зрения. Проблема заключается в том, что накопление критической массы таких неоправданных ограничений может в долгосрочной перспективе привести к куда более серьезным негативным последствиям для развития экономики в целом и формирования конкурентоспособной институциональной среды функционирования рынков. Но далеко не всегда чиновники и политики способны смотреть столь далеко. Кроме того, даже если отвлечься от проблем с определением долгосрочных последствий принятия тех или иных патерналистских ограничений свободы договора, достаточно остро стоит проблема в области функционирования моральной интуиции бюрократов. Для того чтобы уверенно оценивать договор на предмет справедливости, соответствующие чиновники должны иметь хотя бы когерентные и отрефлексированные представления о справедливости. Ведь оценки несправедливости сделок со стороны государства хотя и являются по большей части интуитивными, но могут быть терпимы обществом только тогда, когда соответствующие чиновники способны как минимум различать концепции коррективной и дистрибутивной справедливости, иметь опыт оценки всех этических pro и contra при решении моральных дилемм, различать понятия негативной и позитивной свободы, иметь определенные представления об этических основаниях и издержках патернализма и т. п. К сожалению, элементарный опыт показывает, что далеко не всегда у чиновников и судей имеется подобная компетенция. Соответственно, бездумное расширение практики патерналистски обусловленных ограничений свободы договора повышает риски абсолютно произвольных интуиций, не только не учитывающих оценки долгосрочных последствий, но и не опирающихся на некоторое последовательное и осмысленное представление о справедливости. Но даже если бы государство было способно принимать решения, которые оказываются лучше, чем те, которые естественным образом вытекают из рыночных процессов, возникает проблема стимулов к преследованию общественного блага. Дело в том, что многие современные западные экономисты, политологи и юристы перестали верить в дескриптивную точность и принципиальную реализуемость концепции бюрократии как института, единственная цель существования которого состоит в обеспечении общественного блага. Государство, как показывает современная теория публичного (общественного) выбора (public choice theory) <1>, не представляет собой некий единый мозговой центр, озабоченный национальным процветанием и справедливостью для всех. Эти идеалистические представления опровергнуты печальным опытом существования государств под властью авторитарных и тоталитарных правителей, а также достаточно циничными реалиями функционирования более или менее демократических государств Нового времени. Современное государство, являющееся или объявляющее себя демократичным, преимущественно состоит из тысяч бюрократов, значительная часть которых нацелена не столько на общее благо, сколько на максимизацию свой личной выгоды (материальной или даже коррупционной, карьерной, политической, социальной), и не имеет достаточных стимулов, чтобы искренне и всерьез просчитывать наиболее разумные регулятивные решения, и в том числе ограничения договорной свободы. Законотворчество находится под сильнейшим лоббистским давлением, а политические партии лавируют между лоббистами и группами специальных интересов, дабы не обмануть ожидания спонсоров, поддержавших их политические кампании или банально их коррумпировавших, и одновременно не сильно подорвать свой имидж в глазах избирателей и шансы быть переизбранными и продолжить максимизировать (или даже капитализировать) свой политический ресурс. Суды же хотя и куда менее зависят от лоббистов и прихотей народных чаяний, но во многих странах либо коррумпированы, либо катастрофически перегружены, либо крайне далеки от реалий рынка и в любом случае не имеют достаточной экономической компетенции и фактической возможности просчитывать долгосрочные последствия своего правотворчества. В итоге иногда даже самые искренние их попытки скорректировать волю контрагентов часто оказываются крайне неудачными. ——————————— <1> См. подробнее: Мюллер Д. Общественный выбор III. М., 2007.
Даже если на данном этапе забыть о коррупции, стоит задаться вопросом: насколько можно доверять рациональности такого регулятора? Можем ли мы допускать, что мнения бюрократов в отношении параметров экономического обмена окажутся в большинстве случаев более рациональными, чем мнения заинтересованных в обеспечении собственных интересов участников оборота? Думается, что при всех этих проблемах радикально отрицать полезную роль государственного вмешательства невозможно, но верить в то, что государство в масштабном формате или достаточно интенсивно способно заменять своей волей автономию воли дееспособных граждан и предпринимателей и при этом обеспечивать лучшие результаты, было бы верхом наивного «регуляторного идеализма». С учетом этого стоит согласиться с английским философом и экономистом Генри Сиджвиком, который писал, что «вовсе не очевидно, что в тех случаях, когда не работает принцип laissez-faire, целесообразно государственное вмешательство», поскольку неизбежные отрицательные стороны последнего могут в любом конкретном случае перевешивать недостатки первого <1>. Достаточно часто государство испытывает не меньшие сложности при попытке эффективного и справедливого распределения благ, чем рыночный механизм, даже в случаях его «провалов». Если мы имеем некоторые несовершенства рыночного процесса, это отнюдь не означает, что попытки государства скорректировать эти сбои могут улучшить положение. Любое решение об ограничении свободы договора и опровержении данной базовой презумпции частного права может быть принято только с учетом оценки реальных возможностей государственных институтов и сравнительной эффективности государственного вмешательства в качестве «лекарства» от «болезней» рынка и некоторых проблем, возникающих вследствие применения принципа договорной свободы. ——————————— <1> Sidgwick H. Principles of Political Economy. 2nd ed. Macmillan, 1887 (цит. по: Zwolinski M. Op. cit. P. 333 ff.).
Риски переноса издержек на адресатов патерналистской опеки, кросс-субсидирования и блокирования взаимовыгодных сделок
Часто ограничение свободы договора имеет свою цену, которую приходится платить тем, ради чьих интересов это ограничение вводилось. Данная закономерность особенно характерна применительно к патерналистски обусловленным ограничениям свободы договора во имя защиты его слабой стороны от несправедливых договорных условий. Патерналистские ограничения чаще всего вводятся в целях защиты некоторых «слабых» категорий контрагентов (например, потребителей, клиентов монополистов или работников). Такие ограничения могут касаться цен (например, борьба с монопольными ценами, минимальные уровни оплаты труда и т. п.) или иных договорных условий (например, признание ничтожными условий, ограничивающих ответственность, снижение договорной неустойки и т. п.). В реальности различие между этими двумя моделями не столь значительно. Все неценовые договорные условия отражаются в финальной цене договора, которая всегда производна от характера не только самого товара, работы или услуги, но и всего комплекса вытекающих из договора прав и обязанностей сторон. К сожалению, юристы не всегда осознают эту взаимосвязь. Цена всегда является элементом «единого пакета» со всей согласованной сторонами и вытекающей из закона структурой договорного правоотношения. Соответственно, любые ограничения свободы договора приводят к блокированию потенциально возможного (при ex ante запрещении тех или иных условий) или нарушению согласованного в договоре (при ex post коррекции судами свободы договора) баланса между ценой и неценовыми условиями договора. Непосредственной задачей таких ограничений, как правило, является более справедливое распределение общего кооперативного излишка, т. е. восстановление баланса интересов сторон и обеспечение коррективной справедливости. Prima facie эта задача кажется вполне реализуемой. Например, если при принятии во внимание не только цены, объема и качества товара, но и всего комплекса договорных условий (гарантии качества, условий ремонта, освобождения от ответственности, размера неустойки и т. п.) мы приходим к выводу, что общий экономический излишек распределяется между монополистом и его клиентом в пропорции 90/10, то вмешательство законодателя или суда, отменяющих те или иные выгодные монополисту условия, может теоретически изменить эту пропорцию в сторону улучшения положения клиента и более справедливого распределения кооперативного излишка (например, до уровня 70/30). Но на практике иногда все оказывается значительно сложнее. Во-первых, в долгосрочном плане блокирование тех или иных договорных условий в ряде случаев приводит к компенсирующему выпадающие доходы изменению других условий. Например, ограничение государством свободных цен часто компенсируется ухудшением положения контрагента в части качества товаров, работ или услуг или других прав и обязанностей, и наоборот, ограничение неценовых параметров сделки часто отражается на изменении цен в будущем. Рассмотрим последнюю ситуацию более подробно. В результате патерналистского ограничения свободы договора соответствующая доля ожидаемого кооперативного излишка перераспределяется от одной стороны в пользу другой. Соответственно, блокирование несправедливых договорных условий снижает выгоды от договора для той стороны, которая от такого ограничения свободы договора проигрывает (рост ожидаемых издержек или снижение ожидаемой выгоды). Для этой стороны данное ограничение имеет последствия, схожие с теми, которые возникают при возложении на нее бремени по уплате налога в связи с заключением данной категории сделок или увеличении постоянных экономических издержек (например, росте цен на топливо, аренду и т. п.). Разница лишь в том, что рост издержек или изъятие налога обременяет бухгалтерские книги соответствующего контрагента напрямую. В то же время ограничение свободы договора отнимает у него соответствующую доступную ему в силу условий договора долю дохода, передавая ее другой стороне посредством перераспределения прав и обязанностей (при судебном ex post контроле справедливости), или заранее блокирует возможность первой стороны в реальности получить этот доход, доступный ей в чисто рыночных условиях, посредством введения императивных норм (при ex ante контроле). Случаи государственного вмешательства в свободный оборот посредством введения налогов на соответствующую операцию или прямого ограничения договорной свободы с точки зрения влияния на поведение того, против интересов кого такое вмешательство направлено, если и различаются, то непринципиально. При этом, как известно, увеличение налогов или постоянных издержек часто приводит к росту цены и переносу (passing along) всего или части возросшего экономического бремени на контрагентов <1>. Например, рост стоимости рефинансирования коммерческих банков (например, из-за роста ставки рефинансирования или удорожания заемного капитала на зарубежных рынках) рано или поздно приводит в той или иной степени к росту процентных ставок по кредитам в национальной экономике. Повышение же цен на закупаемое авиационное топливо, как правило, достаточно быстро приводит к повышению авиакомпаниями цен на авиабилеты. Примеры такого рода случаев компенсации роста реальных издержек за счет изменения цен и переноса издержек на контрагентов по цепочке вплоть до конечных потребителей можно продолжать достаточно долго. В целом тот же эффект переноса издержек часто происходит и при введении ограничений свободы договора, нацеленных на локальную отмену естественных переговорных преимуществ одного из контрагентов. Особенность здесь состоит в том, что патерналистское ограничение свободы договора, будучи направленным на защиту интересов одной из сторон против сильных переговорных позиций другой, в итоге в ряде случаев приводит к переносу возникающих в связи с введением ограничения издержек именно на самого адресата патерналистской опеки. Иначе говоря, в ряде случаев за улучшение своего положения такой стороне приходится платить рублем из-за вызванного введением такого ограничения изменения цен. ——————————— <1> В экономической науке обычно не подвергается сомнению факт, что в реальности носителем налогового бремени далеко не всегда является формальный налогоплательщик. В одних условиях рынка (эластичный спрос) эффект переноса будет минимальным, и большая часть этого финансового бремени действительно останется на налогоплательщике; в других же условиях (неэластичный спрос) основная часть бремени будет рано или поздно перенесена на клиентов налогоплательщика в форме повышения цен. В неких промежуточных случаях бремя выросших налогов может перераспределяться между налогоплательщиком и его клиентами приблизительно поровну. В любом случае ни для кого не секрет, что повышение налогов на бизнес часто приводит к общему росту цен и перенесению как минимум части этого бремени на конечных потребителей (см. подробнее: Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Указ. соч. С. 720 — 723; Самуэльсон П. Э., Нордхаус В. Д. Указ. соч. С. 168 — 171).
Такой перенос издержек как в случае налогового изъятия или роста постоянных издержек, так и в случае ограничений свободы договора происходит далеко не всегда. В теории все зависит от эластичности спроса и предложения, уровня конкуренции и ряда иных факторов. Если спрос на соответствующие товар, работы или услуги эластичен по цене, продажи непропорционально сильно упадут при поднятии цены из-за особой чувствительности контрагентов к ее уровню (например, из-за наличия на рынке легкодоступных субститутов соответствующих благ). В связи с этим компании, предлагающие данные товары, работы или услуги, вынуждены сдерживать рост цен не только из-за конкуренции <1>, но и из-за страха значительно сократить свои продажи. Соответственно, столкнувшись с неким патерналистским ограничением свободы договора не в свою пользу, такие компании, скорее всего, не смогут ни в полной, ни даже в значительной мере компенсировать выпадающие доходы за счет роста цены (или процентной ставки). Они будут вынуждены просто смириться с некоторым снижением своих выгод от этой категории сделок (т. е. по большей части принять рост издержек на себя). Если рентабельность данных сделок для этой компании превышает рост издержек от таких ограничений свободы договора, их введение не лишает договор статус Парето-эффективного, и, соответственно, компании сохранят интерес заключать такие сделки, но будут вынуждены умерить свои аппетиты. В этом случае патерналистское перераспределение прав и обязанностей (а значит, и общего кооперативного излишка) в долгосрочном плане действительно теоретически может несколько улучшить положение клиентов этой компании. И чем более эластичен спрос по цене, тем менее вероятно увеличение цен и тем, соответственно, более эффективны попытки права добиться перераспределения выгод от сделки между двумя ее сторонами. ——————————— <1> Именно эластичность спроса по цене вынуждает монополистов сдерживать свои ценовые аппетиты. Компания может занимать монопольное положение на рынке производства определенного товара и не испытывать никакого давления со стороны конкурентов, но при этом часто вынуждена ограничивать рост цен на данный товар из страха того, что клиенты переориентируются на товары-субституты или просто изменят свой образ жизни так, чтобы избежать приобретения данного товара.
Тут, конечно, мы значительно упрощаем имеющие место в реальной экономике закономерности. Многое здесь зависит еще и от уровня конкуренции на рынке, эластичности предложения и ряда иных факторов. Так, например, если уровень конкуренции на рынке, скажем, туристических услуг очень высок, это значит, что как минимум в теории цена турпутевок и без того должна быть крайне близка к величине предельных издержек турфирм. Соответственно, введение ряда чувствительных, патерналистски детерминированных ограничений свободы договора в пользу туристов может поднять уровень издержек турфирм настолько, что они не смогут продолжать продавать туры по соответствующему направлению, не повысив цену. В результате произойдет компенсирующий рост цен. Общий объем выручки турфирм уменьшится из-за того, что в силу эластичности спроса по цене последний отреагирует на поднятие цены непропорциональным снижением. Тем не менее то количество потребителей, которые будут готовы покупать туры по выросшей цене, будут платить цену соответствующих патерналистских мер. Иначе говоря, проигравшими в такой ситуации окажутся как турфирмы, неспособные избежать повышения цен и теряющие в связи с этим на снижении объемов продаж, так и потребители, одни из которых оказываются вынужденными отказываться от подорожавших турпоездок, а другие платят из своего кармана за повышенную защиту, которую им предоставляет соответствующая императивная новелла договорного права. Ситуация кардинально меняется, если спрос неэластичен по цене (т. е. при росте цены спрос снижается непропорционально). В таком случае потребители реагируют на рост цен достаточно слабо, и он сдерживается преимущественно конкуренцией. Неэластичность спроса обычно является следствием отсутствия на рынке доступных субститутов соответствующего блага (например, бензина, сигарет, ряда жизненно важных лекарств и т. п.), крайней незначительности доли, которую приобретение данного блага занимает в расходах покупателя (например, карандашей, спичек и т. п.), и многих других факторов. В этом случае в результате патерналистских ограничений свободы договора в долгосрочной перспективе улучшение положения контрагентов происходит в принципе лишь в незначительной степени. Рост издержек продавцов от введения патерналистских ограничений по прошествии некоторого времени в значительной степени компенсируется ими ростом цен. Покупатели, чей спрос неэластичен по цене, просто не накажут их за это значительным снижением объема закупок. Спрос чаще всего не бывает абсолютно неэластичным, и, соответственно, при росте цен падение продаж все равно происходит, хотя и значительно медленнее и непропорционально. Соответственно, коэффициент переносимости издержек вряд ли будет равен 100%, и некоторая доля выросших издержек останется на продавце. Тем не менее при неэластичном спросе часто наблюдается картина, при которой контрагенты, в чью пользу вводятся ограничения свободы договора, платят за это в будущем из-за роста цен. Но здесь опять же ситуация не столь простая и однозначная. Определенное значение имеет и ряд иных факторов (эластичность предложения, уровень конкуренции и т. п.). Так, например, даже при неэластичном спросе компенсирующий рост цен зачастую может быть заблокирован реалиями ценовой конкуренции. Соответственно, высокий уровень конкуренции может в ряде случаев заставить продавца принять основную часть роста издержек, вызванных ограничением свободы договора, на свой счет несмотря на неэластичность спроса. Но тогда, когда конкуренция ограничена или просто далека от совершенного состояния, эта компенсирующая роль фактора конкуренции не срабатывает или срабатывает не в полной мере. Соответственно, бороться с эффектом переноса издержек в таких случаях можно, только одновременно беря под контроль договорные цены. Это теоретически может заставить продавца смириться со снижением своей доли в общем кооперативном излишке. Поэтому, видимо, недаром именно в антимонопольном праве России и ряда иных стран допускается борьба не только с несправедливыми неценовыми условиями, но и с монопольными ценами, навязываемыми своим контрагентам лицами, занимающими доминирующее положение на рынке. Но очевидно, что такого рода экстраординарно интенсивный и тотальный контроль свободы договора вряд ли возможен за рамками антимонопольного права. В то же время на многих рынках хотя и нет очевидного доминирования отдельных хозяйствующих субъектов, но уровень конкуренции тем не менее далеко не самый высокий. Можно предположить, что в России, где в силу ряда институциональных причин уровень конкуренции невысок на многих рынках, перенос издержек от введения патерналистских ограничений свободы договора на контрагентов при неэластичности спроса по цене будет в той или иной степени происходить. Как мы видим, интенсивность переноса издержек на контрагента может зависеть не только от эластичности спроса по цене, но и от уровня конкуренции. Имеет также значение и феномен «ограниченной рациональности». Так, например, вполне возможно, что в реальности интенсивность переноса издержек от патерналистских ограничений свободы договора на самих жертв «несправедливости» при неэластичном спросе может быть ниже, чем при введении в такой же ситуации налогов или росте постоянных издержек. Можно предположить, что скорость и сама способность осознания компаниями объема своих потерь, вызванных введением того или иного патерналистского ограничения свободы договора в части неценовых условий, могут оказаться значительно ниже в силу элементарных эпистемологических причин. Ведь одно дело, когда у компании вполне определенно изымают некоторую вполне конкретную сумму или лишают ее возможности эту сумму заработать (при введении ограничений ценовых условий, установлении налогов на данную сделку или росте постоянных издержек), и несколько другое, когда потери компании вызваны признанием правом незаконным, например, одного типа используемой компанией оговорки об освобождении от ответственности и выпадением вследствие этого некоторой ожидаемой с той или иной долей вероятности выгоды. В последнем случае, безусловно, компания также несет имущественные потери, но эти потери трудно подсчитать без проведения специального экономического исследования, оценки вероятности нарушения и попадания дел в суд и т. п. Безусловно, любое такое изменение договорных условий должно иметь и имеет свою цену. Но думается, что на практике компании просто далеко не всегда могут перевести в денежное выражение объем своих потерь и математически точно высчитать необходимый уровень компенсирующего роста цены. Соответственно, в научном плане крайне востребован серьезный сравнительный анализ переноса издержек, образующихся от вменяемых одному из контрагентов налогов или роста постоянных издержек, с одной стороны, и от патерналистского регулирования, ограничивающего договорную свободу в пользу другого контрагента — с другой. Юристам необходимо более детально изучить зависимость интенсивности переноса издержек, вызванных патерналистским ограничением свободы договора, от уровня эластичности спроса, уровня конкуренции и других факторов, чтобы постараться выработать некую «эвристическую матрицу», к которой можно было бы обращаться при желании просчитать побочные последствия возможного введения того или иного ограничения. Пока мы такую матрицу не выработали в рамках междисциплинарных исследований, в отношении вероятности переноса издержек можно лишь делать предположения, требующие ad hoc верификации с учетом реалий соответствующих рынков и ряда иных факторов. Тем не менее, как бы то ни было, для нас вполне очевидно, что во многих случаях этот феномен возможен и в реальности имеет место, особенно когда патерналистские ограничения договорной свободы носят достаточно чувствительный характер, могут быть относительно легко подсчитаны и, соответственно, создают четкие стимулы к возмещению выпадающих доходов. В зарубежной юридической науке эти проблемы патерналистских ограничений свободы договора обсуждаются достаточно давно <1>. ——————————— <1> См., например: Craswell R. Passing on the Costs of Legal Rules: Efficiency and Distribution in Buyer-Seller Relationships. P. 361 ff. (автор защищает парадоксальный на первый взгляд тезис о том, что в реальности покупатели больше выигрывают от такого правила, издержки которого на них переносятся, чем от правила, издержки которого продавцы в силу структуры рынка на них перенести не могут); Kennedy D. Distributive and Paternalistic Motives in Contract and Tort Law: With Special Reference to Compulsory Terms and Unequal Bargaining Power // Maryland Law Review. 1982. Vol. 41. P. 604 ff. (автор, лидер движения критических правовых исследований, соглашается с наличием взаимосвязи между переносом издержек от патерналистских ограничений свободы договора и уровнем эластичности спроса по цене, но обращает внимание также и на фактор уровня конкуренции); Kronman A. T. Paternalism and the Law of Contracts // Yale Law Journal. 1983. Vol. 92. P. 772 — 774 (автор, анализируя проблему переноса издержек патерналистских ограничений свободы договора на жертв несправедливости, приходит к выводам о том, что этот перенос возможен только при определенной структуре рынка, а также о том, что даже при наличии такого переноса в ряде случаев могут иметься основания вводить данные ограничения с целью патерналистского навязывания контрагентам некоего права, за которое они по наивности своей при свободном контрактировании вряд ли бы согласились платить). Особенно большой объем литературы в США был посвящен анализу феномена переноса издержек, вызванных патерналистскими ограничениями договорной свободы на рынке найма жилья (обзор источников см.: Lewinshon-Zamyr D. In Defence of Redistribution Through Private Law // Minnesota Law Review. 2006 — 2007. Vol. 91. P. 335 — 336).
Во-вторых, в ряде случаев ограничения свободы договора в силу специфики переноса издержек защищают интересы одних клиентов за счет других. Например, часто ограничения свободы договора создают своего рода эффект кросс-субсидирования, когда избирательное ограничение свободы договора приводит к тому, что одна категория клиентов оплачивает более выгодное положение другой <1>. Так, например, государство может решить императивно ограничить ответственность заемщиков, попавших в просрочку, или сугубо в патерналистских целях вывести вне закона те или иные средства обеспечения, на которые заемщики готовы были бы согласиться. В результате такой меры положение попавших в просрочку заемщиков улучшается, и государство может считать поставленную задачу по обеспечению справедливости реализованной. Но как только мы смотрим на «внешний эффект» этой меры, далеко не всегда наблюдаемая картина может быть признана столь же приемлемой. ——————————— <1> Подробнее о проблеме кросс-субсидирования в контексте ограничения свободы договора см.: Slawson W. D. Binding Promises: the Late 20th Century Reformation of Contract Law. Princeton University Press, 1996. P. 100.
Понижение уровня ответственности категории проблемных заемщиков и обеспеченности предоставленных кредитов во имя справедливости зачастую приводит к ослаблению стимулов к соблюдению договорной дисциплины и снижению вероятности фактического возврата долга. Банк в силу асимметрии информации при заключении договора, как правило, не в состоянии точно определить, попадет данный заемщик в категорию «проблемных» или нет. Это, в свою очередь, стимулирует банки компенсировать общее повышение риска невозврата размещенных средств отдельными «плохими» заемщиками за счет установления более высокой ставки процентов по всем своим кредитам. Процентная ставка напрямую зависит от степени риска, принимаемого на себя банком: чем выше риск, тем выше ставка. Соответственно, улучшение положения «проблемных» заемщиков оплачивается повышением стоимости кредитных средств для всех заемщиков, причем большую часть этого бремени будут нести добросовестные и пунктуальные заемщики. Таким образом, обеспечение коррективной справедливости иногда имеет серьезные дистрибутивные последствия: результатом патерналистского контроля содержания договоров выступает перераспределение издержек не столько между продавцом и покупателем (первый в ряде случаев сможет просто компенсировать свои потери ростом цены), сколько между всеми членами группы соответствующих покупателей. Так же как облигаторная система медицинского страхования вынуждает всех граждан (включая абсолютно здоровых) скидываться на лечение тех, кто оказывается нуждающимся в лечении, система патерналистского контроля справедливости договора в ряде случаев (когда в силу отмеченных выше условий происходит перенос издержек) вынуждает всех платить за более комфортное положение некоторых. Этот результат можно оценивать по-разному, но ни в коем случае нельзя игнорировать при определении границ патернализма. В-третьих, следует иметь в виду и еще один важный побочный эффект. Патерналистские ограничения в некоторых случаях могут привести к критическому снижению у участников оборота стимулов к заключению договора с той категорией контрагентов, которые получают такую опеку, и к схлопыванию некоторых сегментов рынка. Это особенно характерно для случаев контроля договорных цен. Как справедливо замечает С. Шавелл, основная проблема контроля договорных цен состоит в подавлении возможности заключения полезных для оборота сделок из-за сложностей в подсчете законодателем или судами резервных цен сторон <1>. Ведь если цена, установленная законом или полученная после снижения договорной цены судом, оказывается ниже резервной цены продавца (условно говоря, уровня его издержек), то у него исчезают стимулы к производству и сбыту. В итоге попытка просто перераспределить доли кооперативного излишка и обеспечить некоторую справедливость в обмене из-за познавательных ограничений, имеющихся у государства как третьего лица, часто оборачивается блокированием полезных для оборота и взаимовыгодных сделок в будущем. ——————————— <1> Shavell S. Contractual Holdup and Legal Intervention // Journal of Legal Studies. 2007. Vol. 36. P. 325 — 354.
Например, установление верхних пределов процентной ставки по займам или кредитам может быть отчасти компенсировано за счет максимального ужесточения иных условий договора (например, ответственности). Но вполне очевидно, что этот ресурс имеет свои естественные пределы. Соответственно, рынок высокорискованного заемного финансирования (например, микрокредитования, а также кредитования венчурных проектов, нуждающихся в сложном и дорогостоящем лечении граждан, молодых работников с высоким уровнем риска увольнения и т. п.) оказывается заблокированным. Граждане же, оказавшиеся в сложном финансовом положении или просто срочно нуждающиеся в заемных средствах, оказываются перед необходимостью обращаться на черный рынок ростовщического капитала. Иначе говоря, блокирование возможности обеспечить тот баланс процентной ставки и договорных условий, при котором заимодавец имел бы заинтересованность выдать такой заем (кредит), в ряде случаев может лишить эту категорию заемщиков доступа к возможности получить финансирование. В данном конкретном случае мы можем оценивать этот результат по-разному, но трудно не признать, что в итоге теоретически улучшающая по Парето трансакция, а в ряде случаев и целые рыночные ниши правом блокируются. Но тот же эффект блокирования часто возникает и применительно к случаям патерналистского ограничения неценовых условий договора. Так, Алан Вертхаймер приводит в качестве иллюстрации этого тезиса одно из судебных дел, в котором рассматривался вопрос о справедливости условия договора между продюсером и малоизвестным молодым артистом, согласно которому продюсер в обмен на финансирование артиста и оказание ему продюсерских услуг получал эксклюзивные права на публикацию всех произведений артиста в течение пяти лет, а также был вправе рассчитывать на автоматическое продление договора, если доходы с продажи изданных произведений за первые пять лет превысят определенную сумму. При этом артист права выйти из договора не имел <1>. ——————————— <1> Wertheimer A. Exploitation. Princeton University Press, 1999. P. 57.
На первый взгляд может показаться, что такие условия являются крайне несправедливыми и неоправданно ограничивают экономическую свободу артиста. Некоторые могут признать их и попросту кабальными. Но при более пристальном взгляде на проблему могут возникнуть определенные сомнения в верности этой моральной интуиции. Ведь суть работы продюсера состоит в том, что условно из десяти получающих его финансовую поддержку молодых артистов надежды оправдывает лишь один. Соответственно, его издержки по девяти из десяти проектов не окупаются. В силу асимметрии информации продюсер «на входе» не может с абсолютной точностью предугадать способности и трудолюбие артиста. Соответственно, тот факт, что продюсер настаивает на достаточно жестких условиях, гарантирующих ему возврат инвестиций и получение прибыли от успеха одного из своих подопечных в течение достаточно продолжительного периода времени, может с учетом конкретных обстоятельств являться вполне экономически оправданным. Некоторый диспаритет распределения кооперативного излишка, вытекающий из столь неравной аллокации прав и обязанностей, в рамках конкретного договора может быть оправдан тем, что при составлении договора куда более вероятным представлялась ситуация, что продюсер в результате заключения данного договора проиграет. Соответственно, ex ante условия данного договора с учетом высокого уровня рисков продюсера могут оказаться вполне справедливыми и экономически оправданными. В итоге в силу того, что продюсер не в состоянии при заключении договора определить вероятность успеха, он устанавливает столь жесткие условия для всех в надежде, что хотя бы в одном из этих случаев они принесут ему сверхприбыль, окупающую инвестиции в проигрышные проекты. При этом данный вопрос может в ряде случаев быть настолько принципиальным, что отмена таких условий (например, установление в законе императивного права исполнителя на безусловный отказ от договора) может просто лишить продюсеров того уровня гарантий возврата инвестиций, при которых они были бы согласны ввязываться в рискованные проекты и финансировать молодых и талантливых артистов. В результате prima facie кажущийся оправданным патернализм при более внимательном рассмотрении оказывается просто блокирующим возможности заключения множества обоюдовыгодных сделок и лишающим молодых людей шансов на жизненный успех и реализацию своих талантов. Проигравшими окажутся именно те, ради чьей защиты право и пытается ограничивать свободу договора. Если бы артист, даже будучи абсолютно уверенным в своем успехе, был поставлен перед выбором, заключать ли такой условно несбалансированный договор с продюсером или вовсе не пытаться сделать творческую карьеру, он бы, скорее всего, выбрал первое. Отсутствие сделки, возможно, просто не позволило бы ему в принципе реализовать свой потенциал, в то время как заключение сделки обеспечило реализацию этой его цели, хотя, возможно, и ценой принятия не вполне справедливых условий. Выбирая между ничем и 10 тыс. руб., рациональный участник оборота выберет второе, даже если кто-то другой в связи с этим заработает 50 тыс. Конечно же, на практике это не всегда так, и, как показывает множество поведенческих экспериментов, некоторые люди в силу имманентно присущему человеку чувству справедливости готовы отказаться от возможности заработать или по-иному улучшить свое положение лишь для того, чтобы «наказать» контрагента за попытку получения от сотрудничества непропорционально большего объема выгод. Но такое поведение откровенно нерационально, характеризует далеко не всех людей, имеет тенденцию к вытеснению при росте уровня «ставок» и в целом малохарактерно как минимум для коммерческих организаций. В принципе ровно то же самое можно сказать и о венчурном бизнесе, и о многих других областях экономики. Избыточные и непродуманные патерналистские ограничения могут просто критически дестимулировать удовлетворение спроса, а также блокировать целые рыночные ниши и взаимовыгодные модели ведения бизнеса в ущерб экономике в целом и, что самое важное, интересам потенциальных клиентов в частности. Соответственно, крайне важно при контроле справедливости договоров принимать во внимание возможность возникновения этих побочных негативных последствий и стараться при отсутствии очевидной этической или утилитарной необходимости избегать столь деструктивного воздействия на рыночную экономику. Теоретически государство могло бы оценивать, не влечет ли данное конкретное ограничение свободы договора (например, установление максимальной цены или непризнание того или иного способа обеспечения) лишение одного из контрагентов выгод от сделки с учетом роста прямых и альтернативных издержек, увеличения рисков и иных последствий ограничения договорной свободы. Но практически оценить все эти обстоятельства крайне сложно, особенно при введении ex ante императивных норм. Для того чтобы точно представлять себе, что ограничение лишь более справедливо перераспределит кооперативный излишек, но не заблокирует для одной из сторон стимулы такого типа сделку заключать в будущем, законодатель должен заранее владеть информацией о резервных ценах контрагентов, структуре рынка и массе иных обстоятельств, что зачастую абсолютно невозможно. Нелегко определить блокирующий эффект патернализма и судам, рассматривающим возможность применить то или иное ограничение свободы договора ex post. В реальности государство в лице законодателя и судов, не замечая того, может легко переступить грань между перераспределением долей кооперативного излишка с целью восстановления справедливости, при котором все же выигравшими по результатам исполнения сделки остаются оба контрагента, с одной стороны, и таким ограничением, которое приводит к блокированию возможности заключить Парето-улучшающие сделки такого типа на будущее, — с другой. Мы здесь не имеем возможности детально анализировать такие экономические издержки патернализма, как феномены переноса издержек, кросс-субсидирования и блокирования теоретически эффективных трансакций и рыночных ниш. Эти вопросы требуют куда более глубокого междисциплинарного изучения, эмпирической верификации и уточнения деталей с опорой как на имеющиеся зарубежные, так и желательно российские междисциплинарные исследования. Тем не менее для современной микроэкономической теории достаточно очевидно, что во многих случаях милосердная защита одного из контрагентов от несправедливости договорных условий имеет свои побочные экономические последствия, которые в долгосрочной перспективе негативно сказываются на положении тех, ради кого такие патерналистские ограничения вводились. И мы этот тезис считаем вполне убедительным. Этот вывод отнюдь не означает, что патерналистские ограничения свободы договора всегда имеют такие негативные долгосрочные последствия и поэтому бессмысленны и нецелесообразны по определению. Как мы видели, перенос издержек возможен далеко не всегда. Как отмечают зарубежные авторы, в ряде случаев потребители и работники действительно выигрывают от введения в их пользу патерналистских ограничений свободы договора. Проблема лишь в том, что в ряде других случаев от подобных мер эти контрагенты лишь проигрывают <1>. Соответственно, вопрос о логичности подобных ограничений свободы договора с экономической точки зрения должен решаться с учетом всех конкретных обстоятельств и просчета возможных последствий. ——————————— <1> Wiesbach D. A. Should Legal Rules Be Used to Redistribute Income? // University of Chicago Law Review. 2003. Vol. 70. P. 449.
Более того, допускаем, что теоретически могут быть выдвинуты и всерьез обсуждаться некоторые аргументы и в пользу того, что даже при наличии однозначной информации о возможности переноса издержек, кросс-субсидирования и блокирования рыночных ниш патернализм может быть оправдан более сильными моральными соображениями или утилитарными резонами. Так, например, если пятилетний срок «привязки» артиста к профинансировавшему его продюсеру с условием об опционе на автоматическую пролонгацию договора еще на пять лет без права артиста выйти из договора в течение пяти или максимум десяти лет может многим показаться вполне экономически и этически оправданным, то аналогичный пожизненный контракт вряд ли будет воспринят толерантно даже многими экономистами. Кроме того, право может осознанно смириться с феноменом кросс-субсидирования, руководствуясь соображениями дистрибутивной справедливости перераспределения рисков отдельных лиц среди широкого круга сограждан. В конечном итоге человечество тысячелетиями жило в условиях такой солидарности и взаимовыручки (например, в рамках крестьянских общин). Наконец, «схлопывание» некоторых рыночных ниш с соответствующими потерями для эффективности национальной экономики может в ряде случаев быть вполне этически приемлемым или даже желательным. Некоторые примеры, приходящие здесь на ум, достаточно очевидны (например, рынок рабского труда или органов для трансплантации). Но можно привести и целый ряд других примеров. Так, договор, предусматривающий предоставление в пользование гражданам жилья, не соответствующего государственным стандартам, мог бы во многих случаях являться вполне взаимовыгодной сделкой. Цена найма по таким договорам оказывалась бы наверняка значительно ниже рыночной, и некоторые граждане без определенного места жительства, наверное, смогли бы себе позволить легально улучшить жилищные условия. Ведь проживать в квартире без отопления и с неработающей канализацией, видимо, лучше, чем ночевать зимой на улице. Тем не менее право многих стран такие условия договора запрещает и фактически блокирует легальный оборот жилья, не соответствующего минимальным требованиям комфорта. Как минимум тогда, когда государство может позволить себе предоставить всем таким гражданам возможность пользоваться относительно комфортным социальным жильем за счет бюджета, борьба за минимальные стандарты качества рыночного предложения жилья может многим казаться этически приемлемой. Соответственно, итог, к которому мы приходим, не может быть сведен к однозначному запрету или допущению патернализма в случаях выявления побочных экономических последствий в виде переноса издержек, кросс-субсидирования и блокирования рыночных ниш и взаимовыгодных трансакций. Главный наш тезис состоит в том, что при введении патерналистских ограничений договорной свободы ни в коем случае нельзя игнорировать эти последствия. Законодателю и судам по возможности следует стараться их просчитывать и соизмерять на одних весах с возможными этическими аргументами в пользу введения таких ограничений. Ученые же в принципе должны помогать чиновникам делать такие прогнозы и сопоставления несколько более уверенно, раскрывая перед ними все этические и экономические издержки и преимущества возможных регулятивных решений. Отметим здесь, что в зарубежной юридической, философской и экономической литературе подобные проблемы обсуждаются достаточно давно и активно <1>. ——————————— <1> Анализ подобных проблем с этической стороны см.: Wertheimer A. Op. cit.
Феномен «научения»
Как мы показали выше, теория рационального выбора далеко не всегда срабатывает безошибочно, и часто контрагенты на первый взгляд парадоксальным образом принимают на себя условия, не влекущие улучшение по Парето, или неосознанно соглашаются на хотя и эффективные и взаимовыгодные, но явно неравноправные договорные условия. Тем не менее важнейший побочный эффект активного ограничения свободы договора в патерналистских целях (т. е. в целях защиты от несправедливости или неэффективности договорных условий добровольно их принявшего контрагента) состоит в том, что систематическая коррекция договорных условий судами с целью их приведения в соответствие с критерием Парето-эффективности и справедливости и превенция просчетов посредством установления императивных норм дестимулируют рост рациональности участников оборота. Ведь свободная экономика означает не только то, что кто-то выигрывает и процветает, но и то, что другие проигрывают и разоряются. В этом смысл конкурентной борьбы и экономического естественного отбора. «Проигрыш» возникает по разным причинам: иногда — из-за неправильных экономических расчетов, пассивности и неверных тактических шагов, а иногда — из-за изменений внешних условий, вкуса потребителей или появления неких новых изобретений. Экономическое развитие представляет собой, как верно подметил Й. Шумпетер, процесс нескончаемого «созидательного разрушения». Конкурентная борьба и стремление к обогащению постоянно стимулируют открытие новых рынков, технологий и методов организации труда и тем самым «непрерывно революционизируют экономическую структуру изнутри, разрушая старую структуру и создавая новую» <1>. Экономический рост и технологический прогресс естественным образом приводят к тому, что успех одних иногда оборачивается крахом других. Открытие регулярного авиасообщения между Европой и США принесло значительные убытки морским пассажирским перевозкам, а изобретение и продвижение на рынке персональных компьютеров разорило производителей пишущих машинок. Появление электронной почты вытесняет классическую, «бумажную» почту, а IP-телефония вытесняет с рынка международной связи обычных операторов телефонной связи. Те, кто лучше приспособился и угадал ожидания своих клиентов, процветают, в то время как те, кто почивал на лаврах своих прежних успехов, в конце концов разоряются <2>. Новые открытия делают в одночасье ненужными достижения, освоенные прежними лидерами. Именно поэтому институт банкротства является неотъемлемой частью рыночного «естественного отбора» <3>. ——————————— <1> Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995. С. 126 — 127. <2> Хайек Ф. А. фон. Право, законодательство и свобода: современное понимание либеральных принципов и справедливости и политики. М., 2006. С. 287 — 289. <3> Stiglitz J. E. Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy. W. W. Norton, 2010. P. 115.
Принимая во внимание эти предпосылки, право не должно избыточно интенсивно проявлять милосердие к просчетам участников оборота, и особенно к просчетам предпринимателей. Ровно в той мере, в которой выигрыш одних становится стимулом к более активному труду для других, проигрыш и даже разорение выполняют функцию отрицательной обратной связи, становясь уроком и сигналом другим участникам оборота о необходимости своевременно учиться на ошибках проигравших и оперативно подстраиваться под изменяющиеся условия. Социальный дарвинизм Герберта Спенсера, если приложить его к экономической деятельности как минимум предпринимателей, в общем и целом верно ухватывает динамизм современной экономики, в которой рациональный выбор не есть нечто данное и неизменное, а представляет собой то, чему люди могут учиться. В этих условиях проигрыш одних участников оборота является необходимым условием для развития рациональности у других и более эффективного развития экономики в целом. Как показали представители австрийской экономической школы, уберечь от краха участников оборота может процесс «научения» на собственных и чужих ошибках <1>. ——————————— <1> Кирцнер И. М. Конкуренция и предпринимательство. М., 2010. С. 75.
Подобно тому как физическая боль предупреждает человека о необходимости всерьез заняться своим здоровьем, частные неудачи при принятии экономических решений и заключении сделок дают бесценный опыт и позволяют в дальнейшем такие ошибки не повторять. В итоге участники оборота становятся более рациональными. Это, в свою очередь, должно приводить к тому, что одна допущенная правом частная неэффективность «окупится» ростом эффективности от более рационального поведения участников оборота в будущем. Иначе говоря, человек (и особенно коммерсант) должен испивать до дна чашу своих ошибок, чтобы их потом не повторять. Если к людям относиться как к детям и исправлять и предотвращать все их ошибки, они никогда не станут взрослыми <1>. ——————————— <1> Feinberg J. The Moral Limits of the Criminal Law. Vol. 3. Harm to Self. Oxford University Press, 1986. P. 24.
Так, например, если контрагент один раз будет вынужден заплатить значительную договорную неустойку, превышающую потери кредитора, он отчетливо осознает важность адекватного учета соответствующих рисков и в дальнейшем будет избегать необоснованного сверхоптимизма при ее согласовании. Иначе механизм обратной связи, формирующий нужные социальные и экономические навыки, будет просто заблокирован, создавая условия для закрепления иррационального поведения. Таким образом, патерналистское вмешательство в сферу свободы договора хотя теоретически и может восстановить рациональность сделки в конкретных ситуациях, но в долгосрочном плане консервирует нерациональность и влечет глобальную неэффективность. Интенсивный патернализм мешает участникам оборота учиться на своих ошибках, устраняет стимулы к совершенствованию своих когнитивных способностей, более эффективному поиску информации и оптимизации поведенческих стратегий, а также лишает заслуженных преимуществ более расчетливых и рациональных контрагентов <1>. Какой смысл получать хорошее образование или нанимать на работу хороших менеджеров, юристов и экономистов, если в случае твоих просчетов их исправит на деньги налогоплательщиков заботливое государство? ——————————— <1> Развитие этих аргументов на американской научной почве см.: Klick J., Mitchell G. Government Regulation of Irrationality: Moral and Cognitive Hazards // Minnesota Law Review. 2006. Vol. 90. P. 1620 ff.; Mitchell G. Why Law and Economics’ Perfect Rationality Should Not Be Traded for Behavioral Law and Economics // Georgetown Law Journal. 2002. Vol. 91. P. 67 ff.
Принципиальное отличие такого подхода к экономико-правовому анализу договорной свободы состоит в смещении акцента с краткосрочных последствий регулятивных решений на долгосрочные. Сторонники бихевио-экономического анализа и просто радеющие за справедливость юристы готовы доверить государству ограничение свободы договора во имя предотвращения неэффективных и несправедливых сделок. Австрийская же экономическая школа считает такие государственные интервенции преимущественно неудачными и опасными вмешательствами в естественный ход экономического процесса, в котором иррациональность является лишь элементом нормального, т. е. несовершенного, но совершенствующегося и динамичного состояния рыночного процесса <1>. Основное условие исправления иррациональности участников оборота австрийская школа видит не в государственном патернализме, а в обучении на собственных и чужих ошибках <2>. ——————————— <1> Подробнее см.: Уэртаде Сото Х. Австрийская экономическая школа: рынок и предпринимательское творчество. М., 2009. С. 140 — 142. <2> Wonell C. T. Contract Law and the Austrian School of Economics // Fordham Law Review. 1985 — 1986. Vol. 54. P. 535 — 537.
Иначе говоря, австрийская версия экономического анализа договорного права видит в экономической свободе и принципе свободы договора не столько залог достижения максимально эффективных и справедливых результатов в каждой конкретной сделке, сколько несовершенный, но в долгосрочной перспективе совершенствующийся механизм роста индивидуальной рациональности и общего благосостояния <1>. Из-за того, что «австрийцы», в отличие от неоклассического экономического подхода с его акцентом на краткосрочных и рационально просчитанных последствиях, фокусируют внимание на долгосрочном эффекте экономических институтов и решений, они ценят свободу договора куда сильнее, чем юристы и экономисты, работающие в рамках неоклассической концепции договорной свободы. ——————————— <1> Wonell C. T. Op. cit. P. 542.
С этими наблюдениями представителей австрийской экономической школы о важности феномена «научения» следует с некоторыми оговорками согласиться. Безусловно, отдельные вопиющие ошибки могут и должны корректироваться, так как иррациональность некоммерческих участников оборота представляется не столь непростительной и даже коммерсант иногда принимает на себя явно несправедливые условия не из-за сбоя в своей рациональности, а под давлением существенного неравенства переговорных возможностей. Но эти исключения лишь подтверждают, что как минимум коммерсанты должны нести полную ответственность за свои просчеты, допущенные при заключении договоров, а также не отменяют того, что даже потребителя право должно оберегать от некоторых проявлений своей иррациональности, не выходя в осуществлении этой стратегии за разумные пределы.
Рост нагрузки на судебную систему, дестабилизация оборота и «агентская проблема» при делегации функции по ex post блокированию договорной свободы судам
Право не в состоянии запретить заранее, ex ante, все возможные несправедливые, неэффективные, аморальные или противоречащие публичному порядку или интересам третьих лиц условия. Это связано с тем, что более или менее осмысленная попытка оценить условие как несправедливое, нарушающее основы нравственности, публичный порядок или иные утилитарные и этические ценности, как правило, возможна лишь с учетом анализа всего содержания договора в целом, обстоятельств его заключения и массы иных эндогенных и экзогенных факторов. Соответственно, основная доля нагрузки по обеспечению контроля за содержанием договоров во всех странах ложится на суды и их усмотрение. При этом интенсивный пересмотр договорных условий судами имеет слишком большие издержки, связанные с неконтролируемым ростом нагрузки на судебные органы. Так, например, если бы каждый просчет контрагентов в оценке эффективности и любая prima facie несправедливость условий договора исправлялись судами, последние были бы завалены огромным потоком споров, что в условиях уже имеющейся перегрузки судебной системы России или ряда других стран окончательно бы вывело ее из строя. В итоге общее качество экономического правосудия значительно бы снизилось, что имело бы крайне негативные последствия для всей экономики в целом. Кроме того, высокие риски пересмотра договорных условий ex post формируют институциональную среду, в которой договорные обязательства ненадежны и стимулы к долгосрочному планированию и инвестированию подрываются. Важнейшая цель договорного права состоит в том, чтобы сформировать надежную и стабильную среду, обеспечивающую гарантированность договорных планов, инвестиционных проектов и финансовых обязательств. В этих условиях сколько-нибудь интенсивный судебный интервенционизм просто невозможен. Наконец, не стоит забывать и о том, что расширение дискреции судов в той или иной степени всегда увеличивает не только риски непредумышленных регуляторных ошибок, но и риски откровенных злоупотреблений со стороны судей. Такие же эксцессы не способствуют формированию стабильности договорных отношений и уверенности контрагентов в надежности своих ожиданий. Говоря экономическим языком, суд далеко не всегда является тем агентом, который, получив от принципала (государства) широкую дискрецию по исправлению тех или иных злоупотреблений автономией воли сторон, будет добросовестно реализовывать свои полномочия во имя данных благородных целей принципала. Как только агент приобретает определенную самостоятельность, обостряется так называемая «агентская проблема», в данном случае проявляющаяся в рисках злоупотребления судебным усмотрением. Наличие инстанционности судебной вертикали и возможность обжалования решений в значительной степени снижают драматичность «агентской проблемы», но не исключают риски вовсе.
Некоторые уточнения
Здесь во избежание недопонимания следует еще раз акцентировать внимание читателя на важной оговорке. Все вышеприведенные утилитарно-экономические аргументы в пользу сохранения договорной свободы и воздержания от ее ограничений носят сугубо презумптивный характер. Все эти выводы верны, но лишь в качестве общего правила. На самом же деле существует множество ситуаций, когда эта логика не срабатывает, искажается или подрывается более весомыми утилитарными или этическими соображениями. Так, например, далеко не всегда на рынке имеется достаточно высокая конкуренция. Как уже отмечалось, монополизм влечет менее экономически эффективное состояние рынка, что в ряде случаев, по мнению большинства экономистов и юристов, вполне может оправдывать осторожное и продуманное ценовое регулирование и иные ограничения договорной свободы в целях пресечения злоупотреблений монополистами своей рыночной властью. Как мы указали выше, далеко не всегда контрагенты идеально рациональны и способны просчитать все последствия заключения сложных и многостраничных сделок и оценить их эффективность и последствия заключения. При этом если такая иррациональность коммерсанта по общему правилу вряд ли может быть признана извинительной, то просчеты обычного гражданина (в частности, когда он выступает в качестве потребителя), видимо, иногда могут правом исправляться ex post судами или блокироваться ex ante законодателем. Более того, даже когда речь идет о коммерсантах, защита от несправедливых или неэффективных условий может быть им предоставлена законом или судами, если принятие таких условий было следствием явного злоупотребления другим контрагентом своей доминирующей переговорной силой, а также в случаях настолько вопиющей аномальности договорных условий, что разумно исходить из презумпции наличия пороков воли или недобросовестной эксплуатации явного неравенства переговорных возможностей. В такого рода случаях этический протест против несправедливости может быть настолько сильным, что он как минимум в ряде случаев может перевесить все возможные утилитарные возражения против патерналистской опеки коммерсантов. Мы также далеки от абсолютизации тезиса о некомпетентности государства. Сказанное в предыдущих параграфах отнюдь не означает, что государство в принципе неспособно более или менее корректно контролировать договорные условия. Очевидно, что современные бюрократы ведущих стран в целом намного более профессиональны и компетентны, чем в XVIII в. В развитых странах коррупция не столь распространена, и существуют некоторые стимулы к тому, чтобы на государственную службу шли не искатели коррупционной ренты и наиболее бестолковые и ленивые молодые люди, а талантливые карьеристы, а иногда — и идеалисты. Соответственно, в ряде случаев эффективность государственной бюрократии может быть достаточной для реализации ограниченного корректирующего воздействия на сферу автономии воли сторон. Во многих случаях феномены переноса издержек, кросс-субсидирования и иные негативные побочные эффекты патерналистских ограничений договорной свободы не проявляются столь ярко, не оказываются значительными и не перекрывают тех или иных этических, социальных или утилитарных преимуществ такого шага. Соответственно, вышеотмеченные риски вряд ли жестко блокируют логику любых апелляций к государству как корректору сбоев принципа договорной свободы, поэтому мы убеждены, что современное демократическое государство может в целом проводить осторожные меры по ограниченной коррекции тех или иных проявлений договорной свободы. В данной статье мы лишь хотим привлечь внимание к тем рискам, которые с такого рода искажениями рыночных процессов бывают зачастую сопряжены, и к тому, насколько крайне важны осторожное отношение к вопросам ограничения договорной свободы и стремление просчитать все связанные с этим последствия. Интенсификация вовлечения государства в процесс непосредственного контроля и регулирования параметров миллиардов частных трансакций «задирает» планку компетенции настолько высоко, что даже самая эффективная бюрократия неспособна обеспечивать соответствие ей в сколько-нибудь масштабном формате. Основная функция государства, как справедливо считали представители немецкой ордолиберальной экономической школы <1>, все-таки состоит в формировании институциональных условий и поддержании «правил игры», правовых рамок, внутри которых должен осуществляться свободный рыночный оборот. Государство должно помогать рынку, осуществляя налоговые и иные формы стимулирования, формируя благоприятную институциональную среду или осуществляя военное и политическое покровительство национальной буржуазии, но не подменять рынок как таковой и волю сторон частных сделок, пытаясь налево и направо ограничивать договорную свободу. ——————————— <1> О школе ордолиберализма и построенной на его основе теории социального рыночного хозяйства см.: Ойкен В. Основы национальной экономики. М., 2007; Он же. Основные принципы экономической политики. М., 1995; Теория хозяйственного порядка. «Фрайбургская школа» и немецкий неолиберализм. М., 2002; Социальное рыночное хозяйство в Германии: истоки, концепция, практика / Под общ. ред. А. Ю. Чепуренко. М., 2001; Социальное рыночное хозяйство: теория и этика экономического порядка в России и Германии. СПб., 1999; Эрхард Л. Полвека размышлений: речи и статьи. М., 1993.
В итоге нельзя сказать, что ограничения свободы договора не могут быть допущены. Просто следует более четко просчитывать последствия принимаемых мер, трезво оценивать возможности бюрократов и осознавать, что для преодоления презумпции свободы договора должны быть приведены достаточно весомые политико-правовые аргументы и по возможности учтены все краткосрочные и долгосрочные издержки «плановой» альтернативы. Презумпция свободы договора основана на значительном эмпирическом опыте, подтверждающем то, что в большинстве случаев на теорию рационального выбора и договорную свободу в целом можно полагаться. Раз в большинстве случаев такая модель срабатывает лучше, чем иные альтернативы, с точки зрения экономии интеллектуальных усилий проще принять ее в качестве презумпции, опровергаемой лишь при наличии убедительных аргументов в пользу того, что в данном конкретном случае она несостоятельна. При этом становится понятным, что если первичные экономические презумпции (рационального выбора, Парето-оптимизации и т. п.), указывающие на сравнительные преимущества договорной свободы, оказываются устойчиво опровергаемыми в конкретных условиях, то как минимум экономическая обоснованность идеи держаться вторичной презумпции свободы договора начинает подвергаться сомнению. В тех же случаях, в которых экономическая наука, здравый смысл и эмпирический опыт не указывают нам на случаи регулярного сбоя этих базовых экономических презумпций, как минимум экономическая логика безусловно поддерживает принцип свободы договора.
Выводы
Таким образом, в результате мы получаем следующие принципы, на наш взгляд, в самом общем виде определяющие политико-правовые основания и пределы принципа свободы договора. 1. Полностью дееспособные участники оборота по общему правилу вправе по собственному усмотрению и добровольно (без пороков воли) заключать любые контракты с любыми контрагентами по любым ценам и с любыми иными условиями. 2. Государство по общему правилу должно придавать таким сделкам судебную защиту и воздерживаться от каких-либо ограничений. 3. Опровержение двух вышеуказанных презумпций возможно в порядке исключения в тех случаях, когда это убедительно обосновано более весомыми политико-правовыми (экономическими, этическими или иными) аргументами, чем та очевидная общественная польза, которую, как правило, свобода договора приносит. 4. Бремя доказывания необходимости отступления от презумпций договорной свободы и судебной защиты договорных обязательств возлагается на того, кто такое отступление предлагает. Данные идеи ни в коем случае не являются новым словом в экономической и правовой науке. Именно так смотрели на допустимую сферу свободы договора многие великие экономисты и юристы прошлого (А. Смит, Дж. С. Милль, О. У. Холмс и др.). Именно эта идея поддерживается большинством специалистов в сфере договорного права в мире и абсолютно доминирует в правовых системах развитых стран <1>. Как выразил данную мысль судья Джордж Саверлэнд, оформивший мнение большинства в решении Верховного Суда США по громкому делу Adkins v. Children’s Hospital в 1923 г., «не существует такого феномена, как абсолютная свобода договора», вместо этого «свобода договора является… общим правилом, а ее ограничение — исключением… оправданным только наличием исключительных обстоятельств». ——————————— <1> См.: Burrows P. Analyzing Legal Paternalism // International Review of Law and Economics. 1995. Vol. 15. P. 503; Mayer D. N. The Myth of «Laissez-Faire Constitutionalism»: Liberty of Contract During the Lochner Era // Hastings Constitutional Law Quarterly. 2008 — 2009. Vol. 36. P. 258; Williston S. Freedom of Contract // The Cornell Law Quarterly. 1920 — 1921. Vol. 6. P. 379.
Восприятие свободы договора в качестве опровержимой презумпции подкрепляется и конституционными соображениями. Свобода договора была во многих странах признана в качестве конституционного принципа. Конституционализация частного права, и в том числе принципа свободы договора, — достаточно характерное явление в современном зарубежном праве. Наиболее ярко этот феномен представлен в немецком праве <1>. Как отмечает Юрген Базедоф (Basedow), в немецкой правовой науке свобода договора сейчас воспринимается как наиболее значительное проявление частной автономии и гарантия личной свободы <2>. Конституционный суд ФРГ давно признал свободу договора конституционным принципом <3>. В последнее время в той или иной форме (хотя и не без некоторых колебаний) конституционный статус принципа свободы договора признали и суды многих других европейских стран (например, Италии, Франции и др.) <4>. ——————————— <1> Частное право, в XIX в. рассматривавшееся европейскими цивилистами как самодостаточная и автономная система выводимых из новых кодексов или римских источников правил, в которой господствует формальная логика, в XX в. стало оцениваться судами и многими учеными таких стран, как Германия или Голландия, через призму политико-правовых соображений и ценностей конституционного статуса (и в первую очередь прав и свобод человека). В этом контексте как свобода договора, так и ее ограничения стали зачастую выводиться из общих конституционных прав, свобод и ценностей. При этом конституционное влияние на сферу частного права в таких странах, как Германия, носит в основном опосредованный характер. Некоторые немецкие авторы (например, Канарис) выступали за прямое горизонтальное воздействие конституционных ценностей, принципов и прав, при котором суды, разбирая гражданско-правовой спор, могут прямо мотивировать свое решение, отступающее от догматики частного права, ссылкой на нормы Конституции. Но на практике куда чаще немецкими судами применяется принцип косвенного горизонтального воздействия, согласно которому суд мотивирует свое решение, отступающее от догматических установок гражданского законодательства, все же ссылками на частноправовые оценочные нормы-принципы (добрые нравы и добросовестность), наполняемые конституционным смыслом. Немецкие суды, по сути, «вдавливают» в эти принятые еще в имперские времена «каучуковые» нормы гражданского законодательства совершенно новый смысл, превращая их в гибкие инструменты «самоисправления» гражданского законодательства под влиянием конституционных ценностей и принципов. Решающую роль в конституционализации частного права в Германии сыграло знаменитое решение Конституционного суда ФРГ по делу Luth (1958 г.). С тех пор накопившаяся практика немецких судов, по мнению современных исследователей, не оставляет никаких сомнений в том, что контрактное право оказалось подчиненным основным правам и свободам человека и другим конституционным ценностям. В последнее время этот феномен окончательного падения частного права как автономной системы и вторжения в данную сферу политико-правовых, и прежде всего конституционных, ценностей, принципов и прав приковывает внимание большого числа ученых. Подробнее о конституционализации частного права Германии см.: Constitutional Values and European Contract Law / St. Grundmann (ed.). Kluwer Law International, 2008; Cherednychenko O. O. Fundamental Rights, Contract Law and the Protection of the Weaker Party: A Comparative Analysis of the Constitutionalisation of Contract Law, with Emphasis on Risky Financial Transactions. Sellier, 2007. P. 63 — 89, 104 — 115; Kenny M., Devenney J., O’Mahony L. F. Unconscionability in European Private Financial Transactions: Protecting the Vulnerable. Cambridge University Press, 2010. P. 9 — 10; Markesinis B., Unberath H., Johnston A. The German Law of Contract. A Comparative Treatise. 2nd ed., entirely revised and updated. Hart Publishing, 2006. P. 38. <2> Basedow J. Freedom of Contract in the European Union // European Review of Private Law. 2008. Vol. 6. P. 903. <3> Kenny M., Devenney J., O’Mahony L. F. Op. cit. P. 9 — 10. <4> Ibid. P. 19, 21 — 23.
Неудивительно, что и в России КС РФ также прямо признает свободу договора конституционным принципом российского права. Из этого, по мнению КС РФ, вытекает, что, как и любой другой конституционный принцип, свобода договора, будучи опровержимой презумпцией, может быть ограничена государством, но только тогда, когда ограничение вводится ради «защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» <1>. Российские цивилисты нечасто обращают внимание на конституционное преломление частноправовых вопросов. Тем не менее нельзя не отметить, что понимание свободы договора в качестве опровержимой конституционной презумпции, на наш взгляд, в полной мере соответствует экономическим основаниям данной идеи. ——————————— <1> Конституционный статус принципа свободы договора был признан КС РФ в Постановлении от 23 февраля 1999 г. N 4-П и впоследствии неоднократно им подтверждался (см., например, Постановление КС РФ от 28 января 2010 г. N 2-П). В контексте российского конституционного права свобода договора, прямо не закрепленная в Конституции РФ, выводится КС РФ из толкования нормы ч. 1 ст. 8 Конституции РФ о гарантированности свободы экономической деятельности, а также нормы ч. 1 ст. 34 о праве каждого на свободное использование своих способностей и имущества для осуществления предпринимательской или иной законной экономической деятельности.
——————————————————————