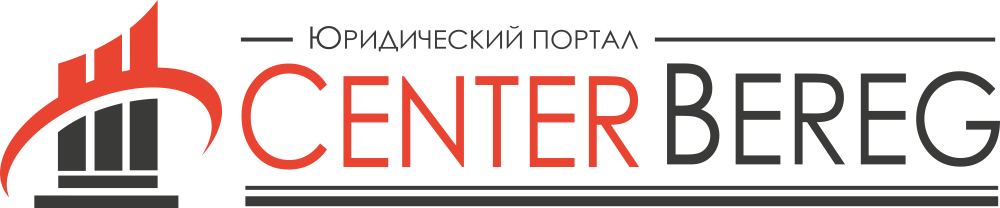Принцип доброй совести в проекте обязательственного права
(Новицкий И. Б.) («Вестник гражданского права», 2006, N 1)
Печатается по: «Вестник гражданского права». 1916. N 6, 7, 8.
ПРИНЦИП ДОБРОЙ СОВЕСТИ В ПРОЕКТЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА
И. Б. НОВИЦКИЙ
В нормах гражданского права нередко можно или встретить прямое упоминание начала дорой совести, или обнаружить невыраженную verbis expressis связь содержания данного постановления с той же идеей. Эта черта, выпукло выступающая в новейших западноевропейских кодификациях, не могла не проявиться и в русской кодификационной работе — проекте Гражданского уложения. В дальнейшем делается попытка очернить предположения в этом направлении авторов проекта, при этом мы ограничиваем свою работу рамками одного лишь обязательственного права как внесенного уже в окончательной формулировке на рассмотрение Государственной Думы.
Глава I. ПОНЯТИЕ ДОБРОЙ СОВЕСТИ
Многочисленные случаи, когда гражданско-правовые нормы прямо или косвенно привлекают начало доброй совести, могут быть сведены к двум основным категориям. В одних случаях добрая совесть выступает в объективном значении, как известное внешнее мерило, которое принимается во внимание законом, судом, применяющим закон, и которое рекомендуется членам гражданского оборота в их взаимных сношениях друг с другом; здесь перед нами как бы открывается новый источник, выступает параллельная или подсобная норма, призываемая к действию законом <1>. В других случаях принимается во внимание добрая совесть в субъективном смысле, как определенное сознание того или иного лица, как неведение некоторых обстоятельств, с наличностью которого закон считает возможным связать те или иные юридические последствия <2>. ——————————— <1> Ср.: Windscheid. Pand. I. § 23, Anm. 1 b; Crome, System, I, § 13, 2 b. <2> В немецкой терминологии можно проводить различие между Treu und Glauben как объективным понятием и guter Glaube как субъективной добросовестностью (Oertmann D. Recht der Schuldverhaltnisse. 1899. S. 13; Endemann. Einfuhrung. I. § 100. Pr. 9; Thur. Der allgem. Teil des deutsch. burg. R. II. 1-e Abth., 1914. S. 134. Anm. 63).
Необходимо прежде всего остановиться на вопросе, что же обозначает добрая совесть в том и другом смысле.
§ 1. Добрая совесть как объективное (внешнее) мерило
Ни в самом проекте, ни в объяснительных записках к разным его редакциям мы не находим не только точного определения принципа добросовестности в нормативном смысле, но даже и приблизительных его очертаний. Все, что может быть извлечено из названных материалов, сводится к общим замечаниям Редакционной комиссии, что «договорные отношения сторон должны покоиться на началах справедливости и добросовестности», что «требования добросовестности составляют коренное начало договорно-обязательственных отношений» <3> и т. п. Редакционная комиссия приводит также ряд примеров, в которых сказалось значение этого принципа <4>, но в рассмотрение его сущности не входит. ——————————— <3> Проект Гражд. улож. Кн. V. 1899. Т. I. Стр. LII, LIII. <4> Так, договоры должны быть исполняемы по доброй совести (ст. 65, по пр. 1913 г. — ст. 72 и 78); неисполнения лежащего на ней обязательства, если такой отказ по обстоятельствам дела представляется недобросовестным (ст. 71, ч. 2, по пр. 1913 г. — ст. 79, ч. 2); случаи, когда дальнейшее исполнение договора сопряжено с чрезмерными издержками для обязанной стороны или вообще для нее весьма обременительно (ст. 314, 362, 422, 438, п. 3, 451, 457, 458, 997 и др.; по пр. 1913 г. — 336, 387, 446, 464, 502, 508, 1102; Ibid. LII).
Добрая совесть в качестве внешнего мерила в принципе не есть новшество современного законодательства, это развитие старой идеи, небезызвестной еще римским юристам. В римском праве во многих случаях рекомендуется судье разбирать дело ex fide bona, а участникам гражданского оборота определять и строить свои взаимные отношения так, как принято среди честных, добропорядочных людей: ut inter bonos agier oportet. Из оставленных римскими юристами общих изречений, характеризующих iudicia bonae fidei, равно как из иллюстрирующих эти тезисы гражданско-правовых казусов, разрешенных под углом зрения интересующего нас принципа, выясняется, что рассмотрение дела ex fide bona в противоположность судебному процессу stricti iuris означало большую свободу и самостоятельность судьи в обращении с материалом, возможность обращать внимание не на одну только букву договора, но главным образом и на его смысл, возможность принимать во внимание встречные притязания, приспособляться к изменяющейся жизненной обстановке. В процессе bonae fidei расширялось officium iudicis, причем судья получил право прибегать в качестве вспомогательного масштаба к bonum et aequum, к naturalis aequitas, к практике честных людей и т. п. <5>. ——————————— <5> J. IV.6.30; D. III.3.31 и др.; Pernice. Sabeo. II. 1, 161, 170 sl.; Mitteis, Rom. Privatrecht, I, 317; Seonhard. Bona fides в Real-Enc v. Pauly — Wissowa; Хвостов. Ист. рим. пр. Стр. 203 и др.
Современные кодексы не содержат определений доброй совести как известного объективного мерила. Даже цивилистическая литература еще довольно расплывчата по данному вопросу, не выясняет окончательно этого понятия совести в объективном значении. Некоторые авторы прямо отказываются от уяснения и определения рассматриваемого понятия. Так, Вендт, посвятивший большую работу вопросу об exceptio doli generalis в современном праве, носящую подзаголовок «Добросовестность в праве долговых отношений», оговаривается, что он не задается целью дать точное определение понятия и что bona fides несет в себе много неопределимого, много такого, что больше чувствуется и угадывается, чем поддается логическому расчленению <6>. Также Эртманн <7> замечает: что следует понимать под Treu und Glauben в действующем праве, легче оценить чувством, чем охватить рассудком и формулировать как определенное понятие. Подобного мнения держится и Кромэ <8>. Не входят в рассмотрение вопроса, что такое добрая совесть, и многие другие авторы, напр. Эннекцерус <9>, Тур <10>, Планьоль <11>; не касаются этого вопроса и большинство русских авторов. Но некоторые писатели более или менее подробно останавливаются на выяснении понятия доброй совести. Приведем наиболее существенные мнения, выраженные по данному вопросу. ——————————— <6> Arch. f civil. Parx., Bd. 100. 1906. 2 — 3. <7> Oertmann. Rechtsordnung u. Verkehrssitte. 345. Ср.: Его же Recht d. Schuldverh. 13. <8> Crome. System. I. § 13, Anm. 14. Ср.: Regelsberger // Krit. Vierteljahresschr. Bd. 44 (1902). 429. Ср.: Покровский. Осн. пробл. гр. пр. 229 сл. <9> Enneccerus. Das burg. Recht, I. В § 54 автор говорит только, что ссылка закона на Treu und Glauben приводит к тому, что судья должен решить дело так, как поступили бы в данном случае верные (treue), сознающие свои обязанности (pflichtbewusste) люди. <10> Thur. Der Allgem. Teil des deutschen burg. R. I. 1910; II. 1. 1914. <11> Planiol. Traite.
Нельзя прежде всего обойти некоторые замечания проф. Л. И. Петражицкого в его работе «Lehre vom Einkommen». Этот автор не задается прямо вопросом о том, что понимать под доброй совестью, но некоторые из высказанных им (в другой связи) мыслей приобретают интерес и для нашей темы ввиду того, что в них слышится мотив, внутренне близкий к тому, какой через два года <12> раздался в работе Штаммлера, уже прямо касающийся нашей темы. Высказывая различные правнополитические соображения относительно распределения благ (по поводу II проекта Герм. улож.), Петражицкий проводит идею, что руководящее значение должна получить любовь к ближним, к согражданам. Любовь автор понимает как деятельную силу, отличающуюся все возрастающей интенсивностью, причем кристаллизовавшимися продуктами этого начала являются воззрения, инстинкты, учреждения и т. д. При внимательном анализе общественного здания, говорит Петражицкий, можно прийти к заключению, что весь его фундамент и устои, собственно, не что иное, как кристаллизации, образовавшиеся под долгим воздействием любви и разума (причем оба эти начала переходят одно в другое). В известные эпохи в известных отношениях бросается иногда в глаза иное: видно, как выступает эгоизм в качестве властной силы, но если не ограничивать наблюдения одним мгновением и отдельными, еще неготовыми частями здания, а присмотреться к развитию целого в течение долгого времени, то можно будет заметить два особенных явления. Первое состоит в том, что любовь и эгоизм как деятельные силы идут в жизнь в известной очереди и конкуренции, но с течением времени спорная область постепенно сокращается за счет второй силы в пользу первой; второе наблюдение состоит в том, что каждый период борьбы оставляет после себя расширение и укрепление всего здания новыми продуктами кристаллизации любви, которые потом не может уничтожить новый натиск враждебной силы. Цель цивильной политики состоит в приближении к любви, в облагораживании мотивации в общественной жизни <13>. ——————————— <12> Petrazycki. Lehre vom Einkommen. II. 1895; Stammler. Das Recht d. Schuldverh. 1897. <13> Lehre von Einkommen. II. 468, 477, 541 и др.
Близкие по духу идеи встречаем у Штаммлера <14>. Сходство своих идей со взглядом Петражицкого не отрицает и сам Штаммлер <15>. Признавая формулу Петражицкого «любовь к согражданам» недостаточной, так как любовь есть одностороннее влечение, а для направления общественной жизни нужна сознательно обоснованная, обоюдная симпатия, Штаммлер дает следующие соображения относительно понятия доброй совести. Treu und Glauben есть принцип, дающий известное направление судейскому приговору, это норма, указывающая для каждого особого положения правильное в смысле социального идеала. А так как понятие социального идеала предполагает идею взвешивания индивидуальных желаний с точки зрения общественной, приспособление частных целей к конечной цели общества <16>, то в каждом случае конфликта интересов отдельных лиц судья, раз он решает с точки зрения доброй совести, должен задаться вопросом: как разрешился бы этот конфликт, если бы осуществились идеальные в общественном смысле отношения, если бы каждый руководствовался не только своими желаниями и интересами, преследовал не только свои личные цели, но заботился и о ближних, относился к чужим целям как к своим? — и в соответствии с решением этого вопроса судья должен вынести суждение и по спорному казусу. Таким образом, указание в законе на сообразование решения с правилами доброй совести не дает судье непосредственного материала для решения, но указывает метод объективно правильного выхода, дает направление, в котором нужно идти, разбирая казус; направление это сводится к внесению объективного критерия, согласованного с социальным идеалом, объективный критерий должен встать над субъективными желаниями и требованиями сторон и наметить границу, по которой должны быть размежеваны сталкивающиеся требования; противоречивые субъективные интересы и претензии взвешиваются с точки зрения социального идеала и получают объективное разрешение. В конкретном случае нужно восходить к высшей цели всего правопорядка, которая состоит в идее такой общественной жизни, чтобы каждый подчиненный праву относился к другому безлично правильным образом, цели другого делать своими. ——————————— <14> Stammler. Das Recht der Schuldverhaltnisse. 36 ff. <15> Ibid. 41. <16> Die Lehre von d. richt. R. 196 ff.
В принципе разделяет точку зрения Штаммлера на значение доброй совести также и Штейнбах <17>. И этот автор считает добрую совесть такой нормой для решения юридического спора, которая дает в каждом особом положении направление в смысле социального идеала, позволяет решить, что (с этой точки зрения) правильно. Цели введения этого начала — объективность, взвешивание и обсуждение противоречивых интересов и желаний в смысле социального идеала. Однако Штейнбах подчеркивает, что социальный идеал не всегда один и тот же. Правовые сферы, в которых складываются отношения, подлежащие рассмотрению и составляющие предмет судебных решений, весьма различны, и применительно к каждой такой сфере понятие социального идеала может оказаться неодинаковым. Социальные цели многочисленных организаций, в которые объединяются люди, очень разнообразны, часто даже противоречивы, отсюда различия в степени общности интересов, интенсивности связи в разных организациях; эти различия сказываются, между прочим, в том, что не во всех правоотношениях требуется одинаковая мера доброй совести. Во многих случаях государство считает экономическую борьбу на почве конкуренции между отдельными его членами допустимой, даже выгодной, и только стремится оказать известное влияние на эту борьбу как в том направлении, чтобы борьба не исключалась заранее в таких областях, где она, по мнению государственной власти, должна дать благие результаты для общества, так и в том направлении, чтобы борющиеся не могли употреблять некоторых недопустимых с точки зрения государства средств <18>. Там, где выступает идея ограждения интересов организации, начинается более сильное проявление принципа доброй совести в форме ограничения свободы действия отдельных членов общежития. ——————————— <17> Steinbach. Treu und Glauben im Verkehr. 22 сл., 26. <18> См. об этом также ниже, в § 3.
Иную формулировку — недостаточно, впрочем, определенную — дает Эндеман <19>. Введение в закон принципа доброй совести обозначает связь закона с нравственными основами оборота; в руки судье дается масштаб, покоящийся на нравственных убеждениях общества, как они отливаются в действительности, в практике оборота. Следовательно, начало доброй совести не покрывается субъективными воззрениями отдельного лица, это объективный масштаб, в основе которого лежит честный образ мыслей, какого, по господствующим в данном общежитии понятиям, можно требовать от каждого члена общежития. В сочетании с обычаями оборота принцип доброй совести дает возможность оказывать на правовой оборот такое же влияние, какое имела bona fides римских юристов. ——————————— <19> Endemann. Einfuhrung in das Studium des B. G.B. 1897. 3 — 4 Aufl. § 11, 100.
Наконец, остановимся на воззрении по интересующему нас предмету Шнейдера <20>. Шнейдер признает, что заложенная в учении Штаммлера о социальном идеале мысль вообще правильна, но он не соглашается с тем, что принцип доброй совести в долговых отношениях должен пониматься с точки зрения социального идеала. Такое содержание идеи доброй совести слишком расплывчато и приводит к смешению права и нравственности, между тем в области этих отношений требуется масштаб из более прочного материала. Когда норма права становится в связь с принципом доброй совести, это не означает для судьи возможности приносить один частный интерес в жертву другому, благодетельствовать одну сторону за счет другой, ни даже подавлять частный интерес ради всего целого: этот частный интерес остается закономерным, хотя и сдерживается в разумных границах. С другой стороны, попытки определять принцип доброй совести посредством привлечения общих этических соображений ошибочны ввиду того, что соотношение права и нравственности нисколько не изменяется в тех случаях, когда норма содержит указание на добрую совесть; этим норме придается лишь большая гибкость, позволяющая судье приспособиться к индивидуальным особенностям случая; сообразование с особенностями конкретного случая может отразить в себе и этические требования, но это вытекает не из существа понятия доброй совести, а из предоставленной судье положительною нормою свободы усмотрения. Добрая совесть в первом и самом подлинном смысле есть принцип верности договору, уважения договорного соглашения, соблюдения данного слова. В целях большого приспособления спорного вопроса к нормам права и соглашению заинтересованных лиц законодатель уполномочивает иногда судью разбирать дело в соответствии с доброй совестью, но это должно происходить при непременном условии соблюдения норм, выставленных законодателем, и положений, принятых сторонами. Вспомогательный масштаб в виде принципа доброй совести дается в руки судьи постольку, поскольку тот не может и не должен находить ответа ex lege или ex lege contractus. Применение принципа доброй совести выражается в беспристрастном взвешивании противоположных экономических интересов спорящих сторон, каждая из которых может ждать от другой поведения, сообразного с законом и договором, словом, такого поведения, какое данная сторона могла и должна бы одобрить <21>. ——————————— <20> Schneider. Treu und Glauben im Rechte der Schuldverhaltnisse des B. G.B. 1902. <21> Op. cit. 4, 20, 48, 94, 131 и др. Ср.: Schneider. Abanderliches Recht u. Verkehrssitte в Iher. Jahrb. Bd. 59. 1911. S. 389, также в Arch. f. burg. Recht. Bd. 25, 283, 288.
Попытаемся подвести итоги, сделать вывод. Представляется, прежде всего, несомненным, что нельзя свести понятие добросовестности к внутреннему чувству, к внутреннему голосу, подсказывающему, как нужно поступить при данной комбинации, как отнестись к другим людям; это значило бы лишить понятие доброй совести признаков объективного мерила, превратить его в субъективный взгляд каждого отдельного члена общежития, что явно неправильно и недопустимо. Даже за римской bona fides не отрицают значения объективного масштаба, тем менее сомнений на этот счет может быть в современном праве, стремящемся к объективированию. Становясь на эту точку зрения, нельзя также удовольствоваться при выяснении содержания доброй совести социальным идеалом Штаммлера, принципом любви Петражицкого и аналогичными формулировками других авторов. Бесспорно, что во всех этих и подобных определениях кроется правильная мысль, именно та, что принцип доброй совести является известным сдерживанием эгоизма в юридических отношениях, но выражение этой мысли недостаточно определенно и, кроме того, преувеличенно: все идеалы, как известно, имеют ту особенность, что они далеки от осуществления, они, как маяки, указывают нам надлежащую дорогу, но сами пока недосягаемы. Правда, Штаммлер подчеркивает <22>, что мысль о социальном идеале не означает осуществления (по содержанию) правопорядка «райского общежития», это лишь указание на известный метод, формальный масштаб, решение же получает содержание только как исторически условное, на основании конкретного правового материала. Однако если мы желаем придать этому указанию какое-нибудь практическое значение, приходится, отправляясь от штаммлеровской точки зрения, все-таки парить слишком высоко <23>. Между тем добрая совесть и вытекающие из нее частные указания и положения принадлежат к числу обиходных понятий, касаются повседневных явлений жизни. С другой стороны, точка зрения Шнейдера, что добрая совесть состоит в верности данному слову, а за пределами договорного соглашения и за отсутствием специального указания закона выражается в беспристрастном взвешивании взаимных интересов сторон, слишком узка. Договорная верность, несомненно, одно из велений доброй совести, но ею одной это последнее понятие не исчерпывается <24>; если бы закон имел в виду только верность договору и беспристрастное отношение суда к интересам сторон, не было бы нужды уделять сравнительно много места принципу доброй совести; скромные задачи, указываемые Шнейдером, и без того вытекают из современных кодификаций. ——————————— <22> Recht d. Schuldverh. 46 — 47. <23> Dernburg. Das burg. R. Bd. II. 1-e Abtz. (4 Aufl., 1909). § 10. S. 29. <24> Ср.: Для римской bona fides: Wendt. Arch. f. civ. Praxis, 1906. 42 ff.
Добрая совесть (bona fides, Treu und Glauben, etc.), по этимологическому смыслу, таит в себе такие элементы, как: знание о другом, о его интересах; знание, связанное с известным доброжелательством; элемент доверия, уверенность, что нравственные основы оборота принимаются во внимание, что от них исходит каждый в своем поведении. Вместе с тем принципом доброй совести выражаются связанность, согласованность отдельных частных интересов, а также частного интереса с интересом целого; подчинение каждого равномерно идее общего блага, поскольку она проявляется или отражается на отношении между данными лицами <25>. В этом принципе одна из границ индивидуализма в гражданско-правовых, в частности обязательственных, отношениях, здесь сказывается роль социального начала в гражданском праве, приводящего к отрицанию от чистого индивидуализма <26>. ——————————— <25> С этой стороны оказывается соприкосновение принципа доброй совести с категорией справедливости, отсюда попытки сближения (Pernice. Labeo. II. 1. 196) и даже отождествления (Birkmeyer. Die Exceptionen im bonae f idei iudicium. 1874. S. 93. Pr. 15) обоих понятий, последнее нужно признавать безусловно ошибочным. <26> Ср.: Endemann. § I, III.
Изложенный взгляд на сущность доброй совести не приводит, однако, хотя бы и в других выражениях, к категории социального идеала. Осуществление социального идеала состоит, выражаясь словами Штаммлера, в том, что лицо чужие интересы и чужие цели как бы делает своими. На наш взгляд, это слишком возвышенно: так высоко положительное право и судебная практика подняться не могут. Иное дело — только сообразование собственного интереса с чужими, установление известных границ для проявления эгоизма, признание интересов общества; именно такое признание интересы общества и должны получить в доброй совести. Предложенная формула носит, несомненно, схематический и абстрактный характер; спрашивается: откуда же влить в нее живое, конкретное содержание? Думается, можно, не опасаясь упрека в предвзятости и произвольности суждений, сказать, что, так как назначение этого вспомогательного критерия сводится к обслуживанию интересов гражданского оборота, то здесь, в его воззрениях, и нужно искать для каждого данного момента ответа на вопрос, каковы смысл и содержание этого критерия. С другой стороны, этим только путем и можно сохранить связь с практической жизнью, остеречься от излишнего теоретизирования <27>. Таким образом, намечается соприкосновение этого критерия с другим — обычаями гражданского оборота (с которым он в некоторых случаях и комбинируется) <28>. Общее между ними — источник: решает вопрос среда, ее взгляды. Однако одно начало не поглощает другого. Обычаи гражданского оборота воплощают в себе установившуюся деловую практику вне связи с вопросом, соответствует ли она господствующим нравственным воззрениям; назначение принципа доброй совести — предотвратить безудержный эгоизм, полное обособление индивида от окружающей среды; добрая совесть должна установить равновесие интересов, взаимную их связь, осуществить известное внимание к чужим интересам, насколько оно требуется нравственными воззрениями среды. Таким образом, при комбинировании обоих начал (доброй совести и обычаев гражданского оборота) <29> получается, с одной стороны, что в принципе доброй совести заключается как бы общая граница проявления индивидуалистических стремлений, в пределах этой черты (как и что можно и надлежит делать) проявляется регулирующее значение обычаев гражданского оборота; с другой стороны, эти последние помогают в сомнительных случаях установить требования доброй совести, а также дополняют собой это начало, когда дело идет о вопросах, безразличных с точки зрения доброй совести <30>. ——————————— <27> Ср.: Holder // Iher. Jahrb. Bd. 55, 427. Note 6: не может быть вообще речи о доброй совести помимо оборота и вытекающего из него масштаба для того, чего мы можем ждать от других, а они от нас. Он же // Iher. Jahrb. Bd. 58, 114. Ср.: Kiss. Ibid. 461, 463 ff. <28> См. нашу статью «Обычаи гражд. оборота в проекте обязат. права» // Вестн. гражд. права. 1915. N 1. <29> Относительно целесообразности такого комбинирования, подвергаемой иногда сомнению (напр., Stammler), см. ниже, в § 4. <30> Ср.: Endemann. I. § 100. Ненормальным должно быть признано такое положение, если обычаи гражданского оборота подавляют собой веления доброй совести (ср. Crome. System. I. § 13, 2 b; также § 172 проекта Новеллы к Австр. гражд. улож. 1912 г., предписывающий толковать договор, как соответствует практике честного оборота (wie es der Uebung des redlichen Verkehrs entspricht); Schondorf. Ueb er den Entwurf einer Novelle zum osterr, a. B. G.B. Arch. f. burg. R. Bd. 39 (1913), 177).
Для того чтобы принцип доброй совести в качестве руководящего мерила мог сыграть свою роль, необходимо, чтобы в тех случаях, где на него ссылается закон, частные лица своими соглашениями не могли отменить его действия, другими словами, чтобы соответствующие нормы имели принудительный характер. Приведенное выше мнение Шнейдера, что масштаб доброй совести дается законодателем в руки судьи лишь на тот случай, если стороны по договору не дали ему иного указания, необоснованно с точки зрения положительных норм Германского уложения <31> и неприемлемо de lege ferenda, ибо оно сводит на нет все значение доброй совести как средства согласования частных интересов между собой и с интересом общественным. Надо заметить, что эта идея усвоена и нашим проектом, в некоторых частных случаях не допускающим отмены требований доброй совести; так, не допускается снятие с должника, сполна или в части, ответственности на случай умышленного неисполнения обязательства (ст. 126); не признается действительным соглашение об устранении или ограничении ответственности продавца за эвикцию или за недостатки вещи, если продавец, зная о существовании права третьего лица или о наличности недостатков вещи, умышленно скрыл это от покупщика (ст. 216 и 221) <32> и др. ——————————— <31> Такова господствующая в литературе точка зрения (Stammler, Endemann, Steinbach и др.). <32> Иначе сенатская практика (Синайский. Русск. гражданск. пр. II. 69).
Кроме доброй совести и обычаев гражданского оборота проект, подобно другим современным кодификациям, знает еще категорию добрых нравов. Спрашивается: каково взаимное отношение этих понятий? <33> Штаммлер полагает <34>, что добрая совесть на деле сводится к тому же, что и добрые нравы: то и другое обозначает обсуждение конкретных правовых вопросов с точки зрения социального идеала. Ср.: Papinianus. D. 22, 1, 5: Generaliter observari convenit bonae fidei iudicium non recipere praestationem, quae contra bonos mores desideretur. Такое отождествление обеих категорий не может быть признано правильным <35>. Добрая совесть, как было отмечено, есть критерий, указывающий, чего требует от лица связанность, согласованность отдельных частных интересов между собой и с интересом общественным, как нужно поступить, чтобы эту согласованность не нарушить; в доброй совести заложен предел индивидуалистического начала. Добрые нравы — это вылившиеся вовне, объективировавшиеся в практике данного общества представления этого общества <36> о благе, честности, порядочности, а также условные правила общественного благоприличия. ——————————— <33> Сводку различных мнений о существе добрых нравов дает Herzog. Zum Begriffe der guten Sitten im B. G.B. 1910. 2 — 12. <34> D. Recht d. Schuldverh. 49; Ср.: Die lehre von dem richt Rechte. 48 — 49. <35> Ср.: Endemann. I. § 103. Rr. 9. <36> Что считать за воззрения общественной среды — мнения ли толпы или лучших представителей народной массы? Во втором смысле высказываются Синайский (II, 8), Колер (Гражд. право Герм., 177). Однако справедливо ли и практично ли требовать от каждого заурядного человека проведения принципов, до которых доросли лишь отдельные выдающиеся индивиды? Не останутся ли такие требования в отношении большинства без осуществления? Конечно, нельзя исходить и из воззрений низов данной среды, целесообразным представляется руководствоваться некоторым средним уровнем, воззрениями, господствующими в этой среде. Ср.: Endemann. I. § 103. Pr. 5.
Таким образом, категория добрых нравов имеет также точки соприкосновения с нравственностью и практикой оборота. В литературе немало представителей даже крайнего взгляда, отождествляющего добрые нравы с нравственностью <37>. Однако такое отождествление нельзя признать основательным: с одной стороны, не все безнравственное противоречит добрым нравам (ср. приводимые Колером примеры: жадность, скупость и т. п.); с другой стороны, к добрым нравам принадлежат также условные правила приличия, с нравственной точки зрения безразличные. Не совпадает понятие добрых нравов и с обычаями гражданского оборота: первое — так сказать, практика добрая, второе — вся, как она сложилась; с другой стороны, обычаи гражданского оборота регулируют только деловые отношения, добрые нравы касаются также и других сторон жизни лица в обществе. ——————————— <37> Enneccerus. D. burg. R. I (1901). 247; Oertmann. Komm. Allgem. Teil, 1908. 424 ff и др. (см.: Herzog. Op. cit. 2 ff). Также Синайский (I, 137), изъясняя ст. 1528, т. X, ч. 1, говорит: «…под благочинием разумеются добрые нравы, короче — нравственность». Автор ссылается также на ст. 2151 того же тома. Компании, коих предмет представляется явно несбыточным или противен законам нравственности, доброй вере в торговле и общественному порядку… вовсе к учреждению не допускаются.
Требования доброй совести и добрых нравов в отдельных случаях могут покрывать взаимно одни другие. Однако это не общее правило, во многих случаях можно встретить и расхождение этих двух критериев. Так, обещание не вступать в брак, никогда не мириться с обидчиком или иные стеснения в вопросах личного характера, продажа наследниками трупа в целях увеличения наследственной массы, договор о неоткрывшемся наследстве (проект, ст. 23), распоряжение членами тела прежде отделения их и т. п. — все это сделки, нарушающие добрые нравы, но с указанной точки зрения их нельзя назвать недобросовестными.
§ 2. Добросовестность в субъективном смысле
Понятие доброй совести в субъективном смысле подвергалось исследованию и определению главным образом применительно к приобретению права собственности по давности <38>. Однако оно имеет значение также и для обязательственного права, а потому нужно попытаться установить смысл названного понятия в этой сфере. ——————————— <38> В отношении римского права проводится даже разграничение двух значений bona fides так, что bona fides в смысле объективном относится к праву обязательственному, в субъективном — к вещным правам (Pernice. Labeo. II. 1, 311, 483).
Добросовестность как известное субъективное состояние лица определяется не честным образом мыслей как таковым, а знанием или незнанием фактов <39>. В основе здесь лежит заблуждение, будет ли то незнание тех или иных действительных фактов, отражающихся на правовых отношениях, или ошибочная уверенность в их наличности. Само собой разумеется, что это заблуждение не должно быть неизвинительным: обстановка должна быть такова, чтобы ее можно было охарактеризовать выражением prospicere non posse <40>. Не всякое спокойное и самодовольное сознание лица, что оно действует в согласии с правовым порядком, достаточно, чтобы признать это лицо добросовестным. Вместе с тем наличность bona fides в субъективном смысле зависит не от одних субъективных воззрений и убеждений лица, о котором идет речь, требуется, чтобы эти субъективные воззрения находили себе опору в объективной обстановке, по которой и приходится судить, извинительно ли неведение или заблуждение лица или нет. Поэтому нельзя говорить о добросовестности лица, если оно заблуждается в нормах права, а также и в тех случаях, когда заблуждение хотя и касается фактов, но основывается на грубой небрежности данного лица. Если заблуждение основывается на небрежности, но не грубой, дело положительного права указать, можно ли связывать с ним те последствия, какие могли бы иметь место, в случае признания добросовестности. С точки зрения интересов народного хозяйства, страдающих от всякой неустойчивости и пертурбаций, Петражицкий <41> высказывается вообще за установление более строгих условий для признания bona fides. Вопрос должен решаться в зависимости от того, была ли в данном случае возможность предвидеть, что придется, быть может, лишиться некоторых благ, входящих в имущество, и могло ли данное лицо сообразовать с этим обстоятельством свой хозяйственный план. Если этой возможности предвидения в данном случае установить нельзя, мы должны признать лицо добросовестным. ——————————— <39> Ср.: Thur. Derallg. Teil. II. 1-e Abth. 134. Anm. 63. <40> См.: Петражицкий. Bona fides в гражд. праве. 2-е изд. 251, 254. <41> См.: Там же. 250 сл.
Положительное право в разных случаях смотрит разно. Так, напр., в Герм. улож. § 122 наряду с тем случаем, когда лицо знало об обстоятельствах, приводящих к известному результату (дело идет об основаниях ничтожности или оспоримости волеизъявления), ставит случаи, когда лицо не знало этого вследствие небрежения, причем не делается различия между небрежностью грубой и незначительной (так же в § 132). В ряде параграфов того же уложения (§ 123, 142, 307, 674, 729 и др.) встречаем простое сопоставление случаев, когда лицо знало факты, о которых идет речь, и таких, когда оно должно было их знать: к kennen приравнивается kennenmussen; лицо не может быть признано добросовестным, если оно знало или должно было знать о некоторых обстоятельствах, мешающих предполагаемому правовому состоянию. Напротив, в § 407 того же Герм. улож. kennen и kennenmussen уже не сопоставляются: только знание должника об уступке требования дает цессионару право оспаривать платеж, совершенный должником цеденту после уступки; незнание, при какой бы обстановке то ни было, прикрывает платеж должника. В швейцарском обязательственном праве постановка вопроса в общем не отличается от Германского уложения, но в Швейцарском уложении (1907 г.) есть общее, весьма эластичное постановление ст. 3, абз. 2: никто не может ссылаться на свою добросовестность, если она несовместна с внимательностью, какой обстоятельства позволяли требовать от данного лица. Действующее русское право применительно к институту владения довольно снисходительно при оценке добросовестности: «Владение признается добросовестным дотоле, пока не будет доказано, что владельцу достоверно известна неправость его владения», — гласит ст. 530, т. X, ч. 1, и затем добавляет: «Одно сомнение в законности владения не есть еще основание к признанию владельца недобросовестным». В области права обязательственного т. X не дает почти никаких указаний <42>. ——————————— <42> Сюда относится ст. 1527.4: отчуждение и заклад имущества, купленного с рассрочкой платежа, до полной уплаты цены недействительны, кроме того случая, когда купивший или принявший в заклад не знал, что имущество не могло быть отчуждаемо.
De lege ferenda заслуживает, думается, предпочтения более строгая точка зрения Петражицкого. Не надо упускать из виду, что добросовестность получает признание главным образом в том отношении, что нарушается строгая последовательность юридических выводов из сложившихся фактических условий <43>. Это затрагивает интересы посторонних лиц, по общему правилу ни в чем не повинных и не имевших возможности как-нибудь предусмотреть такое положение. Вносится, следовательно, некоторое смятение в отношения. Естественно, что нужны очень солидные основания для того, чтобы, не считаясь с отрицательными последствиями, какие могут возникнуть от нарушения, вследствие признания добросовестности одного, интересов другого, также не заслуживающего упрека в недобросовестности, все-таки снабдить добросовестность таким влиянием. ——————————— <43> См. ниже, § 7.
Какова точка зрения на этот вопрос составителей проекта? Прежде всего нужно заметить относительно проекта Вотчинного права, что хотя мы и не встречаем в нем подчеркивания достоверности знания, подобно ст. 530, т. X, ч. 1, но все-таки добросовестность при приобретении вещных прав имеет место по проекту лишь тогда, когда лицо знает, что имение не принадлежит отчуждателю, и т. п.; незнание, вытекающее из небрежности данного лица, отдельно не упоминается <44>. В объяснениях Редакционной комиссии к названному проекту <45>, между прочим, приводятся такие соображения: «В противоположность общепринятому значению слова «недобросовестность», употребляемого в самом широком и преимущественно нравственном смысле, недобросовестность является по ст. 8 проекта понятием, точно определенным и чисто юридическим. Под недобросовестностью в ней разумеется знание приобретателя об обстоятельствах, препятствующих по закону предполагаемому им приобретению вотчинного права», и дальше: «должна быть удостоверена положительная известность приобретателю о препятствиях к приобретению им права, ибо одно лишь сомнение в законности приобретения не делает еще приобретателя недобросовестным». Относительно этого последнего ограничения возможна и иная точка зрения. Не лишено значения замечание Петражицкого, что кто сомневается в своем праве, тот сознает возможность отмеченной выше опасности — пертурбации в хозяйстве, поэтому закону не приходится оберегать его, заглаживать ошибки в его хозяйственном плане: при должной осторожности лицо могло посчитаться с опасностью и ее избежать. Те же руководящие начала уместны и в обязательственном праве (напр., вопрос о возврате незаконного обогащения). ——————————— <44> См.: Проект Вотч. права. Ст. 8: Бесповоротность вотчинных прав на недвижимое имение… не наступает… 2) если приобретатель во время приобретения права действовал недобросовестно, зная, что имение не принадлежит лицу, значащемуся в вотчинной книге собственником, или что приобретаемое право недействительно. — Подобные же выражения в ст. 13, ст. 150. <45> Проект Гражд. улож. Кн. III. Т. I. Стр. 20 — 22.
Как же подходит к этому вопросу наш проект? Упоминание о добросовестности в субъективном смысле в проекте обязательственного права встречается во многих случаях (подлежащих ниже нашему рассмотрению), но определения этого понятия мы в проекте не имеем. В объяснениях к ст. 593 (по проекту 1913 г. ст. 668) редакторы проекта особо отмечают <46>, что эта статья не дает объяснений понятия добросовестности, следуя в этом отношении примеру большинства положительных законодательств, причем приводят то соображение, что вопрос о добросовестности имеет более общее значение, а не только применительно к данной статье. Последнее замечание внушает предположение, что понятие добросовестности обрисовывается где-то в другом, более общем, месте, однако в действительности этого нет. ——————————— <46> См.: Пр. Гр. ул.. Кн. V (189.0). Т. III. Стр. 285.
Приходится поэтому извлекать из проекта отдельные черточки, характеризующие названное понятие, и из сопоставления их уяснить себе его смысл. Результат такой работы получается недостаточно удовлетворительный. Лишь в немногих нормах проекта, как бы в виде исключения, можно встретить сопоставление тех случаев, когда лицо знало известные факты, с случаями, когда оно их должно было знать. Так, по ст. 1030 страховщик не вправе отступиться от договора ввиду умолчания или неверного сообщения страхователем некоторых существенных обстоятельств, если страховщик имел или должен был иметь правильные сведения об обстоятельствах, о которых страхователь умолчал или дал неверные сведения <47>. По ст. 250 (об осуществлении права преимущественной покупки) с передачей новому покупщику движимого имущества или с внесением в крепостную книгу акта о продаже недвижимости право преимущественной покупки первого продавца может осуществляться лишь в тех случаях, когда новый покупщик действовал недобросовестно или акт о праве преимущественной покупки был отмечен в реестре крепостных дел, т. е. когда покупщик должен был о нем знать. Статья 1038 противопоставляет «недобросовестность» и «извинительное заблуждение». В ст. 408 дается неопределенная формула, по которой ответственность поклажедателя за убытки, причиненные поклажепринимателю, не имеет места, если поклажедатель при передаче вещи не знал и не мог знать об опасном свойстве вещи, а также если поклажеприниматель знал или должен был знать о таком свойстве вещи. ——————————— <47> Эта формулировка является новшеством последнего проекта (1913 г.), в предыдущих редакциях упоминалось только о знании страховщика. Ср.: Объясн. зап. Мин. юстиции. Изд. Сорина. Вып. 3. Стр. 86.
Но во многих случаях постановка вопроса иная. Так, в ст. 594 (по вопросу о прекращении доверенности <48>) упоминается случай, когда третье лицо знало о прекращении доверенности, но с ним не сопоставляется тот случай, когда оно должно было это знать. Также в ст. 558 (…действия поверенного признаются обязательными и для доверителя, разве бы последний доказал, что третье лицо знало об отмене доверенности), в ст. 241 (отчуждение или заклад имущества, купленного с рассрочкой платежа, до первой уплаты цены недействительны, кроме того случая, когда купивший или принявший в заклад не знал, что имущество не могло быть отчуждаемо или закладываемо), в ст. 30 (в случае обмана, совершенного третьим лицом, договор может быть по просьбе потерпевшей стороны признан недействительным, если другая сторона знала об обмане) и др. ——————————— <48> Относительно погрешностей терминологии этой статьи см. ниже, § 7.
Любопытно, что в предыдущей редакции проекта ст. 30 содержала оговорку «или должна была знать». В последнем проекте эта фраза исключена, причем в объяснительной записке Министра юстиции 1913 г. <49> по этому поводу приводятся следующие соображения: «Нельзя не заметить, что при нашем культурном уровне не следует отождествлять по своим последствиям то, что сторона действительно знает, с тем, что она должна была знать; отсутствие же в законе выражения «должна была знать» не представляет никакой опасности, так как суд и без того всегда, по обстоятельствам дела, может сделать вывод о том, что данная сторона хотя и не знала, но по своему развитию должна была знать, и в подобных случаях это неведение приравнивает к знанию. Ввиду этого казалось бы целесообразным выражение «или должна была знать» из части второй настоящей статьи исключить». Это рассуждение, на наш взгляд, содержит в себе противоречие: с одной стороны, здесь констатируется, что даже без прямого указания со стороны закона судья руководствуется тем, что данное лицо должно было знать, причем решает последний вопрос в зависимости от уровня развития лица и вообще по обстоятельствам дела; с другой — открытое предоставление того же самого права суду признается нежелательным «при вашем культурном уровне». Нам представляется приведенное объяснение совершенно неубедительным: в тех случаях, когда лицо по своему культурному уровню не могло предусмотреть известных фактов, судья не скажет, что оно должно было предвидеть эти факты, напротив, судья не затруднится признать его действовавшим добросовестно. Таким образом, опасность, которая рисуется Министру юстиции, — опасность призрачная, тогда как вред для оборота, который получится, если суду не будет дано право вникать, извинительно ли незнание субъекта, будет иметь вполне реальный характер. Было бы желательным поэтому, чтобы законодательные учреждения нашли возможным в общие положения включить, между прочим, статью, подобную цитированной выше ст. 3 Швейц. улож., по которой нельзя ссылаться на добросовестность, когда лицо не проявило такой степени внимательности, какой требовали обстоятельства <50>. Если бы было признано затруднительным включить в общую часть Кодекса то или иное определение добросовестности, то во всяком случае желательно, чтобы законодательные учреждения внесли в текст соответствующих статей (хотя бы в той форме, как это сделано редакционной комиссией в отношении проекта Вотчинного права) основные признаки добросовестности, причем к знанию лицом известных фактов приравняли бы и незнание, вытекающее из небрежности лица. ——————————— <49> Проект. Изд. Сорина. Вып. 2. Стр. 16 — 17. <50> Ср.: Предложение Петражицкого. Bona fides. 2-е изд. Стр. 256, 320.
Глава II. ДОБРАЯ СОВЕСТЬ В ОБЪЕКТИВНОМ СМЫСЛЕ
§ 3. Ограничения свободы договорных соглашений
Основным принципом договорного права, его отправной точкой является свобода частного соглашения <51>. Мы не встречаем, правда, в современных законодательствах таких откровенных, пожалуй, даже циничных заявлений, как выражения римских юристов — Помпония, что «in pretio emptionis et venditionis naturaliter licere contrahentibus se circumscribere», или Павла: «quemadmodum in emendo et vendendo naturaliter concessum est quod pluris sit minoris emere, quod minoris sit pluris vendere et ita invicem se circumscribere, ita in locationibus quoque et conductionibus iures est» <52>. Но деликатное выражение Сенеки <53>: «Venditori nihil debet qui bene emit» — могло бы служить эпиграфом и для договорного права современных кодификаций. В этом вопросе современное гражданское право не изменило по сравнению с классическим римским исходной позиции. По общему правилу стороны вольны в общих рамках закона влагать в договоры какое угодно содержание, причем каждый из контрагентов вправе направлять свои усилия и заботы на лучшее обеспечение своего эгоистического интереса и не раскрывать глаз противнику, не умеющему должным образом блюсти свой интерес. Каждый должен сам знать, на что идет, подчиняясь известным условиям. Для дееспособных граждан нет опекунов, а потому каждый должен внимательно следить за своими интересами, не давать себя в обиду. ——————————— <51> Saleilles. Introduction a l’etude du droit civil allemand. 44; Thur. Op. cit. II. 1, 143. Против выражения «свобода договоров» возражает Я. Петражицкий (Вестн. гр. права. 1900. N 2. Стр. 18): «…дело не в свободе, а в несвободе, в связанности, в невозможности произвольно отступаться от договора». Едва ли, однако, выражение «свобода договоров» заслуживает полного осуждения, оно содержит в себе правильную мысль о том, что стороны вольны, в известных границах, определять содержание договора. Ср.: Шв. об. пр., 19: Der Inhaltdes Vertrages kann innerhalb der Schranken des Gesetzes beliebig festgestellt werden. <52> D.4.4. 16, 4; 19.2. 22, 3. Ср.: Hermogenianus. 1. 23 eod.; Africanus. D.39.2. 44, 1. C. J. 4.44. 4, 6, 7. Nov. 97. C. 1: Non enim aliter iustitiae aequitatis servabitur ratio, si negotiative alterutros circumveniat. <53> De benef. VI. 15.
Однако безусловное проведение принципа частной автономии не может иметь места. Как отмечалось в литературе, договорная свобода в самой себе содержит нечто самоубийственное: при абсолютном действии этого принципа стороны могли бы использовать договорную свободу для того, чтобы своим соглашением упразднить эту свободу <54>. Государство не может предоставить индивида всецело самому себе и безучастно взирать на соперничество и борьбу при отстаивании частных интересов. Положительное право разных эпох и стран при всех различиях содержания сходится в том, что не признает полной частной автономии. Неограниченное признание индивидуалистического начала признается несовместным с публичным интересом. ——————————— <54> Steinbach. Rechtsg. d. wirt. Organ., 146.
Не могли не посчитаться с этим соображением и составители нашего проекта. В объяснениях к проекту 1899 г. <55> редакционная комиссия в основных положениях, между прочим, говорит, что «закон должен быть справедлив; ограждая равноправность сторон в обязательственных отношениях, закон вместе с тем должен оградить интересы всех слабых, беспомощных, словом, всех тех, кто по своему личному или имущественному положению нуждается в особой защите закона, не будучи в состоянии с достаточной энергией отстаивать свои права». ——————————— <55> Кн. V. Т. I. Стр. LI и сл.
Вмешательство государства в состязание отдельных интересов и государственная опека над социально слабыми представляет самостоятельный, очень важный и большой вопрос гражданского права и цивильной политики, исследование которого во всем объеме не входит в нашу задачу. Мы ограничиваемся здесь рассмотрением лишь отдельных случаев, в которых такое вмешательство может быть поставлено в более или менее близкую связь с принципом доброй совести. Где граница для эгоистического проявления заботы о собственном интересе? Какие требования ставит добрая совесть в этом отношении? Признание принципа доброй совести в качестве руководящего мерила при решении спорных вопросов само по себе не исключает возможности эгоистического отстаивания каждым своих интересов. Экономическая борьба на почве конкуренции между отдельными членами государства не только допускается, но даже поощряется. Вместе с тем правовой порядок не может потерпеть, чтобы в этой борьбе интересов осуществлялась полная свобода в выборе средств борьбы, точно так же современное правосознание не допускает полного порабощения одними лицами других, за каждым индивидом должен быть сохранен известный минимум свободы, не зависящий от давления конкуренции. Таково первое, самое грубое очертание того района, в котором действует правило о допустимости «invicem se circumscribere». Любопытно отметить попытку Штейнбаха <56> дать некоторую общую схему разграничения интересов. Штейнбах устанавливает тот принцип, что граница, до которой можно в полном соответствии с объективным правом преследовать свои личные интересы в ущерб другой стороне, при заключении имущественных договоров склонна к перемещению в различных областях права, причем на это перемещение границы решающее влияние оказывают сложившиеся в обороте воззрения. Штейнбах пытается наметить различие двух видов производительной деятельности: как промысел (Erwerb) и как призвание (Beruf) <57>. В первом случае преобладают эгоистические моменты; главная цель деятельности состоит в приобретении, наживе; такая деятельность находится под влиянием почти исключительно точек зрения и соображений индивидуалистического характера. Во втором случае каждый работает как член организованного союза; главная цель деятельности — не приобретение или нажива отдельного лица, а результат, какой может получиться для общества; социальные мотивы вытесняют индивидуальные. Едва ли есть чистый тип той или другой формы деятельности; в соответствии с человеческой природой те и другие мотивы переплетаются <58>. ——————————— <56> Steinbach. Op. cit. 36 sl. <57> Ibid. 58 sl. Ср.: Его же: Erwerb und Beruf. 1896. <58> Штейнбах дает интересную иллюстрацию, применяя это разграничение к развитию меновых договоров.
Странно было бы в предлагаемой Штейнбахом схеме видеть сколько-нибудь достаточную формулу, из которой можно почерпнуть указания, до какой границы допустима свобода договорных соглашений без нарушения принципа доброй совести. Однако в этой схеме заключается правильное указание, что мера заботы о чужом интересе, ограничение свободы соглашения должны видоизменяться в зависимости от характера отношений и сложившихся в данной области воззрений, как они выразились в обычаях оборота. Тот же Штейнбах напоминает пример из Цицерона (De offic., III, 12). Во время голодовки и дороговизны родосцев некий купец везет пшеницу из Александрии в Родос. Ему известно, что по тому же направлению находятся в пути еще много кораблей с хлебом: обязан ли он предупредить родосцев или может промолчать и таким образом продать свой хлеб возможно дороже? По словам Цицерона, на этот счет оказалось разногласие между двумя стоиками. Диоген Вавилонский держался того мнения, что купец может и промолчать и заключенные им сделки оспариванию не подлежат; напротив, Антипатр, исходя из общего принципа, что цели и выгоды отдельного лица должны сливаться с общими, считал и в данном случае недопустимым сокрытие истины. Едва ли прав Штейнбах, когда он замечает, что второй взгляд не соответствует воззрениям оборота ни того времени, ни нашего <59>. Рядом с наблюдающимся объективированием правовой жизни старые девизы «ius vigilantibus scriptum est» и «licere contrahentibus se circumvenire» в сфере таких отношений, как купля-продажа, во многом сохраняют значение. Поэтому законодательства выделяют лишь некоторые, вопиющие случаи, но ни одно еще не решилось произвести полный переворот в этой области, стать очень щепетильным в оценке поведения сторон. В некоторых других отношениях распространены иные воззрения и в результате иная оценка поведения. Если бы при обстоятельствах, подобных тем, какие описаны у Цицерона, мандатарий поступил бы аналогичным образом по отношению к манданту, один из товарищей против других и т. п., ответ был бы иной. В этих отношениях господствуют иные воззрения, их главная основа — доверие, и здесь не допускается широкое осуществление своего личного интереса за счет интересов контрагента, и закон и обычаи оборота требуют в этих случаях ограничения эгоизма в большей мере, чем в других договорах. ——————————— <59> Штейнбах (op. cit., 21), между прочим, цитирует комментатора Цицерона — Christian Garve (1783): купцу люди его профессии скорее поставят в вину, если он будет продавать дешевле обычных цен, хотя бы они были несправедливо высоки, чем если он повысит цены.
Обращаясь к постановлениям проекта, направленным на ограничение свободы договорных соглашений, нужно прежде всего отметить общую норму, объявляющую недействительными договоры, нарушающие добрые нравы (ст. 50). Выше отмечалось, что категория добрых нравов не покрывает собой интересующее нас понятие доброй совести, но в некоторых случаях правила доброй совести и добрых нравов совпадают между собой, вследствие чего обойти в нашем перечне ст. 50 нельзя. Наличность такой общей нормы не составляет особенности нашего проекта. Все правовые системы с древних времен и до наших дней знают такие постановления. Здесь сказывается то положение, что метод точных перечислений отдельных случаев в самом законе ненадежен ввиду затруднительности для законодателя не только предусмотреть возможные новые комбинации отношений, но даже и уловить фактически существующие и нуждающиеся в нормировке <60>. Современные кодификации признают необходимым в параллель эластичной норме, дающей сторонам возможность вкладывать в договоры какое угодно содержание, ввести столь же гибкую норму и для противодействия таким соглашениям, которые нарушают серьезные интересы, принимаемые правом под свою защиту. Так же поступают и составители нашего проекта <61>. ——————————— <60> В русской литературе выражено мнение (И. А. Покровским в его статье «Юридич. сделки в проекте Гражд. улож.» // Вестн. гр. права. 1904. Кн. 1. Стр. 100), что скорее можно примириться с неполнотой перечня в законе, чем с введением в закон такого неопределенного начала, как добрые нравы, способного породить разноречивые решения, судейскую субъективность. Заключающийся в этом замечании принципиальный вопрос о положении судьи будет затронут ниже. <61> Герм. улож. применяет тот же метод и к области недозволенных действий (§ 826: кто умышленно причинит вред другому способом, противным добрым нравам, тот обязан возместить ему этот вред. Ср.: Шв. об. пр., 41). По этому поводу см. статью И. А. Покровского «Принудительный альтруизм» // Вестн. гр. права. 1902. Кн. 2. Не касаясь пока вопроса о правильности исходной точки зрения автора на положение судьи, нельзя не присоединиться к его доводам относительно сомнительного значения «принудительного альтруизма». Ср.: Сливицкий в Сборнике памяти Шершеневича, 375 сл. Наш проект соответствующей нормы не содержит.
Среди специальных постановлений проекта, ограничивающих свободу договорных соглашений, с точки зрения доброй совести наиболее существенное значение имеют ст. 31 и 70 <62>. Статья 31 проекта гласит: «Договор может быть также оспорен и в тех случаях, когда кто-либо, злоупотребляя принадлежащею ему властью или оказываемым ему доверием либо пользуясь нуждою или несчастием другого, заключит с ним чрезмерно невыгодный для него договор». Таким образом, свободное усмотрение сторон при определении содержания договоров ограничивается по смыслу ст. 31 при наличности двух предположений: 1) для оспаривания договора требуется нарушение всякого соответствия между предоставлением одной стороны и взаимным предоставлением другой, чрезмерное превышение выгоды, приобретаемой одной стороной, над жертвами, с которыми договор связывается для другой стороны, но 2) одного объективного признака чрезмерной невыгодности договора для одного из контрагентов недостаточно для применения ст. 31, требуется еще наличность признаков эксплуатации («злоупотребляя властью или доверием», пользуясь нуждою или несчастием другого») <63>. Ввиду одного этого (не говоря о других различиях) надо признать неуместной ссылку составителей объяснительной записки на институт laesio enormis <64>. Этот институт, равно как и другие старые ограничения свободы договорных отношений, как меры борьбы с ростовщичеством, в частности lex Anastasiana и т. п., строились проще: раз наступают известные общие предположения, механически разрешается и вопрос о последствиях. Новые законодательства ставят вопрос тоньше, они стремятся к индивидуализации каждого случая. С этой стороны наша статья всего ближе к § 138 ч. 2 Герм. уложения. ——————————— <62> Ср.: Герм. ул. 138, 343; Шв. об. пр. 21, 163. <63> Германская практика по применению аналогичного § 138 B. G.B. держится такого взгляда, что не требуется особого намерения использовать бедственное положение контрагента, достаточно сознания, что такое положение имеет место (Oertmann. Kommentar, Allgem. Teil. S. 433). <64> Кн. V. Т. I. Стр. 81.
Проектируемая норма вызвала особенно энергичные возражения со стороны проф. И. А. Покровского <65>. Квинтэссенция этих возражений сводится к тому, что введение проектируемой статьи обозначало бы возложение на судью обязанности контролировать, опекать гражданский оборот, разграничивать случаи применения закона спроса и предложения, нормальной борьбы интересов, конкуренции и случаи недозволенной эксплуатации. Эта задача, перелагаемая законодателем с себя на плечи судьи, неразрешима и для последнего: критерий недозволенной эксплуатации не отличается определенностью. Покровский приводит ряд примеров в подтверждение своей мысли. Некто находит у букиниста интересующую его книгу; он знает, что эта книга — библиографическая редкость, что ей цена 15 — 20 руб.; если, однако, букинист просит за нее только 1 руб., вправе он купить книгу за эту цену? С другой стороны, если это лицо от покупки откажется, книга, быть может, проваляется долгое время у букиниста и в конце концов будет продана в мелочную лавочку на фунты всего за 15 — 20 коп. Во время снежных заносов полотна железной дороги нужна экстренная работа крестьян прилегающей деревни. Понимая положение, крестьяне запрашивают по 5 руб. в день на человека; дорога соглашается; может она потом сослаться на ст. 31? И др. Покровский указывает, что в жизни, где все покоится на принципе конкуренции, спроса и предложения, где всякий спешит воспользоваться своим благоприятным положением по сравнению с другим, достигнуть наибольших выгод с наименьшими затратами, трудно разграничить случаи эксплуатации дозволенной (действия закона спроса и предложения) от недозволенной (злоупотребления нуждой); критерий ст. 31, по его мнению, не помогает: везде нужда, везде ею пользуются. Остается один выход: признать эксплуатацию незаконной, когда она выходит за пределы обыкновенного уровня, но тогда критерий субъективный превращается в объективный (недаром перед составителями объяснительной записки проносится идея laesio enormis). Пользу от ст. 31 Покровский считает проблематичной, а между тем она должна быть куплена дорогой ценой — превращением судьи в общего контролера гражданского оборота, следящего за справедливостью, за нормальностью цен и пр. Закон спроса и предложения должен получить себе в лице судьи справедливого регулятора; в случае принятия ст. 31 продавать, покупать и т. п. можно будет не по свободному соглашению сторон, а по справедливым ценам, тариф которых исключительно в сердце судьи. ——————————— <65> См.: Покровский И. А. Справедливость, усмотрение судьи и судебная опека // Вестн. гр. права. 1899. N 10. Стр. 59 — 88.
Таким образом, наряду с сомнением, вернее, отрицанием возможности, осуществимости для судьи возлагаемой ст. 31 задачи выступает сомнение и в желательности подобного стеснения частной автономии. Остановимся сначала на первой точке зрения. Мы не можем в данном случае согласиться с мнением проф. И. А. Покровского и полагаем, что сочетание объективного и субъективного признаков в качестве необходимых предположений применения проектируемого правила дает в руки судьи достаточно надежные указания для его практической деятельности. Разумеется, в конечном итоге вопрос сводится к степени доверия к суду: при известной мере пессимизма в этом направлении замечания проф. Покровского должны быть приняты к сведению и исполнению без всяких оговорок и колебаний. Но позволительно задуматься: есть ли в действительности основание для такого пессимизма, по крайней мере в отношении нормальных судебных органов? <66> И разве нельзя подыскать примеров, когда в силу ли прямого указания закона или ввиду его молчания судья пользуется и теперь достаточно широкой свободой усмотрения, так что для особенных опасений по поводу еще нового случая проявления доверия к суду оснований нет? ——————————— <66> Профессор Покровский заканчивает одну из своих статей (Юрид. сделки в проекте Гр. ул. // Вестн. гр. права. 1904. Кн. 1) словами: «приняли ли… авторы проекта во внимание всю совокупность реальных условий нашей жизни, задались ли они, по крайней мере, вопросом: а судьи кто?» — и в качестве примера ссылается на условия назначения и действия земских начальников. Нам кажется, уже один тот факт, что земский начальник не есть судья в подлинном смысле, а представляет орган административный с судебными функциями, не позволяет на основании практики этих должностных лиц делать какие-либо общие выводы о деятельности гражданского суда.
Припомним яркие примеры, приводимые Покровским. Покупка библиографической редкости у букиниста за ничтожную плату (возможно, конечно, и обратное положение: ввиду редкости вещи продавец назначает несоразмерно высокую цену): может ли какой-нибудь судья усмотреть здесь пользование чужой нуждой или несчастьем? Едва ли подойдут под действие ст. 31 и те случаи, когда люди пользуются такими «затруднениями», как необходимость для железной дороги расчистить снежные заносы и т. п.: нужду и несчастье надо понимать в точном и узком смысле <67>. Так, взгляд судьи на дело будет, вероятно, иной, если, например, вдова, оставшаяся без средств и вынужденная из большой квартиры переехать в маленькую комнату, станет распродавать вещи, а любители легкой наживы прижмут ее, зная, что ей необходимо продать, за сколько бы ни пришлось. Наибольшая осторожность потребуется от судьи, если взять примеры с поднятием цен на номера, за проезд и т. п.; в большинстве случаев по самому характеру подобного рода отношений, возникающих обычно между лицами, неизвестными друг другу, окажется больше оснований усмотреть здесь простое действие закона спроса и предложения, тем более что в этой области остается возможность иного способа помочь делу, путем установления такс и т. п. мер. ——————————— <67> Ср.: Dernburg. Das burg. R. I (1906). § 127.
Различие задач, которые стоят перед законодателем и перед судьей, различие функций, исполняемых тем и другим, делают вполне естественным, что в законе по этому вопросу содержатся лишь некоторые общие, более или менее расплывчатые и неопределенные указания (удачные или нет — отдельный вопрос), а оценка конкретной обстановки всецело возлагается на судью. Умудренный опытом, чуткий к запросам жизни судья сумеет разобраться в индивидуальных обстоятельствах каждого случая, напр. оценить разные побочные последствия, с которыми связана для должника сделка и которые, быть может, отягчают или, наоборот, облегчают его положение; учтет риск, с которым связывается сделка для верителя, примет во внимание социально-экономическое положение сторон <68> и из совокупности всех этих данных составит более или менее ясную картину. В западных кодексах аналогичные нормы вошли в жизнь и, по-видимому, свою роль исполняют в ней с успехом, по крайней мере о каких-либо значительных препятствиях для здоровой судебной деятельности не слышно. Едва ли в этом вопросе национальные и местные особенности способны сделать совершенно неприменимыми для нас выводы и итоги чужеземной практики. Нет, кажется, достаточных оснований, по которым к русскому судье следовало бы относиться с меньшим доверием, чем к его иностранным коллегам. ——————————— <68> Ср.: приводимый Покровским пример займа денег под 100% миллионером, временно оказавшимся в затруднительном положении, и т. п.
Но, быть может, введение проектируемого правила связано с такими вредными, неблагоприятными для оборота последствиями, что его все-таки надо признать нежелательным? Может быть — если возвратиться хотя бы к приведенному нами примеру с бедной вдовой — следует задуматься над вопросом: выгодно ли для этой вдовы попечение о ней закона? Оберегая ее от убыточной продажи, не оставит ли оно ее вовсе без денег, не приведет ли к тому, что ей некому будет продать вещи даже за бесценок? Конечно, этот вопрос не праздный. Излишние стеснения оборота нежелательны и могут обессилить лучшие намерения законодателя, может явиться, по выражению Петражицкого <69>, психическое трение, сказывающееся в разных страхах, сомнениях и подозрениях относительно успеха сделки. Требуется в этих вопросах большая осторожность. Именно это соображение и привело к тому, что новейшие законодательства уже не знают таких институтов, как laesio enormis или lex Anastasiana <70>. Напротив, соединением критериев объективного и субъективного (отнюдь не покрывающих один другой) достигается устранение излишних стеснений оборота. Сопоставление этих двух моментов и в ст. 31 проекта внушает уверенность, что вмешательство судьи в содержание договорных соглашений будет иметь место лишь в действительно вопиющих случаях и, во всяком случае, позволяет не опасаться, что положение человека нуждающегося или зависимого при наличности проектируемой статьи окажется хуже, чем теперь; напротив, можно быть уверенным, что во многих случаях критикуемая статья принесет положительную пользу. Мы вполне разделяем приведенное Редакционной комиссией <71> соображение, что опасение насчет ослабления договоров проектируемой статьей «едва ли возможно признать основательным», что следует больше опасаться недобросовестности, чем борьбы против нее. Это мнение редакторов проекта встретило сочувствие и среди тех лиц — в частности, юристов-практиков, — которые представляли свои замечания на проект кн. V. В ряде замечаний подтверждается, что необходимость бороться с недобросовестностью при заключении сделок посредством более эластичных правил, расширяющих усмотрение суда, выяснилась и в русском законодательстве <72>. ——————————— <69> Bona fides в Гр. пр. 2-е изд. 308. Ср.: Oertmann. Yortrage (Die volkswirtsch. Bedeutung des B. G.B.). 84. Pr. 5. <70> Впрочем, есть защитники и этих норм (Hartmann. Arch, f. civ. Prax., Bd. 73. 354 — 355). Ср.: Мотивы проекта Новеллы к Австр. гражд. ул. 1912 г. (Arch. f. burg. R., 1913. 184). Из действующих кодексов сохраняет институт laesio enormis (и то в исключительных лишь случаях: при разделе, продаже недвижимости, а также в пользу некоторых лиц, пользующихся льготным отношением со стороны законодателя, каковы, напр., несовершеннолетние (Code civil, art. 887, 1118, 1674 и др.; Baudry-Lacantinerie. Traite. 137 sqq. (Planiol. Traite. I. N 284, 1586 и сл.). <71> См.: Проект 1899 г. Кн. V. Т. I. Стр. 81. <72> См.: Свод замеч. на проект. Кн. V. N 151 — 159. Ср.: Полож. общие. Кн. I (1903). Стр. 197, также Объясн. зап. Мин. юст. Изд. Сорина. Вып. 2. Стр. 17.
Помимо рассмотренных выше сомнений относительно ст. 31 с принципиальной точки зрения проф. Покровский в той же работе отрицает также и практичность этой нормы. Он полагает, что с ростовщичеством и аналогичными ему явлениями бороться средствами гражданского права нельзя: причина в общих условиях кредита для лиц несостоятельных, не имеющих возможности дать кредитору надлежащего обеспечения. Профессор Покровский ищет другого выхода и усматривает его в ограничении взысканий, в применении ко всякому должнику beneficium competentiae: за каждым человеком должен быть сохранен минимум средств, необходимых для его существования. Это предложение, весьма симпатичное в принципе и вполне осуществимое практически, думается, не исключает надобности в рассматриваемой норме: beneficium competentiae имеет целью предоставить лишь известный минимум, до которого, следовательно, хищнические приемы контрагента могут применяться в полной мере. Принцип доброй совести такого положения не терпит. Предлагаемая Покровским мера представляется нам скорее подсобной, на случай тех непредотвратимых положений, когда неопределенность индивидуальной обстановки не даст судье возможности помочь обиженному иным способом. Таким образом, возлагаемая проектируемой статьей на судью роль должна быть признана, по нашему мнению, неопасной с принципиальной стороны, осуществимой и небесплодной — с практической. Необходимы, однако, существенные поправки к этой статье. Прежде всего нельзя упускать из виду, что кн. V будущего Гражданского уложения должна объединить право гражданское с торговым; спрашивается: можно ли признать рациональным правило ст. 31 также и для сделок торговых? На этот вопрос мы отвечаем так: только в том случае, если сделка для обеих сторон носит торговый характер, заключается в связи с их торговой деятельностью, указанное правило применяться не должно. Что касается сделок, носящих торговый характер только для одной стороны, то их следовало бы данной статье подчинить в уверенности, что судья сумеет ею воспользоваться в разумных границах. Другая поправка к ст. 31 вытекает из меткого замечания И. А. Покровского, что эта статья бьет значительно дальше цели. По смыслу ст. 31 (равно как и ст. 32) для заключившего чрезмерно невыгодный договор открывается лишь один выход — оспаривание договора, просьба об уничтожении его силы. Но заинтересованное лицо во многих случаях может желать иного: оно предпочитает, чтобы договор был сохранен, но обязанность этого лица была соответственно уменьшена. Например, находясь в крайности, лицо заплатило за нужную вещь слишком дорого; требовать уничтожения договора и возвращать вещь лицо не желает, оно желало бы только справедливого понижения цены. Нельзя не согласиться с проф. Покровским относительно желательности предоставления судье права в случае соответствующей просьбы потерпевшего сохранять договор в силе, но понижать размер обязанности, принятой на себя потерпевшим. Возникает вопрос: можно ли также предоставить потерпевшему просить о справедливом увеличении обязанности, принятой на себя другой стороной (эксплуататором)? Например, вещь продана за бесценок, продавец просит доплаты. Русское право знает специальную норму такого содержания: если скупщик приобрел у крестьян хлеб (на корню, снопами или зерном) по несоразмерно низкой цене, воспользовавшись заведомо тяжелым положением продавцов, то последним Закон 18 июня 1892 г. дает право требовать доплаты до действительной стоимости проданного хлеба <73>. Быть может, осторожнее будет ограничиться и впредь такой специальной нормой, не обобщая ее в будущем уложении: хотя между понижением обязанности эксплуатируемого, с одной стороны, и повышением обязанности эксплуататора — с другой, принципиальной разницы и нет, так как в обоих случаях дело идет о пресечении возможности воспользоваться ростовщическими комбинациями, однако во втором случае для достижения этой цели берется более сильное средство; является опасение, что предоставление этого средства действительно могло бы отразиться вредно на обороте. ——————————— <73> См.: Синайский. II. 111.
Суммируя сделанные замечания, приходим к выводу, что ст. 31 могла бы быть редактирована приблизительно так: «В тех случаях, когда кто-либо, злоупотребляя принадлежащею ему властью или оказываемым ему доверием либо пользуясь нуждою или несчастьем другого, заключит с ним чрезмерно невыгодный для него договор, потерпевшему предоставляется просить суд или о признании договора недействительным, или об уменьшении размера принятой им на себя обязанности. Означенное правило не применяется к сделкам, имеющим для обеих сторон торговый характер». Вводя в проект рассмотренную ст. 31, составители не отказываются и от старых приемов борьбы с ростовщичеством: так, ст. 380 (повторяющая ст. 2023 т. X, ч. 1) борется с чрезмерным ростом, предоставляя заемщику, обязавшемуся платить свыше 6% на занятый капитал, через шесть месяцев возвратить капитал (с обязанностью предупреждения о том заимодавца не менее как за три месяца); ст. 382 воспроизводит правило о недопустимости анатоцизма; при этом согласно ст. 104 проекта эти правила имеют применение не только при займе, но и при всяких соглашениях о процентах. Статья 70 проекта гласит: «Если в договоре назначена неустойка в очевидно преувеличенном размере или если неустойка представляется чрезмерною ввиду неисполнения должником обязательства лишь в незначительной части, то суд может по просьбе должника уменьшить размер неустойки, но обязан при этом принять в соображение не только имущественные, но и другие справедливые интересы верителя». Право судьи понижать размер договорной неустойки может быть признано в общем продуктом нового времени. Римское право знало лишь одно ограничение размера неустойки, а именно чтобы неустойка не могла служить средством обхода норм о ростовщичестве <74>. В новых законодательствах за судьей признается право понижать неустойку. Но тут надо разграничивать две категории. С одной стороны стоит Code civ. 1231: La peine peut etre modifiee par le juge lorsque l’obligation principale a ete executee en partie (аналогична ст. 1214 Итал. гр. ул.). Таким образом, по французскому закону судья имеет право понизить размер неустойки лишь в том случае, если главное обязательство частично исполнено. Составители Кодекса приводили разные соображения в пользу этого исключения из общего правила: случай, когда исполнение последовало частичное, должен рассматриваться как не предусмотренный сторонами; уравнение должника, ничего не сделавшего для исполнения обязательства, со сделавшим нечто, хотя и не все (предполагая, конечно, что частичное исполнение известный интерес для верителя представляет), несправедливо <75>. Другие кодификации идут дальше и признают за судом вообще право понижать размер выговоренной по договору неустойки независимо от частичного исполнения. Такое право впервые признано Австр. гр. улож., § 1336, п. 3: если должник докажет чрезмерность неустойки, она уменьшается судом, во всяком случае по выслушании заключения сведущих людей. Герм. улож., а равно Швейц. обяз. право содержат еще более категорические указания. § 343 Герм. улож.: если подлежащая уплате неустойка несоразмерно велика, то по просьбе должника она может быть уменьшена до соответствующих размеров судебным решением. При обсуждении надлежащего размера принимается во внимание не только имущественный, но и всякий иной интерес кредитора. После уплаты неустойки уменьшение ее исключается. Шв. об. пр., 163, абз. 3: чрезмерно высокую договорную неустойку судья может уменьшить по своему усмотрению. Действующее русское право подобной нормы не содержит <76>. Любопытно, что в нашем прошлом известны случаи понижения судом договорной неустойки. Владимирский-Буданов по этому поводу замечает: «На практике суд, по собственному усмотрению, уменьшал размер неустойки даже тогда, когда она условлена в определенной сумме. Так, крестьяне условились с монастырем об уступке спорной земли и обеспечили ее неустойкой в 50 р. Суд признал невозможным действительно взыскать такую громадную, по тогдашнему, сумму для бедной деревни: «А в заставе по записи в пятидесят рублех Климецкого монастыря служке отказано для того, что деньги неданые (условлены не для того, чтобы их, в самом деле, отдавать), погост бы от того пуст не был» <77>. ——————————— <74> См.: Пергамент. Договорн. неустойка. 2-е изд. 256 сл. Реш. Сен. 1893 г. N 108: периодическая неустойка, определяемая в процентах на сумму неоплаченного в срок по договору займа роста, условленного за пользование капиталом, не может быть назначаема в размере, превышающем узаконенный рост (Синайский. II. 47). <75> См.: Пергамент. Указ. соч. 259. <76> В т. X есть лишь специальное ограничение суммы договорной неустойки в силу самого закона (а не по усмотрению суда) для губерний Черниговской и Полтавской, ст. 1584. По этому поводу см.: Пергамент. Указ. соч. 257. Пр. 1. Некоторые аналогичные нормы торгового права (вычеты за прогулы и неисправности по договорам фабрикантов с рабочими, неустойка по договору найма корабля под груз) приведены в объяснениях к проекту 1899 г. (Т. I. Стр. 145). <77> Ак. Ф. Чех. I. N 86; Владимирский-Буданов. Обзор истории рус. права. 2-е изд. Стр. 497 — 498.
Вводя в проект норму о праве суда понижать неустойку, редакторы уложения в объяснениях так мотивировали это новшество <78>: «Ввиду того, что предоставление сторонам полной свободы в назначении размеров неустойки вызывает на практике многие злоупотребления: что установление какого-либо определенного размера неустойки вследствие разнообразия отношений участвующих в договоре лиц и трудности привести в соответствие размер неустойки с могущими быть причиненными верителю убытками представляется невозможным, — признается за лучшее предоставить право уменьшать размер неустойки суду, который ввиду всей совокупности обстоятельств дела имеет полную возможность урегулировать отношения сторон по предмету неустойки на справедливых основаниях». ——————————— <78> Кн. V. Т. I. Стр. 146.
В литературе имеются мнения авторитетных юристов, предостерегающие от принятия ст. 70. Так, сомнения в целесообразности этой нормы были выражены проф. Пергаментом <79>. Признавая, что в ее основе лежит начало гуманное и бесспорно симпатичное, и не задаваясь, с другой стороны, целью сгруппировать доводы pro и contra, проф. Пергамент отмечает лишь, что в данном случае перед нами не чрезвычайно смелый опыт, мера не только оригинальная, но и гадательная по своим результатам. ——————————— <79> См.: Пергамент. Договорная неустойка. 298 сл.; его же статья в «Вестн. гр. права» за 1900 г. N 24.
Если общий тон возражений Пергамента позволяет назвать его критику довольно мягкой и скорее видеть в ней сомнения в пригодности проектируемой нормы, чем прямое утверждение непригодности ее, то другой авторитетный цивилист — И. А. Покровский <80> решительно отвергает эту норму. Сущность его доводов сводится к следующему. Стороны при наличности такой нормы, устанавливая неустойку, не могут быть уверены в том, сохранит ли она свое значение в тот момент, когда дело дойдет до суда. Лицо, добиваясь обеспечения незначительного по содержанию договора крупной неустойкой, имеет в виду, быть может, очень важные для него лично интересы, осуществление которых зависит от исправного исполнения основного обязательства. Между тем эта цель — обеспечить исправность исполнения — при действии ст. 70 может оказаться недостижимой: в случае неаккуратности должника взыскание с него условленной суммы может встретить препятствия в слишком значительном по сравнению с суммой основного обязательства размере неустойки. Правда, ст. 70 рекомендует суду при оценке соразмерности принимать во внимание не одни имущественные, но и другие справедливые интересы верителя, однако, замечает Покровский, при таком положении назначение неустойки утрачивает смысл: оценку неимущественного интереса по усмотрению суда проект знает и помимо соглашения <81>. Покровский считает, что составители проекта, приняв § 343 B. G.B., упустили из виду, что в Герм. уложении неимущественный вред вознаграждается лишь в особых случаях, там есть смысл в неустойке и при наличности § 343, так как она дает возможность ограждать неимущественные интересы. В отношении нашего проекта, по мнению Покровского, представляется дилемма: или вычеркнуть неустойку из числа особенных явлений гражданского оборота, или отменить право суда на понижение неустойки <82>. ——————————— <80> В цит. ст. Вестн. гр. права. 1899. N 10. <81> Проект 1913 г. Ст. 130. <82> Относительно права суда понижать размер неустойки, если обязательство не исполнено только в части, не возражают в принципе ни Пергамент, ни Покровский.
Приведенные возражения — при той редакции ст. 70, какую она имеет в проекте <83>, — надо признать весьма вескими. Действительно, получается в данном случае не только попечение о слабом, ограничение с точки зрения доброй совести чрезмерного проявления эгоистических тенденций, речь идет об известной таксировке, об объективном соответствии размера неустойки содержанию основного обязательства. В отличие от ст. 31 данная статья не касается субъективного момента, заведомой эксплуатации кредитором должника. В ней выдвинута только объективная чрезмерность, преувеличенность неустойки по сравнению с ценностью обязательства и с действительным интересом верителя. Такая постановка вопроса и нам представляется неприемлемой <84>. Однако выход из положения не исчерпывается той дилеммой, какую ставит проф. Покровский. Возможно еще третье решение: внесение в ст. 70 наряду с объективным признаком также субъективного элемента, как это имеет место в ст. 31, т. е. в задачу нашей нормы должно входить не стеснение сторон какими-то неустоечными таксами, а борьба с эксплуатацией нужды, несчастья, зависимости. При такой поправке отпадают возражения, относящиеся специально к значению неустойки, и вопрос ставится совершенно так же, как и по поводу ст. 31, вследствие чего основные замечания относительно этой последней статьи оказываются применимыми и к ст. 70. ——————————— <83> По сравнению со ст. 63 кн. V проекта 1899 г. никаких изменений не внесено. <84> Указания иностранного законодательства и практики в данной области не так соблазнительны, как по вопросу о ст. 31, вследствие отмеченной проф. Покровским причины — отсутствия в германском (а также швейцарском) праве общей нормы о возмещении нематериального интереса; получается, что соответствующие статьи названных кодексов обслуживают еще иную цель.
Может, однако, возникнуть вопрос: нужна ли при таких условиях ст. 70, не достаточно ли для достижения указанной цели одной ст. 31? <85> Нам думается, что, несмотря на несомненную идейную близость обеих норм, признать ст. 70 проекта при наличности ст. 31 излишней нельзя. Статья 31 имеет в виду соотношение между предоставлением одной стороны и контрпредоставлением другой, она стремится предупредить такие случаи, когда на почве заведомого использования бедственного положения лица навязывают ему чрезмерно невыгодные условия сделки. Обязательство уплатить на случай неисполнения договора неустойку в таком-то размере не есть контрпредоставление, и хотя тут также может быть налицо чрезмерная невыгодность соглашения для одной из сторон, но проистекающая не из основного содержания договора (найма, подряда и др.), по которому обязанности сторон могут оказаться в строгом соответствии с общепринятыми воззрениями, а из присоединенного к нему побочного соглашения. Во избежание возможных недоразумений целесообразнее установить для неустойки отдельную норму. ——————————— <85> Этот вопрос ставился противниками предоставления суду права понижать размер договорной неустойки в Германии (см., напр., доклады Koffka и Simon 20-му Съезду герман. юристов. Verhandlungen des zwanzigsten Deutschen Juristentages. II. 1889. 3 — 45).
Представляется правильным и в данном случае сделать изъятие для сделок торговых <86>, на которых всякие стеснения договорной свободы отражаются особенно болезненно (уменьшение неустойки ввиду неисполнения обязательства лишь в незначительной части может иметь место и при торговых сделках). ——————————— <86> Эта поправка была предложена еще М. Я. Пергаментом (Вестн. гр. права. 1900. N 24), ссылавшимся на пример Герм. торг. улож., 1897, § 348. Ср.: Мнение, выраженное в прениях по поводу цитированных докладов Koffka и Simon (Verhandl. IV. 60 — 82), что следует и в Торговое уложение ввести норму, предоставляющую суду право понижать размер неустойки.
В результате ст. 70 проекта могла бы быть изложена примерно так: «Если кто-либо, злоупотребляя принадлежащею ему властью или оказываемым ему доверием либо пользуясь нуждою или несчастьем другого, заключит соглашение о неустойке в очевидно преувеличенном размере или если назначенная неустойка представляется чрезмерною ввиду неисполнения должником обязательства лишь в незначительной части, то суд может, по просьбе должника, уменьшить размер неустойки, причем в последнем случае обязан принять в соображение не только имущественные, но и другие справедливые интересы верителя. Неустойка, назначенная в сделке, имеющей для обеих сторон торговый характер, может быть понижена судом только в последнем из указанных случаев». Наряду с рассмотренными главными случаями ограничения договорной свободы можно отметить еще некоторые, менее значительные примеры, когда добрая совесть полагает по проекту предел свободного определения личности. Такова ст. 470, воспрещающая торговому служащему вести от своего имени, без согласия нанимателя, самостоятельную торговлю, однородную с той, какую ведет наниматель, или заключать отдельные сделки, относящиеся к тому же роду торговли, как за свой счет, так и за счет третьих лиц. В этом постановлении выражается идея борьбы с недобросовестной конкуренцией: состоя на службе у известного лица, зная положение его дела, будучи знаком с его покупателями и клиентами, торговый служащий не может с точки зрения доброй совести преследовать свои интересы во вред хозяину посредством открытия однородной с ним торговли <87>. Сходная идея лежит в основе ст. 728, 854, 685. ——————————— <87> Ср.: Также ниже § 6.
§ 4. Толкование договоров
По вопросу о толковании договоров т. X, ч. 1, в ст. 1538 — 1539 определяет, что «договоры должны быть изъясняемы по словесному их смыслу», а если словесный смысл представляет важные сомнения, то «по намерению их (договоров) и доброй совести». Проект в ст. 72 устраняет устаревшее различие двух случаев (представляет ли словесный смысл договора важные сомнения или нет) и дает общее положение: договоры должны быть изъясняемы по точному их смыслу, по доброй совести и намерению лиц, их заключающих. В другом месте <88> нам приходилось касаться этой статьи и отмечать ее отличие от первоисточника — § 157 Герм. улож. В то время как § 157 Герм. улож. вводит два критерия — принцип доброй совести и обычаи гражданского оборота, наш проект сохраняет лишь один — добрую совесть. Таким образом, принцип доброй совести оказывается единственным вспомогательным началом, вносящим в толкование необходимую объективность. В литературе было обращено внимание на то, что сопоставление в одной статье указаний на точный смысл договора и намерение сторон создаст затруднения при применении этой статьи <89>. Объяснительная записка к соответствующей ст. 65 проекта 1899 г. <90> отмечает, что эта статья заимствована из ст. 1536 и 1539 т. X, ч. 1, причем произведены некоторые редакционные изменения, между прочим, под влиянием Французского уложения. По этому поводу М. Винавером правильно указывалось, что такое соединение и породило неясности: т. X отдает предпочтение словесному смыслу, поскольку он не представляет важных сомнений; Французское уложение, наоборот, главное значение придает намерению сторон. В проекте рядом поставлены оба момента, а потому в случае расхождения точного смысла с намерением сторон у судьи могут явиться сомнения относительно того, чему отдать предпочтение. ——————————— <88> Вестн. гражд. права. 1915. N 1. Стр. 58 сл. <89> См.: Винавер М. Общая часть обяз. пр. в проекте улож. // Из области цивилистики. 203 — 204. <90> Кн. V. Т. I. Стр. 151.
В учении о юридической сделке вообще составители проекта оставили в стороне целый ряд очень важных и спорных вопросов, группирующихся вокруг общей темы о значении воли и ее внешнего изъявления, различно освещаемых с точки зрения разных теорий <91>. Этот пробел проекта не может, конечно, считаться неважным или возмещенным одной ссылкой ст. 72 на толкование «по доброй совести», тем более что вопрос о толковании юридических сделок, с одной стороны, о значении воли и ее изъявления — с другой, имеют самостоятельный, не совпадающий между собой смысл <92>. Но все-таки упоминание ст. 72 о доброй совести должно дать в трудных для судьи случаях некоторый выход. Из сущности доброй совести следует, что если даже стороны в конкретном примере не знакомы с обычными воззрениями по тому или иному вопросу, они считаются с наличностью этих воззрений и, не вводя в сделку каких-либо своеобразных определений, им подчиняются <93>. Такая точка зрения властно диктуется практическими потребностями. По правильному замечанию Holder <94>, волеизъявление как явление оборота не может иметь последствий, не совместимых с организованным оборотом. Применяя эту точку зрения к толкованию договоров — о каких бы способах изъявления воли: слове, письме, молчании, конклюдентных действиях и пр. ни шла речь, — приходим к таким выводам. При толковании договоров отыскивается их точный смысл, т. е. тот смысл, какой, руководствуясь общими законами языка и общепринятыми воззрениями (не личным взглядом употребившего известное выражение), нужно связать с употребленными выражениями. Раз нет указаний на то, что в данном случае выражению придавалось не общепринятое значение, а какое-то иное, принимается во внимание первое <95>. Если лицо, употребляя известное выражение, связывало с ним не общепринятый, а некоторый своеобразный смысл, а другая сторона этого своеобразия понять не могла (особенно если существовавшие прежде деловые отношения между данными лицами подкрепляли это понимание контрагента, <96> причем последнее обстоятельство не укрылось от сделавшего изъявление, то добрая совесть требует, чтобы изъявитель воли раскрыл недоразумение; если он этого не делает, он не может впоследствии настаивать, чтобы толкование его изъявления опиралось на его истинное намерение: это было бы несогласно с толкованием по доброй совести. Но даже если изъявитель сам и не заметил, что контрагент его не понимает, толкование должно исходить из той же точки зрения: решается объективно вопрос о распознаваемости вложенного в выражение своеобразного смысла, и если оказывается, что понять этот смысл другая сторона не могла, добрая совесть требует толкования по общепринятым взглядам. Наоборот, если лицо, употребившее известное выражение, связывало с ним не общепринятый, а некоторый своеобразный смысл и другой стороне этот смысл был (или должен был быть) известен, изъяснение по общим законам языка не может иметь места: начало доброй совести требует придать выражению это своеобразное значение <97>. Добрая совесть не терпит, чтобы лицо сознательно выдавало перед другими определенную волю за свою, а потом само противилось тому, чтобы она считалась его волей. С другой стороны, контрагент, который знал (или должен был знать), о чем идет речь, не должен иметь права в таких случаях настаивать на общепринятом смысле употребленных выражений. Аналогичным образом проявляется принцип доброй совести и при иных способах выражения воли. Когда, напр., с молчанием (или с т. н. facta concludentia) связывают известные последствия, невыгодные для молчавшего, этим не имеют в виду его наказать, а только защитить того, кто доверился изъявлению. В результате применения этой точки зрения бывает, что то, чего данное лицо вовсе не желало, признается как бы желаемым, ибо иное предположение было бы противно доброй совести. Против крайностей этой точки зрения и одностороннего применения принципа доброй совести дается предохранительный клапан в виде норм о заблуждении при заключении сделок, которые предоставляют известный выход изъявителю воли, в тех случаях, когда приданный толкованием смысл изъявления не соответствует истинным намерениям лица. ——————————— <91> См.: Покровский. Юрид. сделки в проекте Гр. ул. // Вестн. гр. права. 1904. N 1. Стр. 87. Краткую сводку различных нюансов теории воли и теории изъявления см. у Oertmann. Komm., Allg. Teil. 344 — 345; Enneccerus. I. § 155. Своеобразное и едва ли правильное значение придает теории оборота Синайский (II, 37): что теория оборота должна иметь место в той, между прочим, форме, что судья в известных случаях, толкуя договор, может быть выше автономной воли сторон. <92> Titze. Lehre vom Missverstandniss. 88. N. 8. <93> Ср.: Hartmann. Werk u. Wille bei stillschw. Konsens, Arch. f. civ. Prax., Bd. 72, 1887. 213, 215. <94> Iher. Iahrb., Bd. 58, 111. С другой стороны, ср. Henle. Vorstellungs — und Willenstheorie. 1910; в ссылке на добрую совесть, масштабы жизни и обычаи оборота автор усматривает ссылку на сверхправо, которое все больше и больше угрожает погасить всякое уважение к ненарушимости положительного права; если бы это сверхправо получило господство, оно привело бы к хаосу произвола (op. cit., 140). <95> Danz. Laienverstand u. Rechtsprechung, Iher. Iahrb., Bd. 38 (1898). 427. <96> Ср.: Проект. 75. <97> Ср.: Schneider. Тreu u. Glauben. 107. Hartmann. Iher. Iahrb. XX. 41, 43.
Таковы простейшие положения, вытекающие из толкования договоров по доброй совести. Нельзя, однако, не признать, что простое сопоставление в одной статье указаний на точный смысл договора, намерение сторон и на принцип доброй совести вносит неопределенность и путаницу <98>. Казалось бы, было целесообразнее, если бы в проекте, с одной стороны, было прямо подчеркнуто, что при толковании не следует придерживаться одного буквального смысла договора, но входить в рассмотрение намерений сторон, а с другой — было бы указано, что при этом должны приниматься во внимание требования доброй совести и обычаи гражданского оборота. Этот последний критерий, как отмечено выше, отсутствует в ст. 72. Небезынтересным представляется привести по этому поводу на справку, что при обсуждении § 157 Герм. улож. было внесено при втором чтении предложение опустить ссылку на обычаи гражданского оборота. Это предложение основывалось на том, что указание в качестве руководящих начал рядом правил доброй совести и обычаев гражданского оборота представляется неподходящим ввиду того, что значение обоих масштабов неодинаково: положение, что в качестве содержания договора должно приниматься то, что соответствует требованиям доброй совести, есть абсолютное предписание, обычаи же оборота принимаются во внимание только при условии, что стороны не дали иных указаний. В Комиссии против этой мотивировки было сделано возражение, что сопоставление обоих названных масштабов не обозначает вовсе их отождествления или уравнения, и предложение (об исключении ссылки на обычаи гражданского оборота) не было принято <99>. Однако сопоставление доброй совести и обычаев гражданского оборота все-таки вызвало возражения в литературе. Так, Штаммлер <100> признал ссылку на обычаи оборота, с одной стороны, излишней, с другой — неуместной: отсылка к доброй совести, говорит Штаммлер, означает формальное направление, в котором должно идти суждение, обычаи же оборота представляют из себя один из многих моментов, помогающих нам добыть подлежащий суждению материал казуса. Штаммлеру возражал Штейнбах, опираясь главным образом на приведенную выше историю закона; обычаи гражданского оборота в соответствии с обстоятельствами каждого случая и природой сделки помогают определить степень доброй совести, какую надлежит требовать в данном отношении от сторон <101>. ——————————— <98> См.: Синайский. I. 138; II. 38. Пр. 1. <99> Steinbach. Treu u. Glauben. 13 — 14. <100> D. Recht der Schuldverh. 46 — 47; Lehre von dem richt. Recht, 333. <101> Steinbach. Op. cit. 13. Ср.: Oertmann. Rechtsordnung u. Verkehrssitte. 345.
В общем, можно признать этот последний взгляд, что сопоставление с доброй совестью обычаев гражданского оборота желательно и целесообразно, господствующим в литературе. Ниже мы увидим, что в главе об исполнении договоров и составители нашего проекта не встретили затруднений для того, чтобы сопоставить оба названных критерия рядом; очевидно, что не могло быть серьезных препятствий сделать то же и в вопросе о толковании договоров. Может явиться сомнение в необходимости ссылки на обычаи оборота ввиду того, что обращение к ним все равно неизбежно по существу понятия доброй совести: отсутствие ссылки на обычаи оборота, могут заметить, малочувствительно, ибо очевидно, что нельзя при толковании смысла сделки и отдельных выражений исходить из субъективных представлений об их значении лица, употребившего их; необходимо исходить из того, как «все» понимают известное поведение лица, как его оценивает оборот. Особенно ясно выражена эта идея Данцем <102>: так как каждый вправе понимать противника (его слова, молчание и другие способы изъявления воли) в обычном в обороте смысле, раз не указано иного смысла, то это доверие было бы обмануто, т. е. нарушен был бы принцип доброй совести, если бы поведение стали истолковывать как-нибудь иначе. Однако эти замечания не доказывают ненужности ссылки на обычаи гражданского оборота; напротив, можно согласиться с Эндеманом <103>, что обычаи оборота, с одной стороны, могут способствовать приспособлению нравственных воззрений к фактической практике оборота, а с другой — дополнять собою критерий доброй совести в тех случаях, где дело идет о морально безразличных навыках. Рядом с этим нельзя не считаться и с тем обстоятельством, что определения принципа доброй совести закон не будет содержать, поэтому даже с точки зрения уяснения содержания принципа доброй совести желательно прямое упоминание обычаев гражданского оборота. Упоминание этого второго критерия рядом с первым придаст понятию доброй совести более конкретное значение, поставит его в связь с особенностями жизненной практики данного класса населения, данной местности и пр. <104>. Преобладающее значение при этом должен, конечно, иметь принцип доброй совести, его нужно назвать на первом месте. ——————————— <102> Auslegung der Rechtsgesch. 3-е изд. 92. Ср.: Сближение понятий доброй совести и обычаев оборота у Hartmann. Iher. Iahrb. XX. 36. <103> Endemann. I. § 100. <104> Ср. Laband. Zum zweiten Buch des Entw. eines B. G.B. Arch. f. civ. Pr., Bd. 73, 163.
Стороны вольны своим соглашением устранить при толковании применение обычаев гражданского оборота, стоит только при изъявлении воли сделать соответствующую оговорку. Но нельзя признать за договаривающимися права своим соглашением установить, чтобы при истолковании их сделки не применялся принцип доброй совести; общее положение, установленное выше относительно принудительного характера норм, содержащих требования доброй совести, должно получить применение и в данном случае. При противоположном решении вопроса для влиятельного контрагента открывался бы слишком простой способ уклониться от подчинения нежелательному критерию, введенному по соображениям общественного характера, а вместе с тем значение этого критерия было бы в корне подорвано. В заключение приходится здесь вновь повторить <105>, что проект останавливается только на толковании договоров, но не содержит указаний относительно толкования односторонних волеизъявлений. В объяснениях Министра юстиции к ст. 77 упоминается об исключении второй части этой статьи (ст. 91 по нумер. 1905 г.) как относящейся к толкованию завещаний. Однако вопрос об истолковании односторонних волеизъявлений может возникнуть и в пределах обязательственного права. В общем, основания толкования этих актов должны быть те же, что и для договоров <106>. Конечно, при одностороннем изъявлении воли не выступает так ярко мотив, по которому субъективная воля изъявителя отодвигается на второй план, по сравнению с объективным значением внешнего ее выражения. Но это обстоятельство, само собой, будет учтено, если толкование будет построено на принципе доброй совести, с принятием во внимание обычаев гражданского оборота. ——————————— <105> Вестн. гр. пр. 1915. N 1. Стр. 64. <106> Ср.: Dernburg. Das burg. Recht, I. § 111; III.
В конечном итоге ст. 72 могла бы быть изложена приблизительно в следующей редакции: «Договоры должны быть изъясняемы на основании не одного буквального их смысла, но и намерений лиц, их заключающих, в соответствии с требованиями доброй совести и обычаями гражданского оборота. На тех же основаниях следует толковать и односторонние изъявления воли».
§ 5. Исполнение обязательств
Проект, ст. 78: Должник обязан исполнить свое обязательство добросовестно и согласно принятому в деловых отношениях обычному порядку. Содержание этой статьи представляет почти дословный перевод § 242 B. G.B: Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Gl uben mit Rucksicht auf die Verkehrssitte es erfordern <107>. Поэтому в интересах выяснения смысла проектированной статьи и ее значения нелишним будет остановиться на контроверзе, какую породил прототип этой статьи — § 242 B. G.B. ——————————— <107> Ср.: Code civil suisse. 10 дек. 1907. 2: Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’executer ses obligations selon les regles de la bonne foi. Также во франц. Код. art. 1134 постановляет о договорах: Elles (les conventions) doivent etre executees de bonne foi, a art. 1135 добавляет: Les conventions obligent non seulement a ce qui y est exprime, mals encore a’toutes les suites que l’equite’, l’usage ou la loi donnent a l’obligation d’apres sa nature.
Названный параграф вызвал в литературе довольно оживленный обмен мнениями, причем если оставить в стороне детали различных суждений, выраженных по этому поводу, обрисовываются две основные точки зрения. Одна, более узкая, понимает § 242 так, что им не предоставляется судье проверка наличности долга, самой обязанности должника исполнить нечто; эта сторона дела определяется, так сказать, за пределами § 242, а этот параграф касается лишь способов и обстоятельств исполнения: в тех случаях, когда существует долг (наличность которого определяется независимо от § 242), его исполнение должно протекать так, как того требуют правила доброй совести и обычаи гражданского оборота. Например, если вести речь об отсылке товара, то вопрос о том, лежит ли на должнике соответствующая обязанность, решается относящимися к делу нормами права и договором сторон; в тех случаях, когда такая обязанность будет установлена, способ ее исполнения (как надо упаковать товар, кому его сдать и пр.) определяется согласно § 242. Представители этого воззрения: Шнейдер <108>, Леонгард <109>, Эртманн <110> и др. ——————————— <108> Schneider. Op. cit. <109> В прим. 1 к § 47 изданных им Vortrage Ekka. <110> D. Recht der Schuldverh. 12.
Другая, более широкая точка зрения состоит в том, что норма § 242 относится не только к выяснению способов исполнения обязательства, но также и прежде всего к решению вопроса о том, есть ли обязанность предоставления; в требовании закона, чтобы должник чинил исполнение добросовестно, усматривается граница и для заявления претензии верителем, по существу, близкая к идее exceptio doli generalis (конечно, лишь с материально-правовой стороны). Этой более широкой точки зрения придерживаются: Вендет <111>, Регельсбергер <112>, Тур <113>, Эннекцерус <114>, к тому же взгляду склоняются Дернбург <115> и др. <116>. Полемика по этому вопросу, общий характер аргументации свидетельствуют, что текст § 242 сам по себе не дает бесспорного ответа на вопрос, так что рассуждения по общему правилу с догматической почвы переходят на правнополитическую. Так как для нас весь вопрос стоит только de lege ferenda, то это обстоятельство нисколько, конечно, не компрометирует аргументации. Итак, каковы же главные соображения, на которых базируются та и другая точка зрения? Сторонники более узкого толкования § 242, т. е. того, что эта норма имеет в качестве необходимого предположения, что долговое отношение существует, что обязанность к предоставлению есть, установлена (на основании иных относящихся к обсуждаемому случаю норм закона и содержания договора), а от себя только указывает способ и подробности исполнения, исходят из следующих главных доводов. Признание за судьей права на основании § 242 обсуждать вопрос о том, имеется ли в спорном случае сама обязанность к предоставлению, привело бы к смешению границ права и морали. Сомнения вызывает вопрос о границах судейского усмотрения, его отношение к закону: судья призван помогать применению закона, но не исправлять закон. Обсуждение вопроса о существовании обязанности с точки зрения доброй совести могло бы поколебать правовой порядок, нарушить прочность оборота; на место твердой нормы права было бы поставлено субъективное чувство судьи. Главное назначение принципа bona fides — верность договору, точное исполнение данного обещания; если в отдельном случае решающее значение будут иметь не закон и договорное соглашение, а то, что судья признает более справедливым, то не придется ли признать слишком легкомысленным утверждение Ульпиана: nihil magis bonae fidei congruit, quam id praestari, quod inter contrahentes actum est (D.19.1.11 § 1)? (Шнейдер). Сторонники противоположного взгляда считают все эти доводы неосновательными. Всего менее, с их точки зрения, заслуживает внимания опасение, что при более широком толковании § 242 судья станет как бы над законом: судья в этом случае прибегал бы к критерию доброй совести не в силу того, что он может стоять над законом, а, наоборот, только потому, что рассматриваемая норма закона уполномочила его на это, подобно тому, как закон вводит иногда и другие, посторонние праву критерии: обычаи гражданского оборота и пр. Что это полномочие судьи может нарушить устойчивость деловых отношений, поколебать гражданский оборот, это сомнение не должно приурочиваться к данному специальному вопросу, а стоит в связи с основным, общим вопросом о положении судьи, о границах его деятельности. Этой проблеме посвящена огромная литература, причем отдельные авторы решают ее весьма неодинаково. Однако спорным и окончательно не решенным должен считаться (не имеющий никакого отношения к данной контроверзе) вопрос о праве судьи законодательствовать по конкретным казусам, если законодатель не дал соответствующей нормы. Что же касается применения к отдельным спорным положениям подсобного критерия, прямо рекомендованного законом, то на этот счет современная юриспруденция довольно единодушно высказывается за признание у судьи такого права. Точно так же и положительные законодательства не считают возможным лишить суд всякой самостоятельности. Свободное усмотрение суда (отнюдь не являющееся синонимом произвола) неизбежно, и оно всюду существует, когда судья оценивает степень виновности, уважительность основания и т. п. <117>. Иначе пришлось бы пожертвовать эластичностью норм, принципом индивидуализирования конкретных случаев и т. п. Но потребности жизни заставляют смотреть на такое явление как на большее зло по сравнению с возможными увлечениями, заблуждениями, неискусностью или хотя бы даже злоупотреблениями (случаи которых при надлежащей организации будут всегда исключительными) судей. Жизнь заставляет предпочитать «каучуковые параграфы», позволяющие рассматривать конкретный казус не по схематическим, безжизненным правилам, а в зависимости от всех индивидуальных обстоятельств. Опыт показал, говорят те же авторы, что самостоятельность и свобода, предоставляемые в этих случаях суду, не только не влекут за собой каких-либо опасностей для правосудия, но являются необходимыми условиями для того, чтобы право было способно приноровиться к вечным изменениям жизненной обстановки, другими словами, чтобы оно само стало жизненным. Частным случаем применения этого общего принципа является и рассматриваемая норма. Другое соображение против широкого толкования § 242, именно опасение смешения права и нравственности, столь же мало имеет значения в данном случае, как и в других, где закон учитывает принцип доброй совести. Разумеется, введение в закон этого принципа ставит право до известной степени в соприкосновение с нравственностью, однако это обстоятельство не должно особенно смущать юриста: взаимодействие права и нравственности имеет место в целом ряде отношений гражданского права и не приводит к смешению этих двух областей. Наконец, что касается соображения о святости и нерушимости договорного соглашения, то против этого приводятся следующие возражения. Договорная верность есть одно из велений bona fides, но не покрывает всего понятия bona fides. Обязанность контрагентов соблюдать верность договору, святость для каждого из них принятого на себя обязательства сомнений не вызывают, но значение этого принципа, как и всякого другого, может проявляться только в известных границах, а именно поскольку проведению этого принципа договорной верности не мешает иной, также находящий себе признание со стороны закона. Таким пределом применения начала договорной верности и является § 242 B. G.B., дающий основания проверять с точки зрения доброй совести уместность заявляемой претензии. Именно данная норма говорит, что нужно предоставлять исполнение, как-то: «добросовестно и согласно обычному порядку», «как того требует добрая совесть и обычаи оборота». Определяется образ действия: как предоставлять, но этот вопрос заключает в себе и другой — о содержании требования <118>. Норма § 242, дающая по букве только известное направление для деятельности должника, косвенно определяет и выступление верителя. Это вытекает из коррелятивности понятий права и обязанности, требования и долга. Если должнику предписывается делать предоставление согласно требованиям доброй совести и только в соответствии с этим масштабом признается его обязанность, то, следовательно, и веритель не управомочен требовать за этими пределами: то, что определяет меру долга, определяет также и содержание требования <119>. ——————————— <111> Arch. f. fiv. Prax., Bd. 100 (1906). <112> Krit. Vierteljahresschr. Bd. 44 (1902). 433; Iher. Iahrb. Bd. 41, 285 (непосредственного выражения идеи exc. D. Gen. в B. G.B. нет, но она не противоречит основным его положениям). <113> Thur. Op. cit. II. 1, 546 — 547: § 242 исполняет ту же функцию, что exe d. Gen. в gemeines Recht. <114> Enneccerus. I. § 208. <115> Das burg. Recht, II. 1-e Abth. § 10. Pr. 3. <116> Своеобразную позицию занимает Eckstein (Die Einrede der Unsittlichkeit, Arch. F. Burg. Recht, 1913. 367 — 405): § 242, по его мнению, ничего нового не вносит; если бы его (и § 157) в уложении не было, дела решались бы так же, как и теперь; мысль § 242 сводится к тому, что исполнение должно быть, так сказать, средней доброты: должник не вправе предлагать ниже среднего, веритель не вправе требовать выше среднего; вместе с тем Экштейн признает (правда, в весьма ограниченном круге случаев) exc. Doli gener., но обосновывает ее общим духом современного права до известной степени — даже независимо от положительного правопорядка (особенно стр. 378 — 379, 381). <117> По этому поводу Crome (I, § 13, 2a) замечает: «Было бы неправильно говорить в этом случае, что судья дает или строит норму: «все» — вот кто создает здесь право, а судья только должен, как всегда, его применить; и в этой функции судья не становится законодателем». Ср.: Hartmann. Der Civilgesetzentwurf, das Aequitatsprineip und die Richterstellung. Arch. f. civ. Pr. Bd. 73 (N. F. 23), 1888. 319. <118> Wendt (op. cit., 86) отмечает, что в материалах по изданию B. G.B. имеется подтверждение именно этого сближения понятий «способ исполнения» и «содержание долга», причем вопрос о содержании, естественно, связывается с вопросом о самом существовании долга. <119> Wendt. Op. cit. 87. Также Riezler. D. Iur.-Zeit, 1912. N 18.
У нас нет исторического прошлого в этой области вроде exceptio doli generalis в странах, реципировавших римское право. Поэтому мы можем свободнее оценить de lege ferenda границы применения bona fides при исполнении обязательств. В предыдущем изложении были указаны некоторые примеры проявления судейской самостоятельности, свободного усмотрения суда при применении принципа доброй совести; таковы ст. 31, 70 и 72 проекта. Является ли рассматриваемый вопрос сходным по существу с приведенными ранее случаями? Мы отвечаем на этот вопрос отрицательно. Когда судья, основываясь на ст. 31 или 70 проекта (в том виде, в каком представляется целесообразным их принятие), лишает силы сделку или уменьшает размер неустойки, он проявляет, конечно, свободное усмотрение, но он получает все же со стороны закона известные указания для руководства: несоответствие обязанностей сторон (или размера неустойки содержанию главного обязательства) и признак эксплуатации нужды, зависимости etc. Если при толковании договора по ст. 72 проекта суд может признать за договором такие смысл и значение, о каких вовсе не думало данное лицо, он руководствуется при этом объективным, общепринятым пониманием употребленных сторонами слов и всего их поведения. Как обстоит дело в рассматриваемом случае? Юридическая сила договора налицо; опорочению он не подлежит; содержание и смысл его установлены. Если исполнение договора идет вразрез с какой-либо специальной нормой закона или с имевшим место дополнительным договором, по которому веритель обязался не взыскивать долга и т. п., вопрос разрешается благополучно и при более узком понимании ст. 78 <120>. Если же нет перед судьей подобных указаний, то (при широком толковании ст. 78) выходит, что хотя возникновению и сохранению юридической силы за договором принцип доброй совести не помешал (ибо в противном случае будут применимы рассмотренные ранее статьи проекта), тем не менее судья должен обсуждать именно с точки зрения доброй совести вопрос, подлежит ли этот договор исполнению: положение не только противоречивое, но и весьма опасное для оборота <121>. Очевидно, что черта допустимого судейского усмотрения здесь оказывается нарушенной. Таким образом, приходится заключить, что признание за судом права исследовать с точки зрения доброй совести вопрос, имеется ли в данном случае обязанность должника чинить исполнение, для одних случаев не нужно ввиду наличности специальных норм закона или особого соглашения сторон, для других — опасно. Остается принять тот смысл ст. 78, что самые способы и обстоятельства исполнения должны соответствовать доброй совести и обычаям гражданского оборота. Но тогда может явиться вопрос: не представляется ли это предписание при наличности рассмотренной ст. 72 (о толковании договоров) излишним? <122> Это сомнение, разумеется, неосновательно: ст. 72 дает указания, как понимать содержание договора, как, следовательно, определить содержание обязанности должника; ст. 78 нормирует способы и приемы исполнения этой обязанности, обстановку, в которой должно протекать исполнение. ——————————— <120> Schneider более трети своей работы (Treu u. Glauben im Rechte der Schuldverhaltnisse) посвящает доказательству той мысли, что в тех случаях и для тех целей, для которых стараются осуществить идею exc. d. gen., желательного результата можно достигнуть иными путями, пользуясь прямым содержанием (по поводу отдельных отношений) Гражд. кодекса или истолкованием договора. Ср.: Eckstein. Op. cit. 382 ff. <121> При ином взгляде можно было бы действительно последовать ироническому совету проф. Покровского (Вестн. гр. права. 1899. N 10. Стр. 84) заменить тысячу с лишним статей проекта всего лишь одной статьей: «Договоры и обязательства обсуждаются по началам справедливости свободным усмотрением суда». <122> Надо заметить, что проект 1899 г. не содержал отдельной рубрики «Толкование договоров», а главу «Исполнение договоров» открывал ст. 65: «Договоры должны быть исполняемы по точному их смыслу и по доброй совести и намерению сторон», а затем в следующих статьях трактовал вопросы толкования.
Если принять во внимание разногласия, какие породил в немецкой литературе § 242 B. G.B., то для предупреждения возможных недоразумений при применении будущей ст. 78, быть может, нелишним было бы несколько изменить редакцию этой статьи в смысле более выпуклого указания, что в данном случае дело идет о способах исполнения обязательства, но не о решении вопроса, есть ли обязанность должника к предоставлению или нет. Так как относительно лиц, срока, места, предмета исполнения и пр. в проекте имеются специальные нормы, то, казалось бы, ст. 78 можно изложить примерно в такой редакции: «Исполнение обязательства должно производиться способами, соответствующими требованиям доброй совести и принятому в деловых отношениях обычному порядку» <123>. ——————————— <123> Если взглянуть на вопрос с противоположной (более широкой) точки зрения, редакция ст. 78 могла бы быть следующей: «Должник обязан исполнить свое обязательство постольку, поскольку предъявляемое верителем требование не противоречит доброй совести и принятому в деловых отношениях обычному порядку. При этом формы и способы исполнения должны соответствовать правилам доброй совести и принятому в деловых отношениях обычному порядку».
В связи с вопросом о значении доброй совести при исполнении обязательств необходимо еще отметить ст. 79 проекта: при двустороннем договоре каждая сторона, если она не обязалась исполнить договор первой, вправе не производить исполнения, пока другая сторона не исполняет лежащего на ней обязательства. Неисполнение обязательства одной стороной лишь в незначительной части не дает другой стороне права отказаться от исполнения лежащего на ней обязательства, насколько такой отказ, по обстоятельствам дела, не согласуется с доброй совестью <124>. Если, например, покупатель отказывается исполнить все предоставление, а между тем желает сохранить полученную часть предмета купли, то он идет против вытекающего из доброй совести положения, что предоставление и взаимное предоставление при обоюдных договорах предназначены к обмену, и потому ни одна сторона не должна одновременно иметь и то и другое: право задержать предоставление до исполнения взаимного предоставления находит свою границу в принципе доброй совести. Решение вопроса о том, нужно ли считать предоставленное значительной частью предмета обязательства, так что недостающее не имеет существенного значения или, наоборот, принадлежит суду в соответствии с требованиями доброй совести. ——————————— <124> Это постановление является копией § 320, абз. 2, B. G.B.
§ 6. Границы осуществления прав
Осуществление субъективных прав вполне неограниченным и произвольным быть не может. Принцип доброй совести и в этом вопросе получает большое значение: в нем гражданское законодательство полагает предел осуществления прав. Каждому предоставляется пользоваться своими правами, но не злоупотреблять ими. Где же проходит граница, за которой приходится признать наличность злоупотребления правом? Отправная точка в этом вопросе сводится к тому, что осуществление субъектом своего права не носит противозаконного характера в силу одного того факта, что это осуществление связано с невыгодой для другого лица. Законодатель не может воспринять в полной мере высший нравственный завет любви к ближнему, самопожертвования, не может потребовать от членов гражданского оборота полного смирения и подчинения своих личных интересов интересам других лиц. Однако возможны случаи, когда осуществление права одним лицом, связанное с ущербом для другого, переходит всякую меру, нарушает требования доброй совести, которая взывает к ограничению изложенной отправной точки зрения. Такое ограничение явилось еще в римском праве, выставившем наряду с правилом nemo damnum facit, nisi qui id fecit, quod facere jus non habet (D.50.17.151, Paulus) другое: не дозволяется такое осуществление права, когда субъект из своего права делает средство причинения вреда другим лицам, когда использование права имеет место единственно с целью, чтобы этим повредить другому. Так, в D.39.3.1, § 12 Ульпиан, ссылаясь на Марцелла, высказывается за невозможность иска со стороны лица, на земле которого пропала вода вследствие работ, произведенных соседом на своем участке, но оговаривается: si non animo vicino nocen. Di… idfecit. Та же мысль выражена Павлом в D. h.f.2, § 9, Цельзом — в D.6.1.38 и др. Отсюда господствующее в романистической литературе мнение выводит, что возможность осуществления субъективного права независимо от вопроса о том, как это отразится на положении другого лица, ограничивалась в римском праве нормой, что пользование правом с единственной целью вредить другому недопустимо <125>. В Германском уложении это правило выражено в § 226 <126>: не допускается осуществление права, если целью такого осуществления может быть только причинение вреда другому. Это положение проникло и в наш проект обязательственного права, хотя и в измененном виде; ст. 1174 гласит: «Действовавший в пределах предоставленного ему по закону права не отвечает за причиненный вред, разве бы он осуществлял свое право единственно с намерением причинить вред другому». Это правило появилось только в последней редакции проекта (1913 г.) <127>. В объяснительной записке Министра юстиции по поводу изменения ст. 2602 объединенного проекта 1905 г. говорится, что «осуществление права, направленное исключительно на причинение вреда другому, без всякой пользы для себя, является, в сущности, не чем иным, как извращением права вопреки его экономическому и историческому назначению, т. е., другими словами, деянием явно неправомерным». ——————————— <125> Windscheid. Pand. I. § 121. Иначе Blumner. Die Lehre vom boswilligen Rechtmissbrauch. Результаты его исследования (85 ff) таковы: в источниках нет запрещения шиканы, а только выражена мысль, что если лицо завершает какие-нибудь действия, подходящие под категорию осуществления права, оно может оказаться обязанным возмещать другому ущерб только на основании особого титула; в случае, если цель пользования правом лежит только в причинении вреда, положительное право в этом усматривает такой титул и обязывает к возмещению ущерба. Существует также мнение, что источники вообще никакого правила на данную тему не содержат, а только указывают некоторые примеры исключительного характера (Unger. System. I. 616, Anm. 20; Bekker. System. I. § 22, Beil. I и др.). <126> Его историю см. у Blumner Op. cit. 116 sl.; связь с 8826 см. у Доманжо в Сборнике памяти Шершеневича, 329 сл. <127> Относительно предыдущих редакций проекта см.: Доманжо. 1 с. 325 сл. Там же Обзор сенатской практики. Стр. 319 сл.
Для применения ст. 1174, конечно, главная сфера не право обязательственное, а вещное, однако и в рассматриваемой нами области нет принципиальных препятствий для ее применения. Правило, содержащееся в § 226 Герм. улож. и отразившееся в названной статье нашего проекта, встречает иногда возражения с той стороны, что оно бьет дальше цели и само кроет в себе опасность сделаться средством шиканы <128>. Основательнее, однако, по-видимому, другое возражение, что указанное правило слишком узко и недостаточно для борьбы с шиканой, что доказательство отсутствия всякой цели пользования правом, кроме причинения вреда другому лицу, крайне затруднительно, почти невозможно, вследствие чего практическое значение всего правила довольно скромно <129>. Гораздо шире ставит вопрос Швейцарское уложение (1907 г.), art. 2: «Каждый должен осуществлять свои права… по правилам доброй совести. Быть может, это противоположная крайность: в таком вопросе, как граница пользования правом, едва ли желательно отказываться от установления более детальных признаков и отсылать только к общему руководству принципом доброй совести» <130>. В этом отношении представляется весьма интересной формула, предложенная Салейлем (в подкомиссии по пересмотру Code civil) <131>: «Un acte dont l’effet ne peut etre que de nuire a autrui, sans interet appreciable et legitime pour celui qui l’accomplit, ne peut jamais constituer un exercice licite d’un droit». Автор сам называет свое мнение средним между постановлениями Германского и Швейцарского уложений. Предложенное им решение вопроса представляется довольно целесообразным. Пользуясь этой формулой Салейля, можно было бы ст. 1174 нашего проекта отредактировать следующим образом: «Действовавший в пределах предоставленного ему по закону права не отвечать за причиненный вред, разве бы он осуществлял свое право, не имея в данном случае действительного, достойного защиты интереса в том, а единственно с целью причинить вред другому». ——————————— <129> Windscheid. I. § 121. Pr. 3. Ср.: Ramdohr. Rechtsmissbrauch // Bruchot’s Beitrage zur Erlauterung d. Deutsch. Rechts, Bd. 46 (1902). 6 Heft. S. 828 ff; Huber. Rechtsmissbrauch. 29. <130> Ср.: Martin. L’abus de droit et l’acte illicite // Zeitschr. F. Schweiz. Recht, Bd. 47 (1906), 55. <131> Sealeilles. De l’abus de droit // Bulletin de la societe d’etudes legislatives. IV. 1905. P. 348. Действующее французское законодательство по вопросу о злоупотреблении правом, в сущности, не дает указаний. Ср.: Geny. Methode d’interpr. 544; этот пробел восполнен юриспруденцией (Martin. Op. cit. 23).
Но рассмотренным правилом не могут исчерпываться меры, с помощью которых законодательство устанавливает границы осуществления прав. Не остается чуждым гражданскому праву более широкий принцип, а именно то, что, даже осуществляя несомненный свой интерес, управомоченный должен все-таки сообразоваться с чужими интересами, щадить их и в тех случаях, когда чужой интерес оказывается слишком значительным, ограничивать свое усмотрение в осуществлении права; другими словами, гражданское право считается, между прочим, с принципом социальной солидарности, господствующей над всеми отношениями людей, живущих в обществе. В области вещно-правовых отношений, не входящих в круг нашего рассмотрения, этот принцип с достаточной выпуклостью дает о себе знать в так называемом соседском праве. Оставаясь в намеченных выше рамках работы, мы можем усмотреть также и в проекте обязательственного права отголоски той идеи, что даже правомерные действия допустимы лишь в известных границах и формах в соответствии с общим положением, что добросовестность в современной жизни есть общее требование оборота. В наиболее резком и элементарном виде это требование выражено в ст. 38. В ее основании лежит тот принцип, что нельзя своим произволом ухудшать положение другого. Речь идет о содействии или препятствовании наступлению условия со стороны лица, которому выгодно известное положение: если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала та сторона, которой ненаступление условия доставляет выгоду, то условие считается наступившим; и обратно: если наступлению условия недобросовестно содействовала та сторона, которой наступление условия доставляет выгоду, то условие считается ненаступившим <132>. По общему правилу каждая из договаривающихся сторон вправе содействовать или препятствовать наступлению таких условий, от которых зависит осуществление ее прав или прекращение обязанностей по договору. Например, обязанность лица по договору поставлена в зависимость от условия, что ему удастся продать дом etc; веритель, желая содействовать наступлению этого условия, подыскивает покупателя, и сделка осуществляется; ясно, что поведение верителя не встретит осуждения с точки зрения закона. Бывают, однако, такие действия, содействующие или препятствующие наступлению условия, которые не соответствуют требованиям доброй совести. Для таких случаев ст. 38 постановляет, что все, чего достигло лицо своими действиями, хотя и правомерными, но не соответствующими требованиям доброй совести, не принимается во внимание. В нашей литературе встретила возражения редакция этой статьи <133>, а именно форма фикции («считается наступившим», «считается ненаступившим») <134>. Мысль ст. 38 сводится к тому, что если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала та из договаривающихся сторон, которой ненаступление условия доставляет выгоду, то другой стороне предоставляются все те права по договору, какие она могла бы получить, если бы условие наступило, и обратно. Так именно и предложено было изложить данную статью. Это изменение редакции, на наш взгляд, существенного значения не имеет, так как и в предположенной редакции рассматриваемая норма едва ли вызывает сомнения. ——————————— <132> § 162 B. G.B. Ср.: Швейц. обяз. пр. 156. <133> См.: Городыский // Журн. Мин. Юст. 1900. N 4. Стр. 245. Впрочем, тот же автор возражает и по существу, что понятие доброй совести не допускает точной формулировки, что целесообразнее ввести сюда признаки принуждения, обмана etc. <134> Эта форма выражения ведет начало от римских юристов (D.50.17.161; D.35.1.81, § 1).
Рядом со ст. 38 проекта следует упомянуть § 815 Герм. улож., которому не имеется соответствующей нормы в проекте. Здесь также перед нами средство противодействовать нарушению требований доброй совести. Дело идет о condictio causa data causa non secuta: требование о возврате предоставления ввиду неосуществления цели, ради которой предоставление было совершено, не допускается, между прочим, в том случае, если лицо, совершившее предоставление, недобросовестно воспрепятствовало наступлению события, которое имелось в виду; германский закон и здесь прибегает к той же фикции, какая содержится в ст. 38 нашего проекта: известное событие считается наступившим, хотя фактически этого нет. Таким образом, в обоих случаях, как предусмотренном в нашем проекте, так и оставленном в стороне (думается, без достаточного основания), не допускается со стороны данного лица ссылка на результат его действий, хотя и правомерных, но идущих вразрез с велениями доброй совести. Сходная идея нашла себе выражение в ст. 437 проекта: гарантируя нанявшемуся заработок, если наниматель оказывается помимо всякой вины нанявшегося не в состоянии воспользоваться его услугами, названная статья рядом с этим сохраняет за нанимателем право удержать из рядной платы сумму, соответствующую тому, что заработал нанявшийся, найдя себе иное занятие, или мог бы заработать, если бы недобросовестно не отказался от заработка. Полную аналогию представляет ч. 2 ст. 534 (относительно права перевозчика на провозную плату в случае отказа отправителя от договора) <135>. Недобросовестность нанявшегося служит основанием для прекращения договора личного найма ранее истечения срока <136>; точно так же недобросовестность, допущенная товарищем в управлении делами товарищеского предприятия или в отчете, считается уважительной причиной прекращения товарищества (ст. 707). В этой же связи можно отметить также те статьи проекта, которые направлены на борьбу с умышленным сокрытием каких-либо фактов, обманом и тому подобными проявлениями недобросовестности <137>. Все подобные постановления повторяются в каждом кодексе и особых замечаний не требуют. Выражением той же идеи, что добросовестность есть основа и общее требование оборота, является, между прочим, рассмотренная в предыдущем параграфе ст. 79 (о неисполнении обязательства одной из сторон в незначительной части). Аналогичный характер носят ст. 220 (ограничивающая ответственность продавца за недостатки проданного имущества случаями, когда недостатки значительно уменьшают цену или пригодность имущества к употреблению), ст. 227, 340, п. 4 — 5, и др.; обратно — когда дальнейшее исполнение договора сопряжено с чрезмерными издержками для обязанной стороны или вообще для нее весьма обременительно (ст. 336, 387, 446) и др. <138>. ——————————— <135> Германск. улож. содержит еще общую норму такого рода для обоюдных договоров (§ 324). <136> Проект, 414; ср. Шв. об. пр., 352. Швейц. об. право регламентирует на тех же основаниях тот случай, когда оказывается необходимой работа, превышающая своим размером предусмотренную в договоре или обычную меру; нанявшийся должен исполнить и этот излишек, если отказ означал бы нарушение доброй совести (ст. 336). <137> Таковы, напр., ст. 222, 225, 270, 370, 503 и др. <138> Статью 136 об оспаривании актов, совершенных во вред кредиторам, мы оставляем в стороне ввиду исчерпывающей работы Д. Д. Гримма в «Вестн. гр. права». 1915, окт. — ноябрь.
Нельзя в заключение не отметить, что наш проект, несмотря на то что в числе основных его положений находится объединение права гражданского и торгового, не содержит достаточных постановлений по такому важному вопросу, как борьба с недобросовестной конкуренцией. В законодательстве и практике западных государств на этот предмет обращено внимание <139>. В действующем русском законодательстве нет опоры для надлежащей борьбы с недобросовестной конкуренцией; между тем жизнь требует вмешательства законодательства в эту область. Оказывается, что и проект обязательственного права, предназначенный обновить сразу и гражданское, и торговое право, также далеко не исчерпывает задачи борьбы с недобросовестной конкуренцией. Кроме приведенных выше (§ 3) ст. 470, 728 и 856, являющихся довольно слабым отголоском этой борьбы, можно отметить лишь ст. 1200: причинивший обиду или разгласивший ложное обстоятельство, позорящее чью-либо честь либо подрывающее кредит лица, товарищества или установления или доверие к способностям лица исполнять обязанности его звания или заниматься своим промыслом, обязан вознаградить потерпевшего за причиненные ему убытки. Лицо, не знавшее о ложности сообщенного им обстоятельства, не подлежит ответственности за убытки, если оно или тот, кому сделано сообщение, могли по уважительным основаниям считать сообщенное обстоятельство имеющим для кого-либо из них существенное значение. Едва ли могут быть сомнения в том, что этими частичными нормами вопрос исчерпанным считаться не может. Законодательным учреждениям необходимо поставить и разрешить вопрос о недобросовестной конкуренции во всей его широте. ——————————— <139> См. обстоятельную работу Шрешера в Сборнике памяти Шершеневича. Стр. 427 сл.
Глава III. ДОБРАЯ СОВЕСТЬ В СУБЪЕКТИВНОМ СМЫСЛЕ
§ 7. Добрая совесть как восполнение легитимации
Добросовестность как известное субъективное состояние, как извинительное неведение тех или иных фактов во многих случаях принимается во внимание в том смысле, что строгая юридическая последовательность нарушается, и юридический эффект вполне или отчасти наступает, несмотря на неосуществление фактического состава, предполагающего его наступление. Лицо неуправомоченное действует как управомоченное, и третьи лица, вступившие с ним в деловые отношения, остаются в том же положении, как если бы имели дело с управомоченным. Добрая совесть как бы восполняет недостающую легитимацию. Так как это ограждение интересов добросовестно заблуждавшихся лиц производится в конечном итоге за счет действительно управомоченного, приводит к попранию интересов этого последнего, то спрашивается: имеет ли такая политика под собой какое-нибудь основание? Прежде всего нельзя не согласиться с проф. Петражицким <140>, что в рассматриваемых нормах нельзя видеть награду за добросовестность. Во-первых, добросовестность не есть положительная заслуга, которую законодателю нужно оплачивать. Во-вторых, если бы и можно было признать добросовестность такой заслугой, нельзя было бы ждать, чтобы именно гражданский законодатель устанавливал за нее награды. Наконец, для законодателя не совсем удобно награждать заслуги средствами, взятыми из кармана частного лица, которому эта заслуга не принесла никакой пользы и которое по общему правилу не менее добросовестно. Профессор Петражицкий справедливо усматривает основание норм о значении добросовестности в народнохозяйственных соображениях. Необходимо обеспечить status quo установившегося фактически (по недоразумению) распределения. Петражицкий высказывает это положение по поводу возвращения плодов добросовестным владельцем <141>, но это соображение имеет более общее значение. Фактически (по недоразумению) совершается известное распределение хозяйственных благ. Установившийся status право считает необходимым оберечь для того, чтобы предотвратить неожиданный удар в виде перераспределения, добросовестность и знаменует собой невозможность предвидеть угрожающее перераспределение; тут принимается в расчет хозяйственная неподготовленность к внезапному изменению status quo. Для обязательственного права еще важнее вторая функция добросовестности, выдвигаемая Петражицким: «…значение добросовестности для политики обращения хозяйственных благ, для облегчения и ускорения движения полезностей и ценностей; здесь особая система норм о добросовестности облегчает сбыт и приобретение объектов, устраняя, на стороне спроса, сомнения относительно юридического успеха сделок» <142>. ——————————— <140> Bona fides в гражданском праве. 2-е изд. (1902). 121. Ср.: Pernice. Labeo. II. 1, 464. <141> Op. cit. 306 sl. (1-е изд., стр. 291 сл.). <142> Ср.: Также (того же автора) Lehre v. Einkommen. II. 553. Anm. 1.
Право защищает доверие к существующему, по-видимому, правовому положению, хотя на самом деле положение иное: bona fides tantundem praestat quantum veritas (D.50.16.136); забота о прочности, обеспеченности оборота заставляет законодателя даже становиться иногда на сторону тех лиц, которые никаких прав не приобрели и приобрести не могли. Однако при проведении этого принципа нельзя игнорировать отмеченного выше соображения, что всякая льгота в пользу псевдоуправомоченного невыгодно отзывается на лице действительно управомоченном; что наряду с добросовестным третьим лицом есть еще добросовестный первый, о котором право также должно позаботиться, хотя бы недобросовестного второго нельзя было найти или он оказался неплатежеспособным <143>. Вследствие этого ни одно законодательство не выставляет такого общего правила, что если третьи лица имели достаточные основания считать наличным известное правовое положение, приноровили к нему свои расчеты, они не должны расплачиваться за оказанное доверие. Законодатель проводит этот принцип лишь в некоторых определенных, не допускающих распространения по аналогии <144> случаях, видоизменяя до известной степени и сами условия, при которых принимается во внимание добросовестное предположение наличности права. ——————————— <143> Leonhard в примеч. к Eck. II. 196. Pr. 1. <144> Thur. Op. cit. II. 1, 135.
Принцип доброй совести получает при этом признание с неодинаковых точек зрения. В большинстве случаев центр тяжести кладется в положение третьих лиц, которые имеют дело с мнимоуправомоченными; опасность вносит пертурбацию в хозяйственные расчеты этих лиц, вынуждает законодателя нарушать строгую последовательность права; естественно, что в этих случаях решающее значение имеет добросовестность именно этих лиц, добросовестность или недобросовестность самого мнимоуправомоченного существенного значения не имеет. Но бывают и другие случаи, когда заботы законодателя направлены на ограждение положения самих мнимоуправомоченных, и в этой категории отношений добросовестность последних составляет condicio sine qua non применения данной нормы. Каковы же границы признания в нашем проекте обязательственного права того принципа, что добрая совесть может восполнить недостатки легитимации? В первую очередь следует выделить случаи, когда в обязательственном праве применяются положения, близкие к вещно-правовым. В вещном праве нередко бывает, что добросовестное приобретение вещи признается бесповоротным, хотя приобретатель ведет происхождение своего предполагаемого права от лица, которое не было управомочено произвести право другого, и невзирая на то, что с ограждением интересов приобретателя связывается попрание права истинно управомоченного. Во имя прочности установившихся отношений право признает возможным это посягательство на интересы управомоченного. В обязательственном праве идея ограждения добросовестного приобретения имеет широкое применение к бумагам на предъявителя. В бумаге на предъявителя вместе с документом, вещью неразрывно связывается и право требования. В документе овеществляется соответствующее требование, так что приобретатель бумаги тем самым делается и верителем по обязательству, не подлежа каким-либо возражениям, относящимся к личности предшественника. Статья 664 проекта признает за лицом, выдавшим бумагу на предъявителя, обязанность исполнить содержащееся в бумаге обязательство даже и в том случае, если бумага поступила в обращение помимо его желания, лишь бы (в последнем случае) предъявитель бумаги был добросовестен. Статья 668 снабжает добросовестное, притом возмездное, приобретение бумаг на предъявителя бесповоротностью даже в более широкой мере по сравнению с постановкой этого вопроса в вещном праве. Именно согласно этой статье бумаги на предъявителя не могут быть отыскиваемы от приобревшего их добросовестно и возмездно, хотя бы они были похищены или потеряны: добрая совесть заменяет легитимацию и пресекает право того лица, кому бумага принадлежала ранее. В объяснительной записке Министра юстиции по поводу этой статьи, между прочим, читаем: «По существу настоящей статьи, ставящей условием бесповоротности наряду с добросовестностью и возмездность приобретения бумаги на предъявителя, Министр юстиции считает необходимым отметить, что при установлении подобного требования, очевидно, не будут исключены из числа ограждаемых бесповоротностью такие безвозмездные приобретатели, которые, удовлетворяя требованию добросовестности, могут сослаться на возмездное и добросовестное приобретение бумаги их праводателем» <145>. Министр юстиции полагает, что это положение само собой разумеется в силу общего правила, что «предшественник передает вещь со всеми принадлежащими ему в отношении ее правами». Думается, было бы правильнее, если бы указанный случай был прямо предусмотрен в ст. 668 (хотя бы вставкой после слов «приобревшего оные добросовестно» — «и притом возмездно или хотя и безвозмездно, но от лица, в свою очередь приобревшего их добросовестно и возмездно»). Но если оставить в стороне вопрос о бумагах на предъявителя, общее правило в сфере обязательственного права иное: приобретающий право требования от неуправомоченного не делается еще в силу своей bona fides как бы управомоченным и не пользуется в приобретенном мнимом праве защитой. Это отличие от добросовестного приобретения вещей пытаются объяснить, между прочим, тем, что здесь, в обязательственном праве, нет такого внешнего основания добросовестного приобретения, какое при приобретении вещных прав заключается в записи в поземельную книгу или в факте владения: когда защищают добросовестного приобретателя вещи в ущерб собственнику, то имеет хотя бы некоторое основание за себя соображение, что собственник сам способствовал этому результату, проглядев неправильную запись в книгу или допустив переход вещи в чужое владение; при передаче несуществующего обязательственного права аналогичное соображение неприменимо, и возложение на мнимого должника не заключенного им обязательства оправдать нечем <146>. Во всяком случае, по общему правилу, как бы добросовестен цессионарий ни был, но раз ему передано несуществующее в действительности право, он может только искать убытков с цедента (ответственность за nomen verum esse); легитимации, однако, добросовестность не заменит, и иска против предполагавшегося должника такой цессионарий не получает. ——————————— <145> Проект. Изд. Сорина. Вып. 2. Стр. 106. <146> Thur. Op. cit. II. 1, 137.
Это общее правило требует, однако, некоторых поправок. Прежде всего обращает на себя внимание тот случай, когда долг существует, у цедента право есть, но оно не подлежит отчуждению; как быть, если веритель все-таки совершит цессию такого права? Этого вопроса касается ст. 155 проекта. Ее смысл сводится к следующему: стороны могут условиться, чтобы веритель не передавал своего права требования другому лицу, однако если при цессии совершена передача долгового документа, в котором не содержалось никакого указания на ограничение возможности цессии, то передача, несмотря на состоявшееся между верителем и должником pactum de non cedendo, сохраняет силу, т. е. интересы добросовестного приобретателя заставляют восполнить пробел, имевший место со стороны легитимации цедента. В новейших кодификациях Запада добросовестность цессионария, покоящаяся на передаче цедентом долгового документа, пользуется еще более широким признанием. Так, по Швейцарскому обязательственному праву, ст. 18, если лицо, полагаясь на письменный документ относительно существования долга, приобретет мнимое право требования, то должник не вправе против требования добросовестного цессионария ссылаться на то, что обязательство было установлено только для виду, и т. п. (ср. § 405 Герм. улож.). Получается такая картина, что в момент передачи мнимого права требования добросовестному приобретателю это требование как бы зарождается в качестве действительного <147>, так что при дальнейших передачах не имеет значения, знают ли цессионарии о том, что было в самом начале истории обязательства: они приобретают вполне действительное право требования. Аналогичной нормы в нашем проекте не содержится: интересы добросовестного цессионария ограждены, следовательно, в проекте слабее, чем в западных кодексах, но это делает еще более благоприятным положение должника, сохраняющего против цессионария те же возражения, какие он имел против цедента. ——————————— <147> О характере приобретения см.: Thur. Op. cit. II. 1, 54 — 55.
Переходя к этой стороне вопроса, к защите интересов добросовестного debitor cessus, нужно заметить, что ст. 158 проекта (касающаяся в отличие от рассмотренной ст. 155 тех случаев, когда цессия совершается лицом управомоченным и не стесненным в своем праве распоряжения) постановляет, что если должник не был уведомлен и вообще не знал о цессии и потому удовлетворил первоначального верителя, он освобождается от лежащей на нем обязанности: хотя прежний веритель уже перенес свое право на другое лицо, однако bona fides должника придает платежу законную силу (ср. Герм. ул. § 407); Швейц. об. пр., 167). Здесь должник не знает о происшедшей в действительности перемене управомоченного, не знает, что его веритель перестал быть верителем. Это незнание легко возможно ввиду неформального характера цессии, и этим вызывается необходимость защиты добросовестного должника. Германское уложение предусматривает еще другой случай добросовестного предоставления лицу материально неуправомоченному и все-таки погашающему долг: веритель уведомляет должника о цессии, а после оказывается, что она недействительна или вовсе не имела места; если должник после уведомления успел уплатить цессионару, он освобождается от лежащей на нем обязанности (§ 409). Было бы желательно сделать соответствующее дополнение и в нашем проекте. Специальный случай признания добросовестности должника представляет ст. 88 проекта: исполнение обязательства, добросовестно произведенное лицу, признанному судом в правах наследства или вступившему во владение наследственным имуществом в качестве наследника верителя, признается действительным, хотя бы впоследствии оказалось, что это лицо не имело права на наследство. Здесь перед нами случай, когда добрая совесть на стороне обязанного, предполагавшего, что данное лицо управомочено, заставляет законодателя мириться с неполнотой общих условий законности платежа. При этом неверное представление относится не к существованию какого-либо специального права, но к правомочности субъекта вообще <148>. ——————————— <148> Но добросовестное заблуждение в дееспособности лица не делает платеж действительным (Thur. Op. cit. II. 1, 356 — 357).
Вопрос о защите добросовестных субъектов получает большое значение в тех случаях, когда юридические действия совершаются не тем, кого они касаются, а его представителем, в частности когда лицо действовало в качестве представителя, не имея в действительности полномочия или же несмотря на то, что полномочие прекратилось. В литературе с большой выпуклостью отмечен (особенно проф. Талем <149>) основной недостаток проекта в названной области, а именно смешение понятий полномочия и поручения, поэтому здесь можно не останавливаться вновь на этом вопросе, а только предпослать это общее замечание изложению постановлений проекта, относящихся к нашей теме, в объяснение тех неточностей в передаче их содержания, какие в дальнейшем намеренно допускаются. ——————————— <149> Таль Л. С. Договор доверенности или поручения в проекте Гражд. улож. // Право. 1911. N 12 — 13 (то же в Труд. юрид. общества при Петерб. универс., т. V, 52 см.).
Статья 580 проекта предусматривает такой случай: некто, не имея полномочия, действует в качестве представителя или, будучи в самом деле уполномоченным, выходит за пределы полномочия; для представляемого сделки такого лица устанавливают права и обязанности только при условии, что он дал последующее согласие (ratihabitio); если этого не было, он может не считаться с действиями представителя, но если третье лицо, с которым последний вступил в отношения, было добросовестно, оно получает право требовать от представителя по своему выбору или исполнения заключенного обязательства <150>, или возмещения убытков, представитель же не вправе требовать исполнения договора за свой счет <151>. По поводу этой статьи уже отмечалось <152>, что проект не выделяет тех мнимоуполномоченных, которые выступили в качестве представителей, добросовестно заблуждаясь относительно полномочия: в конфликте интересов двух добросовестных лиц — представителя и третьего лица — проект всецело становится на сторону последнего и слишком мало заботится о представителе, было бы справедливее (в случаях добросовестности представителя) дать третьему лицу только иск о вознаграждении за ущерб, проистекший вследствие того, что тот, кого третье лицо считало своим истинным контрагентом, оказывается не связанным сделкой представителя, но не иск об исполнении представителем заключенной сделки. Только в том случае, когда третье лицо знает об отсутствии полномочия, а представитель заблуждается, последний не подвергается никакой ответственности перед третьим лицом. Кроме того, ст. 580 не касается вопроса об обратной силе ratihabitio и о судьбе прав, приобретенных добросовестно за промежуточное время между сделкой представителя и ratihabitio представляемого. Думается, было бы желательно сделать соответствующие дополнения к постановлениям проекта. ——————————— <150> Против такого навязывания сделки лицу, явно ее не желавшему, А. Винавер. Вестн. гр. права. 1915. N 25. <151> Ср.: Шв. об. пр. 39, Герм. улож. 177 — 179. <152> Винавер. 1. с.
Относительно деятельности представителя проводится тот руководящий принцип, что объем полномочия истолковывается применительно к обычному пониманию отношений, кроме некоторых указанных в законе действий, которые должны быть прямо предусмотрены в акте полномочия (проект, 563 — 565), но, конечно, и этот принцип должен иметь применение лишь в отношении добросовестных третьих лиц, так как только для них могли бы быть сюрпризы, спутывающие их хозяйственные расчеты. В нашем проекте это обстоятельство отмечено в ст. 582, постановляющей, что действия представителя в пределах полномочия обязывают представляемого, хотя бы представитель отступил от преподанных ему ограничительных указаний, если только эти указания не содержались в самом акте уполномочия и остались неизвестны третьему лицу; таким образом, в этой норме выражена мысль, что указанный принцип толкования полномочия имеет место лишь в отношении добросовестных третьих лиц. Если о выдаче полномочия одним лицом другому было уведомлено третье лицо, то и об отмене полномочия также должно быть сообщено третьему лицу. Если уполномочивший этого не сделал, он, несмотря на отмену полномочия, может оказаться связанным действиями своего представителя, именно он отвечает перед добросовестным третьим лицом, не знавшим об отмене полномочия <153>. Швейцарское обязательственное право содержит между прочим норму (ст. 36), что если представитель по прекращении полномочия не вернул выданного ему документа, а представляемый его к этому не побуждал, последний отвечает перед добросовестным третьим лицом за ущерб. Статья 593 проекта ограничивается лишь указанием, как доверителю вернуть себе или погасить верющее письмо или иной акт полномочия, а с другой стороны, ст. 595 оставляет третье лицо, даже добросовестное, но не оповещенное представляемым о выдаче полномочия, без возможности чего-либо искать от представляемого, если представитель по получении известий о прекращении полномочия совершит какие-либо сделки в качестве представителя, третье лицо может тогда искать свои убытки только с представителя. ——————————— <153> Проект. 588; ср. Шв. об. пр. 34; Герм. улож. 170 — 173.
Статья 594 проекта особенно нуждается в более точном изложении. Здесь, с одной стороны, заключена та мысль, что если доверенность отменена или прекратилась вследствие смерти доверителя, но до поверенного известие о прекращении доверенности еще не дошло, то в пользу поверенного предполагается, что поручение сохраняет силу <154>; с другой стороны, той же статьей выражается и та мысль, что, поскольку ведется речь о представительстве, сделки, совершенные в этом случае представителем, признаются обязательными для представляемого и его наследников только при условии, если третье лицо добросовестно считало контрагента за представителя другого субъекта; если о прекращении полномочия третьему лицу было известно, оно не может основывать каких-либо притязаний к представляемому на сделках представителя <155>. Таким образом, ст. 594 имеет в виду оберечь интересы добросовестных третьих лиц, имевших дело с лицом видимо уполномоченным, полномочия которого в действительности прекратились. Из содержания этой статьи вытекает, что если представитель еще не знает об отмене полномочия, а третье лицо знает, то действия представителя не обязывают ни его, ни представляемого. Было бы нелишним оговорить этот случай особо <156>. ——————————— <154> Ср.: Шв. об. пр. 547, 561, 606; Герм. ул. 674, 675, 729. <155> Ср.: Шв. об. пр. 37, Герм. ул. 169. <156> Ср.: Герм. ул. 179.
Некоторыми статьями проекта за добросовестностью признается то значение, что раз установились известные правовые отношения, их дальнейшее существование отрешается от фактического состава, который их породил: фактическая обстановка может измениться, обстоятельства, при которых данные отношения создались, отпасть, а эти отношения, раз только лицо, которого дело касается, было добросовестно, сохраняются. Такова ст. 281, по которой права третьих лиц, возмездно и добросовестно приобретенные на подаренное имущество, отменою дарения не нарушаются. Здесь, следовательно, несколько иное положение, чем в рассмотренных ранее случаях, когда оберегается право добросовестного лица, несмотря на отсутствие какого-то из элементов, необходимых для его приобретения, т. е. оберегается право, строго говоря, не приобретенное. В данной же категории случаев при возникновении права никакого дефекта нет, но потом наступают новые факты, подрывающие легитимацию auctor’a <157>. Идея неприкосновенности добросовестно приобретенных прав отразилась, хотя и в иной форме, также на ст. 250 проекта. Если продажа сопровождалась соглашением о праве преимущественной покупки, а покупщик продал затем имущество, не предложив предварительно продавцу купить его или сообщив ему неверные сведения об условиях, то продавец может воспользоваться правом преимущественной покупки, но если совершилось внесение акта о продаже недвижимости в крепостную книгу или если недвижимость традирована третьему покупщику, право преимущественной покупки продавца теряется, ему дается лишь иск об убытках к своему контрагенту. Этой нормой проект хочет оградить интересы третьего покупщика и обеспечить устойчивость оборота. Однако такой защиты заслуживает лишь добросовестный покупщик, который не знал (и не должен был знать) отношений между продавцом и первым покупщиком; если же новый покупщик действовал недобросовестно, а также если акт о праве преимущественной покупки был отмечен в реестре крепостных дел, так что у покупщика была возможность узнать об этом соглашении, проект не защищает его и признает за продавцом право преимущественной покупки. ——————————— <157> Относительно приобретений третьих лиц по фраудаторным актам должника см.: Гримм Д. Д. Оспаривание актов, совершенных во вред кредиторам // Вестн. гр. пр. 1915. N 6. 45 сл.
§ 8. Влияние добросовестности на размер ответственности
Подобно другим кодификациям, проект обязательственного права знает случаи, когда добросовестность служит основанием для смягчения ответственности лица. Конечно, и здесь задача законодателя не в том, чтобы устанавливать награду за добросовестность, но лишь предупреждать по возможности нарушение правильного течения хозяйства, устранять такие последствия, которые не могли иметься в виду <158>, так что их наступление вредно отразилось бы на том хозяйстве, которого они коснулись бы. ——————————— <158> Ср.: Шв. об. пр. 64: nicht in gutem Glauben war oder doch mit der Ruckerstaitung rechnen mussie.
С этой точки зрения лицо, добросовестно получившее от кого-либо имущество или имущественную выгоду без законного на то основания, отвечает не в размере убытков того, из чьего имущества произошло поступление, но только в размерах наличного обогащения (ст. 116, 1168 и др.). Если добросовестность не служит для законодателя основанием награждение лиц, ее проявивших, то обратно недобросовестность нередко влечет за собой известные неблагоприятные последствия: законодательство борется с недобросовестностью как вредным для общественной жизни фактом. Этот мотив виден, например, в ст. 1170: если лицо недобросовестно воспользовалось чужим имуществом или услугами по несуществующему или недействительному обязательству, оно отвечает по правилам о вознаграждении за вред, причиненный недозволенными действиями. Точно так же если лицо присваивает себе чужое имущество, его ответственность определяется более строгими правилами о недобросовестности владения, причем ответственность не смягчается даже в том случае, если имущество после присвоения погибло или повреждено вследствие случайного события: ответственность не имеет места только тогда, если удастся доказать, что гибель или повреждение имущества произошли бы от того же события и при нахождении имущества во владении потерпевшего (ст. 1188). Сюда же следует отнести ст. 1038: страхователь соблазнился возможностью застраховать имущество свыше его действительной стоимости; ст. 1038 постановляет, что если это сделано недобросовестно, страхование считается недействительным, так что всякие права страхователя погибают, но за страховщиком сохраняется право на премию. По поводу того же страхового договора проект (ст. 1029) постановляет, что умолчание или неверное сообщение страхователем (или его представителем) об обстоятельствах, им известных и могущих иметь существенное значение для установления условий договора, дает страховщику право отступиться от договора, но если страховщик знал или должен был знать об этих обстоятельствах или имел (либо должен был иметь) о них правильные сведения, он не вправе отступиться от договора (ст. 1030). Также по ст. 1025 договор страхования, действие которого распространяется по соглашению сторон на предшествующее его заключению время, признается недействительным, если при его заключении страхователю было известно, что несчастье, от которого имущество застраховано, уже наступило или страховщику было известно, что возможность сего несчастья уже миновала. Страховщик в первом случае сохраняет право на премию, а во втором обязан возвратить ее страхователю. Эта категория норм, далеко не исчерпанная предыдущим перечнем, построена на простых, понятных соображениях и особых объяснений не требует. В заключение отметим лишь один случай, не подходящий под указанную в начале этого параграфа рубрику, но близкий к ней тем, что извинительное неведение известных фактов делает в этом случае положение лица более благоприятным. Мы имеем в виду ст. 33, устанавливающую обязанность лица, оспаривающего действительность договора как заключенного под влиянием ошибки, возмещать другой стороне отрицательный интерес. Правда, ст. 33 ни одним словом не упоминает о добросовестности другой стороны как необходимом условии применения содержащегося в этой статье правила. Из объяснений к соответствующей ей ст. 66 Общих положений 1903 г. видно, что это условие подразумевалось составителями само собой; касаясь обязанности оспаривающего договор вознаграждать другую сторону за убытки, редакторы прибавляют: «…если, конечно, эта последняя (сторона) действовала добросовестно, т. е. во время заключения договора не знала о последовавшей ошибке». В кн. V проекта 1899 г. ст. 33 прямо упоминала об этом условии: «…сторона, оспаривающая действительность договора как заключенного под влиянием ошибки, обязана, если впала в таковую по собственной вине, возместить убытки, понесенные другою стороною, разве бы последняя во время заключения договора знала об ошибке». В литературе уже отмечалось, что исключение последней фразы в позднейших редакциях статьи является ее ухудшением <159>, и с этим нельзя не согласиться. Оставлять такое важное и необходимое условие не выраженным в тексте закона нет никаких оснований <160>. ——————————— <159> Покровский И. А. // Вестн. гр. права. 1904. N 1, 90. В том же месте проф. Покровский возражает против того, что возмещение убытков ставится в зависимость от вины заблуждавшегося, и отдавал в этом отношении предпочтение § 122 Герм. улож.; последнее замечание теперь принято во внимание, и упоминания о вине ни ст. 29, ни ст. 33 проекта не содержат. <160> Ср.: Шв. об. пр. 26.
Мы закончили рассмотрение важнейших случаев признания проектом обязательственного права принципа доброй совести. Сопоставление относящихся сюда норм позволяет признать, что этот принцип получил в проекте довольно видное значение, и в этом одно из достоинств проекта. Лозунг «Не обманешь — не продашь» и подобные ему при современном развитом гражданском обороте перестают быть выгодными даже для отдельного лица, причина тому кроется в сложности и взаимной зависимости отношений, в которых каждый состоит, так что проведение названных лозунгов в одном из отношений неблагоприятно отражается в других отношениях. Если брать не отдельное лицо, а общество, интересы оборота, то пагубное действие недобросовестности становится еще более очевидным. Это особенно сказывается в области обязательственного права, где доверие — основа всех правоотношений. Разумеется, одно провозглашение принципа в законе еще не служит гарантией, что он привьется к быту, получит действительное осуществление в жизни. Не лишено справедливости мнение <161>, что сложность современного оборота, господствующие в нем принципы свободной борьбы за право и уважение к свободе человеческой личности препятствуют созданию действительных средств для борьбы с недобросовестностью. Однако, с другой стороны, нельзя все-таки отрицать и воспитательного значения закона. Это соображение заставляет внимательно и с надеждой отнестись к более широкому и последовательному проведению идеи доброй совести в нашем проекте и ждать оздоровления гражданского оборота, в котором ныне, по довольно единодушному признанию, далеко не все обстоит благополучно. ——————————— <161> Синайский. II. 39. Пр. 2.
——————————————————————