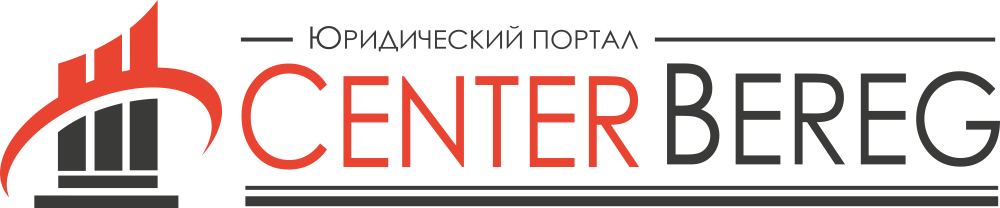Пользуясь приглашением
(Арановский К. В., Князев С. Д.) («Журнал российского права», 2007, N 10)
ПОЛЬЗУЯСЬ ПРИГЛАШЕНИЕМ…
К. В. АРАНОВСКИЙ, С. Д. КНЯЗЕВ
Арановский Константин Викторович — профессор кафедры международного права ДВГУ, доктор юридических наук.
Князев Сергей Дмитриевич — заведующий кафедрой государственного и административного права ДВГУ, доктор юридических наук, профессор.
Завершая свою новую монографию «Юридическое лицо публичного права», Вениамин Евгеньевич Чиркин предложил ее обсудить, и мы решились участвовать. Развиваемая автором тема, во-первых, представляет интерес сама по себе, и, во-вторых, работа профессора В. Е. Чиркина, кажется, открывает обсуждение серии вопросов публичного права и дает поводы к размышлениям по методологии исследования, о ресурсах юридической науки и еще о многом. Монографию непросто передать в реферативном изложении, вернее, читать саму эту книгу. Одобряющие анонсы ей тоже не нужны — академическое имя В. Е. Чиркина и есть знак высокой пробы. Но отозваться на событие в науке публичного права, наверное, уместно, поскольку автор работал с намерением вмешаться в тот важный ее фрагмент, где сохраняется неоправданная приблизительность. Оно заслуживает солидарности. Выступая среди первых в заявленной теме, автор в своем начинании не одинок, потому что идея развить ресурс публичного права витает, что называется, в воздухе. Скажем, кафедра государственного и административного права юридического факультета СПбГУ свои последние конференции ведет по таким темам, как договор в публичном праве, принуждение, публичные услуги. К ним примыкают публичная власть и публично-правовое представительство, публичные интересы, долженствования и права в их соотношении, основаниях, объектах и видах, включая суверенитет, полномочия, публичные права граждан и прочее. Миновала, наверное, та пора, когда недостаток определенности среди базовых понятий публичного права убедительно объяснялся его относительной новизной или отставанием от цивилистики, известным в обществах, вовлеченных в романо-германское право. Дело не в том, чтобы, поспевая за цивилистикой, наполнить публичное право сопоставимыми категориями. Нужно отозваться на потребности науки, среди которых желание сравняться — не первостепенная нужда. Понятийный дефицит уже не списать на исторически обусловленную зависимость публичного права от права частного. Во-первых, зависимость от чего-либо достойного не предосудительна, но обязывает к совершенствованию. Во-вторых, она представляет собой во многом лишь миф, довольно влиятельный, правда. Явление юридического лица едва ли сложилось в частном праве первоначально, чтобы перекочевать потом в публичное право. Скорее наоборот. Рим знал гражданскую общину, институты власти, другие публичные правосубъектные образования, а в частном праве фигурой был paterfamilias, заслонивший правосубъектность самой семьи и ставший точкой отсчета для правосубъектности зависимых лиц. «Неопределенные лица» предназначались для особых случаев, причем в позднем римском праве, когда в нем появилось прежде не известное завещание — personae incertae, в лучшем случае предвестник юридического лица — давая завещанию адрес, оно было откровенной фикцией без выраженной правовой индивидуальности. И фиктивные, моральные, сокровенные (personae fictae, morales, mysticae) лица с их ограниченным распространением и узостью функций — не эквивалент юридическому лицу. Напротив, олицетворение гражданской общины (civitas), трибы, города, муниципии, народов (gens), иных коллективностей было обыденным, естественным и необходимым, как и греческих фил, демов, полисов. Предшественник юридического лица скорее отыщется в корпорации, вошедшей сначала в публичный правопорядок. Нельзя не согласиться с профессором В. Е. Чиркиным в том, что распространять черты юридического лица, усвоенные цивилистикой, на его публично-правовую разновидность неверно. Юридическое лицо по частному праву образует отдельный вид в семействе себе подобных, и в публично-правовом обиходе оно проявляется в таких ролях и свойствах, которых частное право не знает. Европейские сообщества или политическая партия образуются не по подобию коммерческого товарищества, а в иной логике, и в ретроспективе государство (королевство <1>, республика), муниципалитет, политически деятельная церковь, приход, бург, коммуна обрели правовую индивидуальность прежде, чем в университетах и кодексах повели речь о юридических лицах. ——————————— <1> Впрочем, в эпоху феодализма частноправовое начало вышло вперед, когда само королевство считали не столько государством в нынешнем образе политически организованной нации, сколько домицилием государя — kingdom, то есть объектом, как и феоды, нежели субъектом. Города в эту пору то и дело вступали в правоотношения из положения корпорации, располагая с виду не публичной властью, а частной самоорганизацией, правами-привилегиями по договору или хартии, по милости суверена.
Определенность в базовых понятиях публичного права действительно нужна в научном и прикладном юридическом деле, пока не вредит движению мысли. Хорошо, если бы порядок в этом смысле помог оградить законодательство от порывов административно-законодательной фантазии, развить правовую лексику в семантическом, содержательном смысле, а не ради одной лишь словесности, качество которой, правда, тоже дорогого стоит. В публично-правовой тематике правосубъектность, включая юридических лиц, заслуживает быть заглавной темой, потому что прежде деятельности, наполняющей собою публичное право, располагается сам деятель — персона, воспроизводящая право и в него помещенная. Действующую в буквальном смысле часть правопорядка образуют лишь люди, единственно способные мыслить и чувствовать право, ставить себя и окружающих в его координаты. Но правовая природа человека так устроена, что ему не обойтись без соучастников, и он неизбежно населяет юридический быт искусственными образованиями и естественными общностями, располагая их то наравне с собой, то выше себя. Их неустранимость вынуждает науку считаться с присутствием юридических лиц публичного права. Не все только располагает к согласию с представлениями автора о потребностях публичного права и далее о рамках исследования. В книге В. Е. Чиркина потребности публичного права собираются преимущественно вокруг законодательства, улучшить которое нужно средствами научного вмешательства. Такой акцент можно понять. Уже лет двести-триста, как в романо-германской правовой мысли и в зависимых от нее идеологиях прежняя вера в правотворящую силу разума решительно сузилась до того, что в легальных носителях разумной воли остались государство и народ, а в источниках права — законодательный акт. Это вероисповедание остается в силе и направляет юридическую науку главным образом, к изучению и критике законодательства, его интерпретации и применению, а правовой прогресс подает как прогресс законодательства, а заодно и правосознания с правоприменением, состоящим у него на службе. Прибавим сюда гражданственность, и задача науки вполне определится — дать материал, чтобы законодатель сложил разумные законы, а прочие понимали бы их и соблюдали. В этом измерении автор преимущественно и решает исследовательские задачи. Другое дело, что само измерение допускает поправки. Едва ли возразят тому, что право регулирует общественные отношения, что эти отношения создают участники правового общения своим поведением. Ближайшим же руководителем поведения человека выступает его психика, сложное сочетание иррациональных и когнитивных компонентов, где рациональное начало (правосознание) действует не в одиночестве и не господствует. Мысль сама по себе не побуждает к поведению и не тормозит активности <2>. Движут человеком и тормозят его подвижность аффекты, чувства, действующие сообща или разобщенно, вместе с интуицией и воображением, вслед социальным рефлексам, навыкам и прочему, что не подчиняется рассудку, а скорее само направляет течение мысли <3>. Если брать их в расчет, то исследование расширяется дополнительными объектами и возможностями. ——————————— <2> Разве отвлеченное суждение, скажем, «человек может быть убит», побуждает к поступку или удерживает от него? Вмешательство же чувства (страх, любовь, солидарность), воображения (представления человека в образе ценности), усвоенных и ставших автоматизмами социальных навыков и прочего подобного создает мотивационную силу, порождающую поведение, подчиненное запрету убийства. <3> Попытаемся, к примеру, вызвать в себе какую-нибудь, вообще любую, мысль, но последить, чтобы ее не побуждало ни чувство интереса, любопытства, удивления, ни чувство необходимости выполнить задание, ни задор спорщика, решившего из противоречия доказать возможность появления мысли свободно от всякого чувства. Правда, мысль может работать автоматически, как процесс, когда-то усвоенный или унаследованный генетически. Но и тут ее движение, как и проявление неосознанных рефлексов, протекает тропами, которые прежде были пробиты силой аффектов, и совершается, конечно, не без их вмешательства. Когда нарушаются законы логики, наша мысль будто бы сама берется их исправлять — ее направит чувство логической несуразности, своего рода неуют, побуждающий рассудок к работе в соответствующем направлении. Этот попутный эксперимент, если его результаты регистрировать аккуратно, не позволит нам сомневаться в зависимости мышления от эмоциональности, вообще от иррациональной части нашей психики. Давно усвоенная и несколько заносчивая вера в разум воспротивится, вероятно, такому выводу и заставит его опровергать, скорее всего, с досадой, но и это сопротивление (непроизвольное, заметим) еще раз подтвердит все ту же зависимость.
Что до нужд общества, то наука доказала свою состоятельность в их обслуживании, но значительные результаты, не странно ли, она чаще дает, когда не связана социальным запросом и следует интересам истины как собственной цели. Польза от науки (как и от искусства) наступает не потому, что ученый вовлекается в разрешение социальных неустройств, а большей частью потому, что он создает достоверное <4> и оттого полезное знание. Рентгеновское излучение открыли не потому, что хотели изобрести полезный аппарат; Ф. М. Достоевский писал романы огромной нравственной силы не в приступе морализаторства. Выдающиеся результаты получаются, когда свои мысли и чувства ученый посвящает истине. Прикладные изыскания, спору нет, нужны, но и здесь наука часто достигает не заданного, как в инженерном деле, а неожиданного результата. Любопытно, что ни Юстиниану, ни Льву VI не удалось их намерение — оживить и увековечить римский правопорядок, зато компиляции и Базилики, созданные под их началом, возвели знания о праве на недосягаемую высоту. И от монографии В. Е. Чиркина вернее ждать не эффектных последствий в законодательстве, а приращения знаний, которые не нужно ничем оправдывать. Практическая польза едва ли заставит себя ждать, но и вряд ли проявится прямолинейно. Ожидания по этой части почти всегда бывают обмануты — ведь люди осваивают знания, предложенные наукой, вслед своим способностям и мотивам, а их направление не совпадает с тем, что кажется верным в свете ученой логики, и ученый ими не руководит. ——————————— <4> Говоря о знании достоверном, мы не имеем в виду знания, всякий раз и непременно, непогрешимо истинного. Такого, наверное, и не бывает. Но на достоверное знание человек может положиться, а доверившись — действовать. Авторитет науки позволяет такое знание создавать и вручать его обществу, которое по большей части и берет его на веру, не проверяя (не умея и не желая компетентно проверить) его истинность. Правда, с появлением научного позитивизма доступность верификации сделалась научным стандартом. Но в принципе это дополнительная и не единственная опора науки. Она лишь усиливает убеждающую власть науки, но не определяет ее в существе, потому что ученость и так дает знанию необходимое основание достоверности — способности вызывать доверие к себе. Свидетельством тому — обширные области науки, особенно в гуманитарных ее отраслях, где по-прежнему господствует догматика, а не верифицируемое знание. По большому счету, даже заблуждения, обрамленные в оболочку науки (и религии, магии, включая алхимию, астрологию и проч.), полезны обществу уже тем, что дают ориентиры поведения, позволяя действовать не просто вслед природным инстинктам человека, но вслед осмысленной цели. А уж пустившись в осмысленный путь к обещанным (часто недостижимым) целям, он в итоге чего-нибудь да добьется в преступлениях, благодеяниях или в рутине, но, во всяком случае, в действии.
К сказанному примыкает вопрос об объекте исследования, которому сотни две лет. В нем продолжается дилемма между классической традицией европейских университетов и моделью естественнонаучного позитивизма <5>. Ее выражает, в частности, состав источников и аргументов, вовлекаемых в исследование, — так повелось, что в университетской классике положено опираться на литературные источники, где заявлены истины либо заблуждения, а в позитивизме — на эмпирический материал и на литературу, если она его содержит. Традиция университетов тяготеет к дискуссии в спектре мнений, где в согласии либо в разногласиях доказывают свое; позитивизм — к изучению положительно представленных явлений, с которыми исследователь общается не как заинтересованный сторонник, но как наблюдатель. Даже когда объектом становится он сам (его организм, поведение, идеи, психика) в состоянии интроспекции, он запрещает личным предпочтениям влиять на результат исследования, ибо тот заранее не известен, разве что предполагается в гипотезе. Университетская же традиция как потомок схоластики, математики и других учений, полагающихся на аксиомы, позволяет вести дедуктивное исследование с верой в известную (этически верную) истину и с решимостью ее утвердить <6>. ——————————— <5> Речь не идет о юридическом позитивизме, который, имея генетическое отношение к общему позитивизму, все же остается частью классической догматики. <6> Если прежде истину извлекали из Откровения и догматов, развивая на их основании знания в союзе или в оппозиции с другими точками зрения, то со временем ее источником стали гражданственность, мораль, духовность, поставленные на пристойную дистанцию от веры и принявшие отвлеченно-светский вид, но не лишенные метафизического содержания.
Так, выражение по формуле «такой-то закон регулирует такие-то отношения…» не встречает наших возражений — зачем еще создавать законодательство! Мы свободно используем его будто бы в описании реальных фактов как метафору, подчиненную постулату о преобразовательной законодательной воле, забывая, что регулятивный эффект дает не собственно законодательство, а, скажем, состояние лояльности, мыслительная, эмоциональная деятельность человека, его вера в закон и связанные с этим условности. Добавим сюда и веру в торжество справедливости, в неотчуждаемость прав, убеждение в том, что нормы права есть веления, непременно обеспеченные ответственностью на случай неисполнения, и прочее из области должного, что привычно принимают за неизбежное или за сущее. Когда юридическая мысль следует этой вере, ученый входит в роль умного гражданина, служителя и просветителя. Отвлечься от нее юристу, быть может, труднее всего, потому что он призван не только изучать право, но и честно, то есть пристрастно, в нем участвовать, выполняя юридический ритуал, содействуя просвещению и правопорядку. Ему нельзя не верить в закон или в идеал неотвратимой ответственности, подчиняясь условленным представлениям о должном. Содействовать ли потребностям правового регулирования, заранее известным и правильным, чтобы назвать меры к их удовлетворению, — наблюдать и объяснять ли право в поведении, восприятии, интерпретациях, настроениях? Уклониться от этого выбора невозможно. В. Е. Чиркин сочетает в своем исследовании оба подхода, акцентируя внимание, надо думать, на университетской классике с ее преимуществами и слабостями. Она, однако, не господствует безраздельно, и автор «Юридического лица публичного права» как наблюдатель-натуралист проницательно замечает те стороны изучаемого объекта, в которых тот реально проявляется, например, в номинальной идентификации, что делает исключительным значение имени юридического лица и любого иного субъекта <7>. И акты правосудия он не принимает за источник непререкаемых истин, как было бы правильно в классическом каноне, но видит в них изучаемый факт <8>. ——————————— <7> Недаром участники второго раздела Польши условились не упоминать ее имени, полагая, что с его выходом из оборота прекратится и само государство как субъект. Намерение не удалось, потому что поляки сохранили имя и образ своего государства, но сама постановка вопроса отражает значение имени в судьбе любого субъекта, особенно условного, юридического лица. <8> Действительно, суд, даже Конституционный, не предназначен изрекать окончательные истины. Главное, чтобы он разрешил конфликт, принявший форму правового спора, да так, чтобы стороны могли с этим примириться. Достижение истины средствами правосудия — не практическая задача, а метафизическая цель даже в инквизиционном (следственном) процессе, не говоря уже о процессе состязательном, где она даже не поставлена в положение господствующего идеала.
Правовая действительность не замкнута в границы законодательства и подчиненной ему практики. Законодательство выступает влиятельной частью правовой среды, атрибутом правового общения. Но эту роль, особенно в романо-германском праве, ему обеспечивает иррациональная, по сути, вера в закон. Она ведет к соучастию в праве, но к пониманию права, включая природу и положение юридических лиц, приближает их изучение в поведении и психике людей, представленных в разных качествах и отношениях. Профессор В. Е. Чиркин так и поступает, замечая, например, что существование юридического лица подтверждает его признание (с. 46) — психический акт. Даже человек становится субъектом права потому, что в нем признают носителя прав и обязанностей. Не напрасно автор сомневается в пригодности «физического лица» как достоверного понятия — физическое существование еще не влечет правового признания. Свидетельством тому — рабство и сходные состояния, еще не упраздненные. Сейчас отношение к человеку как к вещи или объекту, кажется, повсеместно отвергают. Но торговлю людьми, которая требует международной борьбы, важно оценить не в свете беззакония, но и как факт, доказывающий, что правосубъектность не предопределена даже в человеке. Как и для юридических лиц, она определяется отношением к нему. С христианством, особенно в гуманистическом течении, человеку присвоили правосубъектность окончательно — в идеале, но не всегда в чувстве и в правоотношении. И в Риме исходным субъектом был не собственно человек, а семья — образование, скрепляемое силой patria potestas, где сам господин — paterfamilias не может по завещанию распорядиться лицами и вещами, которые, пока он жив, ему подвластны, но принадлежат familia. И Папа Римский разъяснял пастве, что с индейцами нужно обращаться как с людьми. Так что даже правосубъектности человека нужны основания. Но когда люди обнаруживают их в себе и в окружении, они признают субъекта в чем угодно. Вину и ответственность, права и обязанности тогда припишут и предметам, образно их одушевляя, и метафизическим образованиям, богам, государству, юридическим лицам. Правосубъектность последних особенно зависит от признания, потому что они вызываются к жизни и вовлекаются в право лишь силой воображения, интуиции, мысли, правового чувства. Но в том, что их признание совершает непременно государство, автору можно возразить. Во-первых, государство не ведет психической деятельности и, стало быть, не может кого-либо признавать. Ему приписывают это умение, отчего люди могут именем государства совершать и акты признания юридических лиц. Но тут нужна поправка о том, что юридическое лицо образуется признанием от лица, именем государства. В догматике она почти незаметна, но если оставить обязательную солидарность с правыми аксиомами, то она станет существенной. Во-вторых, монополия государства на признание не безусловна и не повсеместна. У англосаксов с их принципом «Правление закона, а не человека» правосубъектность скорее поймут как состояние, созданное вмешательством закона и актами его действия (скажем, правосудия), а не волей государства. И за пределами англосаксонской реальности спонтанно, но постоянно по своей повторяемости образуются разного рода правосубъектные фигуры без видимого участия государства. Мы время от времени обыденно, в наивном правопонимании приписываем разным присутственным местам, конторам, политическим структурам правовую личность с некоторыми правами, обязанностями. И государство за спиной таких «юридических лиц» мы видим не всегда, но иной раз припишем их происхождение закону, праву. И получаем порой ответы, соразмерные своей правовой интуиции, потому что в ней мы не одиноки, а часто скоординированны. Частью природное, отчасти усвоенное юридическое «чутье», невнятное в рациональных обоснованиях, но уверенное в эмоционально-интуитивном смысле, дает не совсем тот ассортимент субъектов, что изображен в законодательстве. Это важно понять не как порицаемое отклонение, а как неотменяемый факт правовой обыденности. Что же обеспечивает правовое признание? Человек склонен различать субъекта права в том, кого он может хоть в чем-то себе уподобить. Антропология, строение человека таковы, что он берет в контрагенты лишь тех, кого может обозначить понятием «кто», отделив одушевленное существо от предметов (объектов) без души. Субъекта можно распознать, когда тот предстает не в голой материальности, но в чем-либо деятельно-осмысленном, например, в проявлениях воли, либо видится в деянии, одухотворяемом и руководимом силой естественного закона. От объекта, пассивного предмета, субъекта отличает не ценность — их могут уравнять, возмещая, например, личный вред имуществом и даже поставить объект выше субъекта — имущество можно беречь, а его владельца — юридическое лицо ликвидировать и бросить за ненадобностью. Но объекту не присвоят прав и обязанностей, пока воображение не одушевит его в интуитивном уподоблении. Субъекта образно видят в выразительных, нередко человеческих, признаках <9>. Когда этот признак лицо — субъекта представят в способности к слову, взгляду, выражению, то есть к деятельности, локализованной в районе лица. В латинской античности это основная ассоциация — именно persona (букв. — лицо, личина, маска) обозначила субъекта в римском праве. Ее легко усвоить, что и сделали, например, русские; ее поймут в разных культурах, но не везде она господствует. Иной раз правовое чувство сопротивляется олицетворению субъекта — участников процессуальных отношений нам обычно легко определить как лиц, участвующих в деле, но попробуем назвать лицом сам суд. Непроизвольно, не вдаваясь в объяснения, мы почувствуем в этом нечто несуразное, потому что суд образно предстает не как личность, а как инструмент или орган закона, права, действующий не с намерениями и волей, а беспристрастно и нелицеприятно — невзирая на лица и возвышаясь над ними. Суд — субъект права, лишенный лица, и в образе Фемиды это выражено завязыванием глаз, пресекающим одну из функций лица. ——————————— <9> Кроме признаков, полученных от природы, на первый план могут выступить атрибуты искусственные — не лицо, а, например, татуировка, тотемное изображение, знаки инициации субъекта с известным статусом.
Субъекта можно представить и в телесном образе. Тогда его узнают не столько в разумно-волевом выражении или в слове, сколько в деле, положительно представленном деянии. Кто-то или некто (somebody, anybody…) тогда распознается с ударением на телесное движение, что отчасти ослабляет прямолинейную ассоциацию всякого субъекта с человеком, позволяет несколько ослабить его антропоморфный образ, выводить его из природы, где все, включая человека, вовлечены в законосообразное движение. Различие это — не случайность, а проявление общей разницы между этикой свободной воли, разума и этикой естественного закона, фатума, предопределения. Среди объяснений не в последнюю очередь надо учесть чувство жизни — находят ли ее в духовной рефлексии и намерениях либо чувствуют ее в деятельном исполнении предназначенного. Создаваемые этим чувством тяготения косвенно и прямо отзываются на составе субъектов публичного права. Здесь многое зависит от мировоззрения, которое достается в целом готовым народу (родственным народам) через долгую череду поколений. Одни склонны к религиозно-волевому мировидению, где правят боги-демиурги и прочие носители созидающей воли, другие в основе мироздания чувствуют безличный закон и оттого остаются в координатах магии, деизма, каузальности, научного позитивизма. Это не предмет свободы выбора, а сила сложившейся антропологии, где многое зависит от соотношения раздражения и торможения, преобладающего в человеке. При подвижной эмоциональности вернее разовьются значимость воли, высокая цена чувств, намерений и способов их выражения. Сама деятельность и деятель предстанут в речи, мимике, а с субъектом свяжется представление о воле как движущей силе, свободной, в сущности, от прочих причин. Это религиозная ориентация, потому что у воли, разума, слова, которым придают столько силы и смысла, должен быть носитель — божество. Связанная торможением психика ограничивает восприятие, воспитывает уверенность в некотором заведенном порядке, в основе которого не воля, но закон. Со стороны это кому-нибудь покажется чем-то вроде тупости, например, Михаилу Задорнову, и не ему только, но и Генри Миллеру, который видел это свойство в единокровных себе германцах, а физиолог академик И. П. Павлов в развитом торможении найдет признаки природного здоровья, верно направляющего человека к отправлению жизненных функций, как и Дж. Фрезер похвально отзовется о развитом самоограничении. Такая организация психики не располагает человека сочинять себе божества, и они не получают развития, как в Китае или у аборигенов Австралии, либо их оттесняют среди жизненных ориентиров, как у народов германского происхождения, — в пору их язычества и после крещения германцы тяготели к провидению и судьбе, «упраздняя» свободу воли и подчиняя закону даже богов. Их ранний языческий фатализм; арианская ересь против антропоморфности божества; догмат предопределения у блаженных Августина и Кальвина; трактат Лютера «О рабстве воли»; деизм Спинозы, отрицавшего власть Бога над им же созданным законом; неприятие воли у К. Г. Юнга и в американской психологии; англосаксонский конституционализм по принципу «Правление закона, а не человека» — вот лишь отдельные пункты в этой этике закона. Чем больше люди общей культуры полагаются на разум и волю — сугубо человеческие качества, тем скорее они олицетворят субъектов права. Чем теснее интуиция вовлекает их в естественный порядок, в законосообразное движение, тем вернее субъект предстает как тело, движимое по законам причинности, судьбы, природы. Оба типа мировидения представлены во всех культурах, и нельзя сказать, что какой-то из них вполне господствует. Но в этике и психике есть устоявшиеся тяготения и акценты. Невероятно, чтобы ими отличались только индивиды, а целые народы были бы нивелированы. Это невозможно в эволюционном, географическом и в других смыслах. События и природные обстоятельства не могут не оставить следа в человеческих общностях, проживших исторически значительное время. Поэтому в обществах, ориентированных к религии, к этике воли и разума, субъект представлен в деятельности, выражаемой функциями лица, и сам предстает разумной личностью со свободой воли. В обществах, тяготеющих к верховенству закона, субъект соединится с признаками тела, движение которого позволяет исполниться господству законосообразности. Народы германского корня усвоили из римского права понятие лица, но их коренной ассоциацией с субъектом осталось тело. Понятие «corpus», которое в Риме относили больше к предметам, у них возобладало над «persona», по крайней мере в обозначении искусственных субъектов, дав юридической лексике выражения «corporation», «corporate body» (буквально — телесное тело словами латинского и германского происхождения). Понятие «board» мы перевели бы как орган, совет, а Black’s Law Dictionary определяет как «…тело, предназначенное совершать порученное либо исполнять официальные или представительские функции…» <10> — свою законную участь. ——————————— <10> «…An official or representative body to perform a trust or to execute official or representative functions…» Black’s Law Dictionary (St. Paul., Minn., 1991). Тут недалеко и до признания животных субъектами. И ведь к этому идет дело. Не беда, что в животном трудно отыскать волю и разум. Когда ментальное не определяет правосубъектность, довольно и живой телесности — Black’s Law Dictionary придает, надо полагать, телесному смысл, определяя «bodily» как «not mental, but corporal». Телесное (син.: корпоративное), видимо, не предопределяет, но располагает к признанию природного существа субъектом права.
И это не располагает к появлению юридических лиц, что и замечает автор в англосаксонском праве, которому это понятие чуждо. Зато в континентальном праве, особенно к югу Европы, олицетворение субъектов распространено. В доктрине к юридическим лицам отнесут не только коммерческие организации, но и государство, муниципалитет, орган публичной власти, территориальный коллектив, даже народ, что и отмечает В. Е. Чиркин. С этикой воли это, пожалуй, неизбежно. В итоге юридическим лицам припишут волю, намерения, цели, вину и прочее, известное в личности человека, и попутные издержки. Искать волю и разум в условных субъектах трудно, потому что там ее нет, как и в национальных, муниципальных общностях. Лишь настроенное на нужный лад воображение позволит увидеть вектор воли в стихии разнообразных интересов, побуждений, иллюзий, идей и чувств. С тем же успехом волей можно объяснять эволюцию видов или движение материков, где тоже есть направление и видимые человеком результаты. Но волю приходится предполагать, если видеть в субъекте личность. Научные и обыденные суждения в таком понятийном пространстве всегда имеют оттенок фиктивных натяжек, требующих согласованной фантазии участников. В практическом отношении это несколько неудобно, потому что даже необходимые фикции время от времени способны смущать, открываясь в неправде. Взять ответственность юридических лиц, условием которой считается вина. Образуется дилемма, на одной стороне которой — объективное вменение, этически подозрительное, а на другой — вина юридического лица, то есть фикция. Вменить юридическому лицу вину его представителя либо, наоборот, представителю — за действия, совершаемые волей юридического лица? Таковы постоянно решаемые, но неразрешимые противоречия, осложняемые тем, что вина определяется как произведение свободной воли. Без догмата о свободе воли понятие вины отходит в область каузальных зависимостей, где вина — разновидность закономерной причины, что и наблюдается у англосаксов <11>. Допуская уголовную ответственность корпораций, они мыслят вину как объективное основание. Вина субъекта, представленного как тело (в т. ч. corporal body), выглядит не проявлением свободной воли, а деянием, причиняющим вред, что и делает корпорацию доступной обвинению даже в преступлении. В романо-германском праве воображение не позволит этого сделать без противоестественных этических натяжек. ——————————— <11> В англосаксонском праве в мотиве, определяемом конкретными обстоятельствами (интересами), склонны видеть своего рода причину преступления. Без мотива доказывание может быть расстроено за отсутствием у подсудимого и у преступления установленной причины. Мы же причины относим к объективной стороне деяния, а мотивы и вину — к субъективной, оставаясь в том измерении, где свободную волю представляют как силу, отдельную от предопределяющих ее обстоятельств и причин.
Реалистическое правопонимание позволяет заметить, что ответственность вообще не образует непременного элемента в статусе юридического лица, взять хотя бы множество общих и частных иммунитетов, избавляющих субъектов от ответственности отчасти или вполне. Обязанности, бесспорно, входят в статус юридического лица, но ответственности за их нарушение это не подразумевает, если ее специально не ввести там, где это имеет смысл и вообще возможно, где она обеспечена страхом принуждения. В отношении юридических лиц публичного права ответственность — проблема, осложняемая особенностями выполняемых ими функций, вообще их статусом и разнообразием, которое полезно было бы умерить, по возможности, простыми средствами, ослабив административную опеку общества и умерив чиновническое многолюдье. Хотя ясно, что это почти недостижимая цель. Есть и англосаксонский пример, где личная ответственность публичных служащих выполняет компенсационную и еще больше превентивную функцию, отчасти снимая проблему ответственности институтов власти. Впрочем, ряд причин делает это затруднительным в романо-германском праве и в России. Отдельно отзовемся об искусстве классификации в монографии В. Е. Чиркина. Ценность классификационных работ не сводится к получению итоговой номенклатуры имен. Не меньше значат верные основания классификации, объяснения сходств и отличий между явлениями, поставленными в общий ряд. Созданные автором классификации качественно не уступают повествовательной части работы. Учитывая законодательный материал, они не сводятся к воспроизводству представленных там титулов, но включают и таких субъектов, которые в юридических лицах официально не числятся. Упоминая в их ряду территориальные сообщества, автор присваивает юридическое лицо и народу, нации, что наверняка станет предметом споров, но в принципе имеет веские основания в склонности видеть в субъекте права личность. Впрочем, и тут не помешает поправка на разнообразие представлений по этой части, хотя бы в отношении государства. Профессор Мельбурнского университета Шерилл А. Сондерс в личной беседе поделилась с одним из нас любопытным наблюдением. В европейских аудиториях, где ей доводилось выступать, вызывало недоумение то, что среди субъектов конституционного права она оставляет государство не только без лица, но и без упоминания. Но учтем, что у англосаксов государство действительно обезличено и лишь иногда, скажем, в отношениях федерация — субъект или в международном праве выступает отдельной фигурой. В суде, например, стороной выступают народ, Корона, правительство Ее Величества, но именем самого государства не выдвигают обвинений, не заявляют исков, не объявляют приговоров и решений. Оно чаще предстает как состояние, законный строй, как перенятая у греков полития и общее дело граждан (state, polity, commonwealth), нация (nation), наконец, имя и образ которой обычно заменяют личность государства. И в немецкой, французской, итальянской, испанской словесности оно представлено как установление (Staat, Etat, Stato, Estado), со временем все же ставшее на континенте субъектом. По-русски, конечно, государство — уже не принадлежность государя и не установление, а политическая личность. Но в других культурах в иные времена государства как правосубъектной единицы не было. В нем видели не субъекта, но объект прав, установление или вещь, к примеру respublica, владение государя, принадлежность или пространство (land) политического субъекта — Рима или Новгорода, полиса или клана и др. И у мусульман, не считая противопоставления светского султаната исламскому халифату, государство не было субъектом, но был данный Аллахом закон, воплощаемый в Халифате, и подчиненная закону общность (умма) правоверных. Власть персонифицировали, но не в лице государства, а в образе «достойного мужа», халифа, махди и тому подобных фигур. В основаниях классификации юридических лиц автор учитывает их происхождение, что верно, поскольку искусственное и естественное имеют для людей разную цену. На статусе юридических лиц это отзывается непременно. Возьмем нацию, государство, правительство, министерство, субъект федерации, муниципалитет, партию, орган публичной власти, учреждение и далее — не построены ли они, пусть и с оговорками, в ряд по убывающей ценности? Конечно, созданные историей и природой нация, государство, муниципальное образование, бесспорно, дороже, чем искусственно образованный институт. О естественном происхождении поселений в материалах известного удмуртского дела отзываются так, будто это ограничивает права государственной власти распоряжаться их судьбой <12>. ——————————— <12> См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 января 1997 г. N 1-П «По делу о проверке конституционности Закона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 г. «О системе органов государственной власти в Удмуртской Республике» // СЗ РФ. 1997. N 5. Ст. 708.
Размещение В. Е. Чиркиным территориальных коллективов в отдельную группу юридических лиц состоит в коннотации с рассуждениями Мориса Дюверже. Есть, в самом деле, разница между юридическими лицами, определяемая их происхождением, что бы ни писали по этому поводу в законе. Дюверже разделял ассоциации на общество, общность и орден, учитывая характер чувства, которым создается соучастие. Если искусственные общества образуются намеренным объединением в силу договора или вступления, чтобы утолить материальные, интеллектуальные, нравственные, эмоциональные интересы, то общность создается географической, психологической, кровной близостью и образует объединение, предшествующее индивиду. Ее обнаруживают, открывают, избежать ее нельзя, принадлежность эта — природная. Чьи права шире, весомее для человека, обязанности перед кем настоятельнее — перед искусственным обществом или естественной общностью? Ответ не так прост, во всяком случае, не одинаков в разных этических измерениях. Англичане оставят в неприкосновенности графства и приходы, созданные нерукотворной, природной силой традиции и закона. А французы с этикой воли, веруя в правоту разума и сам закон понимая как национальную волю, самовольно пустятся менять географию страны, истребляя правосубъектность исторически сложившихся провинций, заменив их искусственными департаментами, не тронув разве что коммуны. Иные ответы понадобятся в отношении ордена — ассоциации особой модальности, куда вступают как в общество, но, подобно естественной общности, вовлекаются в нее глубинным «я» в тотальном ангажировании, в напряженном чувстве призвания, самоотречения, духовной единокровности <13>. Внутри и вокруг такого лица образуются особого качества правоотношения — опасность, которую, возможно, оно источает, породит организованную с ним борьбу, а внутренняя сила, признаваемая как право, превзойдет, быть может, могущество государства. Законодательство не слишком ясно отражает подобные различия, но они — часть действительности, и та проявит себя в правосубъектности разнообразных юридических лиц вопреки их формальной номенклатуре. ——————————— <13> См.: Дюверже М. Политические партии / Пер. с фр. Л. А. Зиминой. М., 2000. С. 175 — 179.
Правовая действительность в целом, а не только законодательные вмешательства, творит субъектов и различия между ними. Она творит ограниченную правосубъектность организаций, органов, учреждений и пленарную правосубъектность многофункциональных субъектов, таких, как личность, территориальный коллектив. В различии этом много оттенков, и оно требует многих оговорок. Тем не менее правосубъектность человека склонна выражаться в общедозволительном принципе, а народа, государства — в национальном суверенитете. И существо пленарной правосубъектности, включая суверенитет, не в абсолютном или неограниченном праве, а в том, что права и долженствования, ответственность подобных лиц столь же разнообразны, как разнообразна жизнь. Это и понятно, поскольку они образуются не с намерением, как учреждения, партии и другие юридические лица искусственного происхождения. Правовая действительность предстает и в неприятных сторонах, таких, как аномия, невменяемость в обществе, понесшем этические потери, не столько в заблуждениях, сколько от утраты ценностей и веры. Растеряв этические опоры, с ослабленным правовым чувством и с нарастающими страхами, оно не умеет поддержать правовой уклад с системой естественных институтов и беспорядочно ищет им замену. Тогда оно создает искусственные образования, олицетворяя их в понятной, но беспочвенной надежде на кого-нибудь опереться. Обессилевшее, оно сочиняет себе множество комиссий и органов, украшает их титулами и приписывает им могущественные права, возлагая на них ожидания столь искренне или наивно, будто те наделены не воображаемой, а живой энергией личности. И еще не окончен отрезок истории, когда сограждане, оставив настоящие дела, открыли широкое производство юридических лиц. Позволяя своей фантазии оживлять искусственное, многие и сейчас возлагают на этих деятельных лиц публичные обязанности, долг покровительства и заботы. Тем самым этически истощенная совесть полагается на фантомы, избавляя себя от долга и обязанности действовать своими силами и умениями, совершать личный труд и осмысленно рисковать в состоянии гражданской ответственности. Даром это, конечно, не пройдет. И наука, к сожалению, тут немногим поможет. Она способна предъявить действительность, правду и тем помочь оживиться правовому чувству, дать ему направление. Но оживить можно лишь то, что еще живо, да и сама наука движется энергией, совестью, умом вменяемых людей. Однако если она все же продолжается в результатах столь видных, как монография В. Е. Чиркина, то положение дел нельзя считать неисправимо скверным. Сказанное передает лишь отдельную сторону, малую часть наших небесспорных мыслей и предчувствий по прочтении книги. Участвовать в таком чтении — в интересах юридической общественности.
——————————————————————