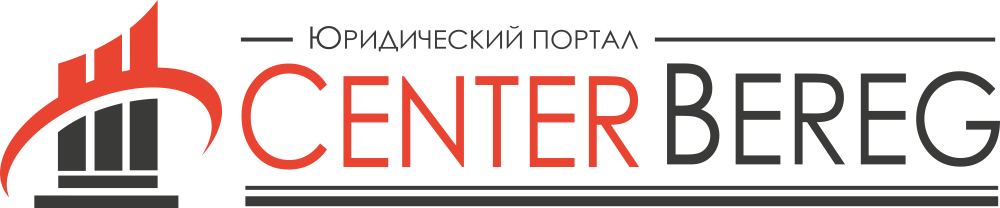Актуален ли Ф. Ницше сегодня и возможно ли его адекватное прочтение?
(Честнов И. Л.) («История государства и права», 2009, N 15)
АКТУАЛЕН ЛИ Ф. НИЦШЕ СЕГОДНЯ И ВОЗМОЖНО ЛИ ЕГО АДЕКВАТНОЕ ПРОЧТЕНИЕ?
И. Л. ЧЕСТНОВ
Честнов Илья Львович, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры РФ, доктор юридических наук, профессор.
В статье анализируется актуальность концептов учения Ф. Ницше в контексте историко-теоретического блока юриспруденции <*>. ——————————— <*> Научное обсуждение монографии Ф. А. Крахоткина «Учение о государстве и праве Ф. Ницше».
В последнее время в нашей стране достаточно активно переиздаются сочинения Ф. Ницше, выходят исследования, посвященные его творчеству <1>. Чем обусловлен явный рост интереса, в том числе в юриспруденции, к фигуре именно этого философа <2>? Насколько актуальны его сочинения (и, возможно, перипетии личной судьбы) для современной историко-юридической науки, истории политических и правовых учений в частности? Размышления над поставленными вопросами заставляют попытаться разрешить более фундаментальную проблему: каковы критерии селекции и оценки исторического материала? Очевидно, что историческая (и историко-правовая) наука неизбежно отбирает из потенциально неисчерпаемого материала, зафиксированного в соответствующих формах (носителях информации), относящегося к прошлому, только некоторый. Другими словами, почему именно эти мыслители прошлого представлены в учебниках по истории политических и правовых учений, а не иные и можно ли обосновать именно такой выбор? ——————————— <1> Эта же тенденция, возникшая несколькими десятилетиями раньше, отмечается и в западной литературе: в результате «революции» в западном ницшеведении 1960 — 1970-х годов рождается совершенно иной Ницше. «Этот новый Ницше, оказавший существенное влияние на западную мысль последних десятилетии, почти неизвестен российскому читателю». См.: Ницше и современная западная мысль: Сб. статей / Под ред. В. Каплуна. М.-СПб., 2003. С. 5. <2> Из последних исследований о Ф. Ницше см.: Марков Б. В. Ницше в России и на Западе // Левит К. От Гегеля к Ницше. Революционный перелом в мышлении XIX века. Маркс и Кьеркегор. СПб., 2002; Человек, государство и Бог в философии Ницше. СПб., 2005; Гранье Ж. Ницше. М., 2005; Крахоткин Ф. А. Политико-правовое учение Ф. Ницше: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2005; Учение о государстве и праве Ф. Ницше. М., 2008.
Чтение современной исторической и историко-правовой литературы приводит к неутешительному выводу: подавляющее большинство авторов не утруждают себя рефлексией по этому поводу. Исключение составляют историко-эпистемологические исследования, относящиеся скорее к философии истории, нежели собственно к исторической науке. Пытаясь эксплицировать критерии селекции (а значит, и оценки) исторического материала, сразу же необходимо заявить, что эта проблема относится к философскому уровню исторической (и историко-юридической) науки. Это связано, как представляется, с очевидным утверждением, что критерии описания, объяснения и оценки какого-либо объекта (системы, процесса, явления) лежат за пределами этого объекта — в метасистеме <3>, так как сущность объекта (если использовать эту метафизическую категорию) выявляется в той роли (функции), которую он осуществляет в среде — во взаимоотношении с другими объектами. В любом случае, проблематика рефлексии над основаниями истории относится к философии истории. ——————————— <3> В структуралистской лингвистике (это не отрицают и постструктуралисты) считается доказанным, что для выбора и обоснования языка описания необходим метаязык.
Очевидно, что сегодня не существует (и вряд ли когда-либо будет существовать) единства взглядов по поводу таких фундаментальных вопросов, как сущность, цель и смысл истории, направленность исторического процесса, задачи исторической науки и т. д. Более того, сами по себе эти вопросы не могут быть квалифицированы как научные, но (и в этом состоит парадокс взаимоотношения науки и философии) без ответа на них историческая наука невозможна. Поэтому тот, кто предлагает какой-либо критерий селекции исторического материала (например, когда берется за написание учебника или учебного пособия по истории), должен определиться с ответом на вопрос, как он понимает историю и историческую науку <4>. Другими словами, историческое исследование должно начинаться с саморефлексии — с эксплицирования исходных философских установок автора. ——————————— <4> При этом важно проводить различие, которое четко эксплицировано в немецком языке (Geschichte и Historie) и отсутствует в русском, английском и французском, когда history и histoire используются в обоих смыслах.
С моей точки зрения, история — это господствующие, признанные экспертным научным сообществом представления о прошлом. Историческая же наука в таком случае — это социальный институт, систематически воспроизводимая конкретными людьми деятельность по производству, фиксации, трансляции и использованию исторических знаний. На чем основывается выбор экспертным научным сообществом тех или иных знаний в качестве научных? Ответ напрашивается тривиальный: на признанных в данную историческую эпоху критериях научности. Однако по поводу того, какое именно знание (особенно историческое) считать научным, сегодня нет единства мнений. Позитивистский критерий научности (или корреспондентской теории истины) однозначного соответствия высказывания исторической реальности наталкивается на не менее сложный вопрос: что представляет собой историческая реальность? Не вдаваясь в дискуссию по данному вопросу (он требует специального рассмотрения), можно утверждать, что в современной западной историографии господствует представление о том, что объект исторического исследования не существует сам по себе как некая объективная данность <5>, а конструируется исследователем <6>. Кроме того, с позиций социальной феноменологии социальная реальность, в том числе прошлая, — это не люди, явления, события и т. д., а их интерпретация участниками событий и «метанаблюдателем» — историком. Или, по-другому, социальный мир — это не мир событий, а мир значений и смыслов, складывающихся по поводу событий. ——————————— <5> Проблематичность так понимаемого исторического объекта связана ко всему прочему с тем, что все они (объекты) представлены вторичными средствами фиксации, всегда неполными и в той или иной степени искажающими саму по себе реальность прошлого, состоящую из событий, персонажей, действий и т. д. <6> По мнению известного американского историка А. Мегилла, «позитивизм ошибочно полагал, что социально-научное знание базируется на фактах, которые просто находятся «там»; как следствие, он игнорировал проблему того, каким образом конституируются объекты антропологического исследования, — например, почему мы начинаем рассматривать некий набор явлений как религиозное движение». См.: Мегилл А. Историческая эпистемология. М., 2007. С. 387. Считается, что конструктивизм в историографии возник в 30-е годы XX в. в исторических работах М. Оукшотта. См.: Oakeshott M. Experience and its Modes. Cambridge, 1978. Однако Г. Зиммель еще в 1923 г. утверждал, что история — это «конструкт, сырым материалом которого служит непосредственно данное. Но его форма зависит исключительно от условий нашего познания». См.: Simmel G. Die Probleme der Geschichtsphilisophie: Eine erkenntistheoretische Studie. Muenchen; Leipzig, 1923. S. V — VI. Сегодня конструктивизм в исторической науке наиболее интересно развивается Л. Голдстейном. См.: Goldstein L. Historical Knowing. Austin, 1976.
Проблематизация исторической реальности приводит историков к критике традиционной историографии и к поискам новых, не столь жестких критериев научности. Так, лидер новой интеллектуальной истории <7> Ф. Анкерсмит пишет: «Традиционная историография основана на том, что можно было назвать двойным постулатом прозрачности. Во-первых, исторический текст считается «прозрачным» в отношении базовой, в данном случае исторической, реальности, в которой текст фактически появляется в первый раз. Затем исторический текст рассматривается как «прозрачный» в отношении суждения историка о релевантной части прошлого, или, другими словами, в отношении историографических намерений, с которыми историк написал текст. Согласно первому постулату прозрачности текст предлагает нам взгляд «сквозь текст» прошлой реальности; согласно второму, текст — полностью адекватное средство выражения историографических представлений или намерений историка… Парадоксы этой двойной связи могут быть решены только в том случае, если будет возможной полная идентификация реальности прошлого и интенции автора. С точки зрения исторического объекта — прошлого самого по себе — такую возможность создал Ранке, требуя от историка полностью «изъять» себя из своей работы в пользу прошлого. А с точки зрения познающего субъекта — историка — ее создал Коллингвуд средствами его процедуры «перепридумывания» <8>. ——————————— <7> О новой интеллектуальной истории см.: Kelley D. R. Prolegomena to the Stady of Intellectual History // Intellectual News. 1996. N 1. <8> Анакерсмит Ф. История и тропология: взлет и падение метафоры. М., 2003. С. 262 — 263. В другом месте он прямо утверждает: «Историческая реальность — не данность, а конвенция, созданная эффектом реальности». См.: Там же. С. 289.
В связи с вышеизложенным справедливым представляется утверждение А. Мегилла, что «наши представления об историческом прошлом не могут быть уложены в традиционную философскую концепцию достоверности. Соответственно, мы утверждаем, что достоверность в этом смысле должна быть навсегда отвергнута в качестве критерия исторического знания. Вместо этого, поскольку речь идет именно об историческом знании, мы предпочитаем говорить о степенях достоверности» <9>. ——————————— <9> Мегилл А. Указ. соч. С. 399. Однако некоторым преувеличением звучали слова Ф. Анкерсмита: «Подлинная правда состоит в том, что история не есть наука и она не производит знание в истинном смысле этого слова». См.: Анкерсмит Ф. Указ. соч. С. 187. Думается, более корректным будет говорить о том, что классические критерии научности непригодны применительно к современной историографии, или о смене критериев научности.
Таким образом, очевидна проблематичность классической теории референции, исторической реальности как объективной данности и исторической науки как деятельности по аподиктическому описанию и объяснению прошлого. Постклассическая историческая наука (в том числе и историко-правовая) предполагает релятивизацию и социальное конструирование как объекта исследования, так и самого исторического знания и соответственно критериев научности. Это не свидетельствует о полном субъективизме, волюнтаризме в научной деятельности, но о неустранимости субъективного фактора, о взаимодополнении объективного и субъективного. Объективным в данном случае является господствующая традиция, содержанием которой являются принятые данным научным сообществом критерии научности (например, методы и методики работы с архивными данными, их объяснения, обобщения и репрезентации в научных публикациях и т. д.) и ее обусловленность исторической и социокультурной картиной мира (не подвергаемыми сомнению представлениями самого абстрактного плана об обществе, человеке, истории). Субъективным же выступает выбор конкретного направления данного ученого (или коллектива ученых) в рамках этой традиции и картины мира. Историк не может «перешагнуть» эпоху, в которой сформировалось его мировоззрение, в том числе и господствующими представлениями о прошлом <10>. Более того, он должен придерживаться некоторых требований, предъявляемых научным этосом. Но в то же время именно он, исходя из собственных представлений о прошлом, производит отбор и оценку исторического материала, в определенном смысле формируя коллективную память социума. С другой стороны, эти критерии отбора и оценки обусловлены определенным типом идеологии, особенностями культурных установок, к которым тяготеет историк, как и спецификой воспитания (социализации) <11>. В любом случае, воспроизведение научной традиции (парадигмы, в расширительной трактовке этого понятия) предполагает конкретные действия персонифицированного актора — субъекта научного производства, обладающего некоторой степенью идиосинкразичности (по терминологии Р. Рорти) <12>. ——————————— <10> Сегодня это одна из актуальнейших тем историографии: что такое коллективная память, кто является ее носителем, как она формируется и как соотносится с исторической наукой. См.: Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004; Рикер П. Память, история, забвение. М., 2004; Савельева И. М., Полетаев А. В. Знают ли американцы историю, или Социальные представления о прошлом. М., 2008; Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М., 2007; Хаттон П. История как искусство памяти. СПб., 2003; Kontexte und Kulturen des Erinnerns: Maurice Halbwachs uns das Paradigma des Kollektiven Gedaechtnisses / Hrsg. von G. Echterhoff, M. Saar. Konstanz, 2000; Mnemosyne / Hrsg. von A. Assmann, D. Harth. Frankfurt am Main, 1991. <11> Р. Барт, отождествляя «мифологии» с «эффектом реальности», утверждает, что текст есть средство выражения тех этических, идеологических воззрений или взглядов на реальность, о которых даже не подозревает сам автор или читатель текста. См.: Barthes R. The Reality Effect // Frenc Literary Today / Todorov T. (eds.). Cambridge, 1982. P. 11. <12> Несколько эпатирующим в этой связи представляется заявление Ф. Анкерсмита о том, что лучшей исторической репрезентацией (т. е. критерием отбора и оценки исторического материала) является та, в которой больше воображения: «Лучший исторический нарратив — наиболее метафорический нарратив, исторический нарратив с самым большим полем реализации. Это также наиболее «опасный» или наиболее «смелый» исторический нарратив». См.: Анкерсмит Ф. Указ. соч. С. 127.
После общетеоретических рассуждений вернемся к Ф. Ницше. Так актуален ли он сегодня? Ответ на этот вопрос зависит от того, вписывается ли он в господствующую традицию исторической (историко-правовой в нашем случае) науки. Об этом могут свидетельствовать несколько факторов, например такие, как индекс цитирования; продолжение его идей последователями, учениками; влияние на последующие концепции. Индекс цитируемости, свидетельствующий о популярности автора, у Ф. Ницше достаточно высок <13>. Прямых продолжателей философии у Ф. Ницше, в прямом смысле слова, не было (что, видимо, связано с «личностным» характером его философствования), но очевидно его влияние на развитие философии XX в., в частности влияние на творчество таких философов, как К. Ясперс, М. Хайдеггер, Х. Аренд, Ж. Делез <14>. Пожалуй, наиболее последовательно (насколько это возможно применительно к развитию идей одного великого мыслителя другим) идеи Ф. Ницше развиваются в трудах М. Фуко <15>. Вообще становление постмодернизма во многом обусловлено переработкой сочинений Ф. Ницше <16>. ——————————— <13> Индекс цитируемости интернет-сайта Ф. Ницше — 0,37 (www. aport. ru), хотя в знаменитом индексе Ю. Гарфилда Art and Humanities Citation Index за восемь лет (с 1976 по 1983 г.) он не попадает в первую десятку и проигрывает Марксу, Ленину, Шекспиру, Аристотелю, Библии, Платону, Фрейду, Хомскому, Гегелю и Цицерону. См.: Current Contents, Social and Behavioral Sciences. Vol. 18. N 48. P. 3 — 10. <14> См.: Марков Б. В. Человек, государство и Бог в философии Ницше // Левит К. От Гегеля к Ницше. Революционный перелом в мышлении XIX века. Маркс и Кьеркегор. СПб., 2002. С. 308 — 421. <15> См.: Там же. С. 401 — 406. <16> См.: Лаврова А. Ф. Ницше, традиции и постмодернистский вызов // Ницше и современная западная мысль. С. 370 — 379.
С другой стороны, влияние Ф. Ницше на юриспруденцию и историю политических и правовых учений, в частности, не прямое, но косвенное. Более того, оно напрямую зависит от типа правопонимания, которому следует автор. Так, представитель «классического» правопонимания, скорее всего, «запишет» идеи Ф. Ницше, посвященные теории права и государства, в число маргинальных философско-правовых концепций <17> и, возможно, обвинит его в разрушении принципа позитивистской законности, подрыве конституционных основ государства <18>. Можно предположить, что более детальный анализ его политико-правовых сочинений даст возможность квалифицировать его творчество как распространение вредных химер <19>. Однако постклассическое правоведение, несомненно, многие идеи Ф. Ницше воспринимает как актуальные, хотя и требующие критического отношения <20>, позволяющие дать более адекватное объяснение таким многомерным феноменам, как право, политика, государство. ——————————— <17> См.: Козлихин И. Ю. О нетрадиционных подходах к праву // Правоведение. 2006. N 1. <18> Так поступает, например, М. И. Байтин в отношении всех подходов к праву, в которых предлагается несовпадение права и закона: «Подобные концепции, опираясь на которые можно оправдывать противозаконные действия, объявив закон «неправовым», не только не помогают преодолению существующих в стране правового нигилизма и беспредела, но и дестабилизируют обстановку». См.: Байтин М. И. Сущность права (современное нормативное правопонимание на грани двух веков). 2-е изд. М., 2005. С. 13. <19> См.: Хохлов Е. Б. Юридические химеры как проблема современной российской правовой науки // Правоведение. 2004. N 1; Гревцов Ю. И., Хохлов Е. Б. О юридико-догматических химерах в современном российском правоведении // Правоведение. 2006. N 5. <20> В связи с этим обращает внимание творческая переработка идей Ф. Ницше применительно к политике и праву глобализирующегося мира Б. В. Марковым. См.: Марков Б. В. Человек, государство и Бог в философии Ницше // Левит К. От Гегеля к Ницше. Революционный перелом в мышлении XIX века. Маркс и Кьеркегор. СПб., 2002. С. 690 — 735. О связи правопонимания Ф. Ницше с современными концепциями права см.: Крахоткин Ф. А. Учение о государстве и праве Ф. Ницше // Указ. соч. С. 148 — 175. Об этом же пишет и Д. И. Луковская: «Между тем он мог бы быть актуализирован применительно к столь остро злободневной сегодня проблеме многообразия культур, политических, правовых систем и т. п. в условиях глобализирующегося мира, стремящегося к их универсализации. Такая актуализация включает и предостережения философа, касающиеся стандартизации жизни и культуры, но при этом и оппонирование ему как приверженцу идеи различия в кастово-иерархическом духе» (цит. по: Крахоткин Ф. А. Учение о государстве и праве Ф. Ницше. С. 186, а также Луковская Д. И. Политика и право в философии Ф. Ницше // История государства и права. 2009. N 15).
Вышеизложенные рассуждения дают возможность определиться с вопросом об адекватности прочтения наследия Ф. Ницше. С позиций постклассического науковедения, в котором господствует «мягкий» релятивизм, адекватность описания, оценки любого мыслителя прошлого, в свою очередь, относительна применительно к исторической и социокультурной картине мира, включающей коллективную память данного социума, научной традиции, в том числе типу правопонимания, а также субъективным аспектам научного творчества данного конкретного автора (его идеологическим предпочтениям, культурным и эстетическим пристрастиям и т. д.). Очевидно, что сегодня недопустимы высказывания, в которых индивидуальные представления выдаются (хотя бы по форме изложения) за всеобщие. Так, например, требует специального разъяснения следующее утверждение: «…в учении Ницше «сильный» духом, талантом, благородными чертами характера не тиранит, не угнетает, не эксплуатирует «слабого», но, наоборот, покровительствует ему, защищает от житейских и общественных катаклизмов, а в идеале способствует тому, чтобы тот поднялся до высочайшего интеллектуального уровня «аристократа духа» <21>. Как минимум специального разъяснения требует соотнесение «благородства» интеллектуально сильнейшего с кастовостью социального устройства, утверждавшегося философом. ——————————— <21> Крахоткин Ф. А. Указ. соч. С. 168. Замечу, что процитированный автор свою позицию достаточно последовательно разъясняет.
Многомерность, противоречивость творческого наследия Ф. Ницше не дает возможности его однозначной оценки <22>. Видимо, поэтому идеи философа востребованы такими противоположными политическими течениями, как нацизм и либерализм <23>. «Кто такой Ницше, — задает вопрос Б. В. Марков, — как мы понимаем его сочинения спустя столетие после его физической смерти? Почему этот ученый-филолог, мастер тонких дистинкций, стал достоянием вульгарной толпы. Был ли он родоначальником эры нарциссизма, прежде всего «восстания масс», предлагал ли диктатуру глобального рынка или понимал большую политику как способ достижения коллективной солидарности? Почему с ним закончилась эпоха академической философии и началась история мышления в форме искусства? А может быть, событие Ницше — это прежде всего коммуникативная революция. Он стал новым евангелистом, направившим свое послание всему человечеству» <24>. ——————————— <22> «Он не написал ничего однозначного. В силу незавершенности любого из его сочинений нельзя ни одно в отдельности брать за основу для систематизации. Если брать любой из афоризмов Ницше в контексте его жизненного пути, то обнаружится реактивный характер его письма, которое было ответом на конкретную ситуацию и поэтому всегда оставалось полемичным. Критика служила для опровержения не только чужих, но и собственных взглядов. Для понимания главной цели Ницше существенны не только законченные сочинения, но и многочисленные подготовительные заметки». См.: Марков Б. В. Человек, государство и Бог в философии Ницше // Левит К. От Гегеля к Ницше. Революционный перелом в мышлении XIX века. Маркс и Кьеркегор. СПб., 2002. С. 26 — 27. <23> «Возникает вопрос, — пишет Б. В. Марков, — почему Ницше прочитывался на фашистский манер. Важно понять, почему лишь немногие воспринимали его идеи как предостережение против опасных тенденций прикрытия зла лозунгами гуманизма и пацифизма». См.: Там же. С. 5. <24> Там же. С. 34.
Б. В. Марков предостерегает от ошибок в интерпретациях Ницше. «Первая ошибка состоит в попытке рациональной реконструкции и систематического представления его философии. Это достигается ценой элиминации и игнорирования большей части его исследований, противоречащей тому, что выбрано в качестве главного. Следующая ошибка состоит в идеализации образа Ницше. Для одних он трагической судьбы индивидуум, для других — выражение кризиса Европы. Между тем Ницше не мыслил себя ни Богом, ни гениальным индивидом, который видит то, чего не видят другие. Можно возразить против чисто биографического и психологического подходов, где философия сводится к жизни. Хотя Ницше часто призывал к единству жизни и познания, герменевтический подход к его творчеству оказывается слишком прямолинейным. Он утверждал, что только такая философия является подлинной, полезной, которая вытекает из жизни мыслителя. Но это не означает сведения ее к автобиографии. В прояснении нуждается существо дела, а не психология мыслителя» <25>. ——————————— <25> Там же. С. 27.
Соглашаясь с приведенной критикой, нельзя не заметить, что в фундаментальном исследовании Б. В. Маркова нет прямого указания на то, как возможно адекватное прочтение Ф. Ницше. И это, думается, не случайно, так как последнее невозможно в принципе, если трактовать «адекватность» в классическом смысле слова. Постклассическая «адекватность» предполагает двойную рефлексию как относительно объекта исследования (наследия Ф. Ницше, включая не только произведения, но и дневники, воспоминания современников, их отношение, оценку мыслителя), так и относительно современности, включая самого исследователя. Поэтому любое утверждение историка о позиции Ф. Ницше по тому или иному вопросу предполагает предварительное прояснение собственной позиции автора по таким как минимум ключевым вопросам, как тип правопонимания и идеологические предпочтения.
——————————————————————