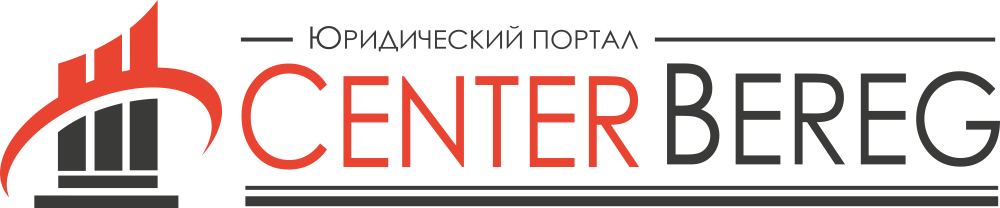Классификация явлений юридического быта, относимых к случаям применения фикций. Часть первая. Юридические фикции и презумпции
(Дормидонтов Г. Ф.) («Вестник гражданского права», 2011, NN 1, 3)
КЛАССИФИКАЦИЯ ЯВЛЕНИЙ ЮРИДИЧЕСКОГО БЫТА, ОТНОСИМЫХ К СЛУЧАЯМ ПРИМЕНЕНИЯ ФИКЦИЙ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИКЦИИ И ПРЕЗУМПЦИИ
/»Вестник гражданского права», 2011, N 1/
Г. Ф. ДОРМИДОНТОВ
В настоящем номере публикуется первая часть малоизвестной работы дореволюционного отечественного цивилиста Г. Ф. Дормидонтова «Классификация явлений юридического быта, относимых к случаю применения фикции». Автором статьи предпринята попытка классификации всех возможностей применения юридической фикции. В ходе своего исследования Г. Ф. Дормидонтов затрагивает проблему понятия юридической фикции, определяет ее место в гражданском праве, а также проводит глубокий анализ понятия фикции в связи с похожими конструкциями. Данная работа в связи со слабой изученностью понятия фикции в российском праве имеет большое значение для развития как гражданского права, так и современной юриспруденции вообще. Редакция журнала рекомендует этот материал самому широкому кругу читателей.
Ключевые слова: фикция, презумпция, воля, сделка, юридическое лицо.
This volume of the journal contains the first part of a little-known study of pre-revolutionary lawyer G. F. Dormidontov «Classification of phenomena of legal activity, attributable to cases of fiction». The author has attempted to classify all possible modes of legal fiction. During his study G. F. Dormidontov has paid a special attention to the notion of legal fiction and its place in law, as well as to analysis of fiction in connection with similar legal concepts. This study, due to poor scrutiny of a legal definition of fiction in Russian literature, is very important for the development of both civil law and modern jurisprudence in general. The editorial board recommends this material to the widest audience.
Key words: legal fiction, presumption, transaction, legal entity.
Предисловие
Предлагаемая читателям книга представляет собою первую часть предпринятой, но не доведенной еще до конца работы, имеющей целью тщательное изучение вопроса о юридических вымыслах и предположениях. Полное противоречие во взглядах не столько на сущность упомянутых приемов, употребляемых и законодательствами, и наукой права, сколько на их происхождение и на значение их как в прошлом, так и в настоящем, вынуждает пересмотреть по возможности все известные случаи применения указанных приемов в римском праве и важнейших современных законодательствах и в юриспруденции. На основании добытого этим путем материала можно будет попытаться вылепить причины, заставляющие законодательства и науку права прибегать к указанным приемам, и разрешить спорный вопрос о пригодности последних в праве и указать, если возможно, границы и меру пользования как вымыслами, так и предположениями. Обилие подлежащего рассмотрению законодательного и иного материала, трудность собирания и правильной группировки его, а также затруднения, связанные с необходимостью изучения довольно обширной (особенно по вопросу о презумпциях) литературы предмета, не дают возможности надеяться на очень скорое окончание всей начатой работы, которая, понятно, должна будет распадаться на две части, посвященные отдельно фикциям и презумпциям. Между тем раньше, чем приступить к изложению первой части работы, пришлось, естественно, заняться вопросом об определении пределов той области явлений юридического быта, где обыкновенно говорят о юридических фикциях. В науке на этот счет не установилось единогласия, а потому пришлось указать и определить все те категории явлений, в которых видят иногда случаи применения фикций и которые подводят под понятие юридических фикций в широком смысле, а также определить те общие этим явлениям признаки, на основании которых такое подведение имеет место. При этом выяснилось, что такой объединяющий признак давно уже и совершенно правильно указан Д. И. Мейером, выставившим четыре категории явлений, под этот признак подходящих. Ближайшее рассмотрение предмета привело к такому заключению, что, во-первых, круг упомянутых явлений обширнее указанного Мейером, а во-вторых, что Мейер не всегда и не во всем правильно смотрел на самую сущность указанных им явлений. Ввиду этого пришлось на основании источников и литературных пособий изучить и охарактеризовать каждую подходящую под установленный Мейером признак категорию явлений в отдельности, указать ту связь, которую каждая из них имеет со случаями применения фикций и предположений в собственном смысле. Указанная работа привела, между прочим, к выяснению понятия фикций и презумпций и к убеждению в родственной близости их и в необходимости поэтому совместного исследования случаев применения тех и других; вместе с тем она показала неосновательность попыток объединения всех рассмотренных явлений под общим именем фикций в обширном смысле. Работа эта оказалась нелегкой, так как помимо необходимости обозреть массу материала приходилось постоянно разбираться в путанице литературных мнений по многим вопросам, не только прямо относящимся к предмету исследования, но и по вопросам, так сказать, побочным, разрешать которые, однако, приходилось. Не желая увеличивать без нужды объем книги, мы избегали помещения в нее всей просмотренной массы материала; а чтобы побочные вопросы не отвлекали внимание читателя от главного предмета изложения, мы говорим о них в помещенных в конце приложениях. Решаясь теперь же познакомить читателей с этой частью нашего труда, мы имеем в виду, с одной стороны, посильно содействовать скорейшему распространению более правильных, на наш взгляд, воззрений по изложенным в ней вопросам, а с другой стороны, ожидаем от лиц компетентных указаний, которые могли бы быть нам полезны для успешного окончания всего задуманного нами исследования.
Введение
В специальных юридических трактатах и беседах, как и в простой обыденной речи, очень часто слышатся слова: фикция, фиктивный. Говорят о фиктивных браках, о фиктивных капиталах и доходах, о фиктивных отчетах и сделках и т. п.; говорят о фикциях, измышляемых юристами, и фикциях, допускаемых и создаваемых законодателем. Соединяя со словом «фикция» представление о вымысле, о заведомой лжи, простой смертный, не посвященный в таинства юриспруденции, не знающий, какие затруднения приходилось и приходится преодолевать ей, к каким разнообразным приемам прибегать, чтобы держаться на высоте своего назначения и на самом деле быть тем великим искусством, про которое давно уже сказано, что оно есть ars boni et aequi, легко и невольно может прийти в смущение. Его испугает не то, что кругом него довольно много людей с фиктивным состоянием, людей, заключающих фиктивные сделки и даже фиктивные браки с разными позволительными и непозволительными целями: к этому он легко привыкает и относится к таким явлениям более или менее спокойно. Но невольно ему может стать страшно при мысли, что фикция, т. е., по его мнению, заведомая ложь, пускается нередко в ход жрецами того «искусства доброго и справедливого», задачей которого должно быть, очевидно, служение лишь чистой и святой правде; что, наконец, сам законодатель не только допускает и терпит такую ложь, но иногда даже требует, чтобы все принимали за истину вымысел. Тут есть над чем задуматься! Сам собою встает вопрос: неужели прибегать к вымыслу так необходимо? Не вводятся ли этим ложь и обман в святое дело правосудия? Не обращается ли по крайней мере отправление последнего, без всякой нужды подчас, в смехотворную комедию, бесполезную для существа дела и важную только в глазах близоруких жрецов слепой Фемиды? Всякому благомыслящему смертному естественно отвергнуть необходимость каких-либо искусственных измышлений, вымыслов в области права и еще естественнее свалить всю вину создания таких вымыслов на коварную изворотливость или на недомыслие юристов. И достается же им подчас! С легкой руки великого насмешника древности Цицерона и до наших дней сколько более или менее остроумных нападок пришлось выдержать юристам за допускаемые в праве вымыслы! И нельзя сказать, чтобы юристы хладнокровно относились к этим насмешкам. Правда, они сначала не без презрения отвечали насмешникам, что «fictiones sunt eximii colores, quibus veritas fucata non corrumpitur, sed potius illuminatur» <1>, и пытались внушить профанам, осуждавшим даже фикции на основании Св. Писания <2>, разницу между ложью и юридическим вымыслом: «Falsum loqui culpae est, fictum, virtutis; falsis decipimur, fictis delectamur» <3>. Но сами юристы не могли отрицать, что фикции вводятся вопреки истине и имеют силу иногда устранять истину: «Fictiones inducuntur contra veritatem et fictionis potestas ea est, ut quandogue fictio praevaleat veritati» <4>. Очевидно, что одного этого сознания вполне довольно, чтобы дать повод к новым нападкам на юристов как творцов фикций. Достаточно вспомнить, как горячо ополчался против юридических фикций Бентам. По его стопам шли многие другие. Сами юристы стали заботиться об изгнании фикций из юриспруденции, так как признали, что «научная фикция — это самообман, это банкротство науки». Но фикции все-таки существуют доселе в законодательствах, о них упоминает, поэтому и объясняет их наука; наконец, в практической, обыденной жизни с фикциями мы встречаемся постоянно. Достаточно вспомнить о фиктивных сделках, которые совершаются вовсе не редко. Люди, очевидно, не могут все еще обойтись без вымыслов: прямая голая истина часто еще не дается им или оказывается, по-видимому, им не по плечу, и они прибегают к помощи вымысла, чтобы к ней хоть как-нибудь приблизиться или, наоборот, чтобы от нее уклониться. ——————————— <1> Antonii Dadini Alteserrae, De fictionibus juris tractatus septem, ed. Eisenhart, 1769 г. <2> См.: предисловие Eisenhart’а к цитированной выше книге. <3> Donat, In Eunucho (цит. у Alteserra. С. 2). <4> Ib., с. 5.
Где же кроется причина этого? И неужели нельзя обойтись без помощи вымысла при подведении фактов действительной жизни под отвлеченные нормы права? Винить ли юристов или оправдывать? Вопрос о фикциях для юриста есть вопрос чести, вопрос, затрагивающий самое значение и достоинство той отрасли знания, которой он посвящает свои силы. Между тем в литературе юридической этот вопрос далеко еще не полно разработан. Хотя и нельзя сказать, чтобы юристы оставляли этот вопрос без внимания, но все-таки по всей европейской литературе не насчитается десятка сочинений, посвященных специально разработке вопроса о юридических фикциях вообще, об их видах, причинах, их вызывающих, о роли их в прошлой и настоящей жизни человечества. Вот почему представляется нелишней попытка изложить более или менее полно общее учение о фикциях, разработав его сообразно данным современной науки. Такова именно задача нашего труда.
§ 1. Различные значения, в которых употребляют слово «фикция», и необходимость более точного определения понятия фикции. Попытки указать и классифицировать все явления юридического быта, в которых говорят о применении фикций
Прежде всего, конечно, нам предстоит выяснить, что понимается под словами «юридическая фикция». Нельзя не указать, что доселе писатели-юристы и неюристы придают этому слову различный, то очень обширный, то более или менее тесный смысл, и отсутствие точной терминологии немало затрудняет исследование и изложение интересующего нас предмета. Затруднения относительно точной научной терминологии имеют свою причину в том, что те явления юридического быта, к которым с большим или меньшим правом применяют в разговорном и даже литературном языке термины «фикция», «фиктивный», «вымышленный», весьма многочисленны, разнообразны по своей сущности и по вызываемым ими последствиям, нося часто лишь весьма отдаленные черты сходства. Много ли общего, напр., между вымышленным отчуждением имущества и вообще какой-либо фиктивной сделкой, с одной стороны, и фикцией усыновления или юридической личности — с другой? Таким образом, мы должны сначала установить, какие явления юридического быта подойдут под понятие юридической фикции в обширном смысле, а затем должны классифицировать все эти явления, определив их существо и характер, указав черты сходства и различия. Только после этого можно будет уже перейти к изложению вопроса о происхождении фикций в собственном смысле и о роли их в праве. Точного определения понятия юридической фикции в обширном смысле тщетно искать в юридической литературе. Вот некоторые более или менее известные определения. «Слово «фикция» на юридическом языке обозначает предположение какого-либо факта или качества, предположение, противоречащее нередко действительности, но рассчитанное на то, чтобы произвести известные юридические последствия» <5>. «Fictio est juris constitutio, qua fingitur id contingisse quod minime contigit, vel id non evenisse quod re evenit» <6>. «Fingere — выдумывать, притворяться, воображать известный факт, который в действительности не существовал» <7>. «Часто норма права предписывает признавать существующее обстоятельство за несуществующее и, наоборот, несуществующее за существующее; такой прием называется фикцией (юридическим вымыслом)» <8>. Под юридической фикцией в обширном смысле разумеется «всякое предположение, которым прикрывают или стараются прикрыть тот факт, что правило закона подвергалось изменению, т. е. что его буква осталась прежнею, а применение изменилось» <9>. ——————————— <5> Henri Dumeri. Les fictions juridiques. Paris, 1882. p. 5. <6> Alteserra, op. cit., p. 2. <7> Дыдынский. Латинско-русский словарь к источникам римского права (см. «Fingere»). Ср.: Dirksen, Manuale latinitatis fontium jur. civ. Romanorum, Berolini, 1837 г. Fictio: Praesumtio fictitia: Accomodatio rei ad exemptum alterius. Fictitius: Ad instar alterius rei efformatus. <8> Барон. Система римского гражданского права / Пер. Петражицкого. С. 70, 547. <9> Мэн. Древнее право. СПб., 1873. С. 21.
Сравнивая хотя бы эти определения, вы замечаете существенную разницу между ними и видите, что первое определение придает слову «фикция» более обширный смысл сравнительно с придаваемым последующими определениями. По первому определению фикция есть предположение, противоречащее нередко действительности, но рассчитанное на то, чтобы произвести известные юридические последствия. Под это определение подойдет не только признание существующим несуществующего, но и принятие существующим того, относительно чего с достоверностью неизвестно, что оно существует. Во всяком случае, все эти определения, особенно первое, наводят на мысль, что в праве употребляются иногда приемы, свойственные скорее поэзии. Мысль, конечно, верная по отношению к праву древнему. Поэзия древнего права интересовала, как известно, многих исследователей. Достаточно вспомнить хотя бы бр. Гримм. Знаменитый Vico в его «Scienza nuova» говорит: «Tutto il diritto antiquo romano fu un serioso poema, che si representava da’Romani nel foro, e l’antica giurisprudenza fu una severa poesia» <10>. Эта поэзия древнего права проявлялась не только в стихотворной подчас форме древних определений, но в массе всякого рода образных выражений и действий, жестов, эмблем, символов, имевших целью оказать влияние не только на ум, но и на чувства древнего человека. Говоря об этой поэзии в праве, M. Chassan, автор одного в свое время очень интересовавшего юристов, а ныне почти совсем забытого ими исследования «Essai sur la symbolique du droit», между прочим, высказывает мысль, что юридические фикции представляют собою наиболее возвышенное и совершенное применение поэзии к праву. Представляя себе все созданное человечеством право в виде здания, в созидании которого народная поэзия играла видную роль, Chassan в цветистой речи заявляет, что «на вершине этого здания парит, распростерши крылья, гений юридических фикций, фикций материальных или символов в эпоху варварства и фикций интеллектуальных в эпоху цивилизации» <11>. В этой поэтической тираде слово «фикция», как видно, является нам опять в новом значении. Далее, в одном параграфе своего сочинения, специально трактующем о юридических фикциях, Chassan поясняет, что под материальными фикциями он разумеет эмблемы, реальные символы древнего права. От этих материальных фикций, свойственных неразвитому состоянию права, отличает он фикции интеллектуальные, или фикции в собственном смысле, которые, по его словам, также представляют собою не по внешней форме, а по своей сущности эмблемы sui generis. Интеллектуальная фикция, по заявлению цитируемого автора, вовсе не вымысел, а только образ истины (image de la verite). «Фикция юридическая привходит между двумя фактами, дабы связать их между собой, объявляя то, что должно быть, и придавая предположению авторитет и силу истины. Таким именно образом она становится эмблемой, так как она предназначена скорее представлять (замещать) истинное, а не обнаруживать его в действительности». Правило, определяющее, что res judicata есть истина, положение, что законы известны всем после их обнародования, суть, по словам Chassan’а, фикции того, что должно быть, а не обозначение того, что на самом деле. Таким образом, и у Chassan’а слово «фикция» употребляется в очень широком смысле, в гораздо более широком, чем то значение, какое придают этому выражению другие авторы. Если в добавление ко всему этому вспомнить о фиктивных сделках, где также имеет место представление существующим факта, на деле не существующего, то мы убедимся прежде всего в том, что терминология в вопросе о юридических фикциях доселе не отличается точностью; причем одни авторы, придавая выражению «фикция» тесный смысл, разумеют под юридической фикцией лишь признание со стороны объективного права существования известного, заведомо несуществующего, факта или качества (Барон). Другие, как Мэн, придают слову «фикция» еще более тесное значение, разумея под ним лишь известный прием для изменения прежних определений права или, как Иеринг и Муромцев, прием для подведения новых явлений юридического быта под старые нормы. Третьи, как Chassan, Dumeril, придают выражению «юридическая фикция» более обширное значение, подводя под это понятие все те довольно разнообразные явления юридического быта, где только законодатель, судья или частные лица намеренно прибегают к какому-либо не только вымыслу, но и предположению относительно существования или несуществования факта или качества. ——————————— <10> Vico. Scienza nuova, t. II, l. IV, ch. VII, § 2; Vico. Principes de la philosophie de l’histoire, trad. par Michelet, p. 199. <11> Chassan. Essai sur la symbolique du droit. Paris, 1847, Introduction, p. CXIV.
Это различие в понятиях, связываемых с выражением «юридическая фикция», влечет, естественно, за собою и различие во взглядах на значение и роль фикций в праве. Одни их превозносят; другие признают за ними лишь историческое значение; третьи допускают в настоящем их существование, но лишь с различными условиями и ограничениями; четвертые, наконец, принципиально признают их вредными и требуют полного их изгнания. И эта разница во взглядах обусловливается в значительной мере разницей в понятиях, соединяемых с данным выражением. Вот почему раньше, чем говорить о роли и значении фикций в праве, и не разбирая пока тех определений, которые дают слову «фикция», а употребляя это последнее в самом обширном смысле, в каком только оно употреблялось, попытаемся классифицировать все те разнообразные, как сказано, явления юридического быта, которые справедливо и несправедливо обозначаются этим словом и производным от него прилагательным, а равно близкими ему по значению словами: «вымышленный», «мнимый», «притворный» и т. п. Во всей юридической литературе мне известны только два сочинения, посвященные специально вопросу о классификации фикций в самом обширном смысле этого слова: это сочинение Дюмериля и известная русским юристам диссертация Мейера «О вымыслах, предположениях, скрытых и притворных действиях». Другие высказались лишь вскользь, мимоходом по этому вопросу. Познакомимся сперва с обеими названными попытками классификации.
§ 2. Классификация Мейера. Ее основания. Четыре категории ненормальных явлений юридического быта. Общий признак этих явлений
Сочинение Д. И. Мейера «О юридических вымыслах и предположениях, скрытых и притворных действиях», напечатанное в 1853 г. в г. Казани, представляет собою любопытное явление в истории русской юридической литературы. Автор в этом сочинении значительно опередил взгляды, господствовавшие до того в юридической науке по излагаемому им вопросу, и можно смело сказать, что если бы это сочинение появилось в свое время на немецком языке, то имя автора получило бы широкую известность и на книгу доселе часто бы ссылались. У нас это сочинение было напечатано в такое время, когда, по справедливому замечанию того же Мейера, «в России не было еще сословия юристов» и книгу некому было читать, а когда сословие юристов появилось в 60-х годах, книга Мейера оказалась настолько старой, что о ней начали забывать. В настоящее время едва ли, кроме тесного круга ученых специалистов, занимающих кафедры гражданского права, найдется много юристов, знакомых с этим сочинением не понаслышке только. Между тем в своих существенных положениях сочинение это и доселе представляется заслуживающим внимания; многое высказанное и развитое Мейером в этой его работе стало теперь общим достоянием учебников и курсов, читаемых в университетах. Далекий от всякого увлечения поэзией в применении ее к праву и хорошо разглядевший, что увлекательный гений юридических фикций, представлявшийся еще многим его современникам чуть не полубогом, если не более, как обманчивый призрак, исчезающий при первом соприкосновении с доводами холодного рассудка, Мейер не только довольно точно и с замечательною для своего времени явностью описал или иначе охарактеризовал те явления юридического быта, в которых имели применение фикции в тесном смысле, но вместе с тем проанализировал и те явления юридического быта, которые в некоторых отношениях оказываются сходственными с фикциями и подводятся иногда под одну общую категорию. Родственная связь этих явлений юридического быта с фикциями в тесном смысле была замечена, правда, гораздо ранее, чем стали строго различать их. Эта связь, при неумении провести строгое различие между наследуемыми явлениями, заставила еще, например, Отсера (Alteserra) утверждать, что фикции рассеяны по римскому праву в таком же количестве, как звезды по небу, и хвалиться тем, что ему удалось отметить многие из них, не замеченные другими <12>. По той же причине и Chassan признал фикции материальные (символы) и интеллектуальные, определив последние так, что под его определение подходят не одни только фикции в том тесном техническом смысле, какой придают этому выражению позднейшие юристы (напр., Барон) <13>. Но до Мейера никто, сколько нам известно, во всей юридической литературе не попытался выяснить того, в чем именно состоит общий признак всех тех разнообразных по сущности явлений юридического быта, для обозначения которых употребляют выражения «фикция», «фиктивный». Вместе с тем Мейер пытался указать сущность и отличительные признаки различных подмеченных им групп этих явлений. ——————————— <12> Alteserrae. Op. cit. P. 202 и 203: «Totum corpus juris, maxime Digestorum fictionibus ut coelum stellulis micat: et ut in coelo recentiores Astrologi nova sidera se observasse gloriantur, quae antiquos effugerint, mihi forte in aliqua lande erit, quam plurimas fictiones quae in legum visceribus latebant, adnotasse, vel jam notas collegisse et in ordinem redegisse». <13> См. выше. С. 221 — 222.
В своем сочинении он исходит из следующего положения: «Юридические определения все рассчитаны на существование известных фактов; эти факты предшествуют приложению юридических определений. Таков обыкновенный нормальный порядок юридического быта. Но бывают и уклонения от этого порядка, когда мы не усматриваем тех или других фактов, на которые рассчитаны юридические определения, а эти определения тем не менее прилагаются, получают силу». Далее Мейер и перечисляет возможные случаи таких отклонений: «К таким отклонениям обыкновенно относят следующие случаи: 1) вымышленное существование факта, о котором известно, что он вовсе не существует или существует в другом виде. Сюда принадлежат так называемые вымыслы права — fictiones juris; 2) существование факта не раскрыто с несомненностью, но оно более или менее вероятно и поэтому предполагается, и относящиеся к нему определения идут в ход: здесь заключение о факте называется предположением — praesumtio; 3) существование факта выражается другим фактом как знаком его или эквивалентом» (это случаи так называемых скрытных действий); 4) «юридические определения отнесены к факту, выставляемому существующим взамен другого факта, собственно, подлежащего тем юридическим определениям» (сюда относятся acta simulata — притворные действия). Нарочно выписываем эти слова Мейера, чтобы обратить внимание на тот общий признак, который, по мнению этого автора, объединяет все рассматриваемые им группы явлений. Все они представляют собою уклонения от нормального порядка, и общее им то, что при всех них мы имеем дело со случаями применения юридических определений, рассчитанных на известные факты, хотя самых фактов не усматриваем.
§ 3. Рассмотрение отдельных групп явлений, подходящих под указанный Мейером признак
I. Юридическая фикция в тесном смысле
Нам предстоит теперь исследовать, насколько верно поняты Мейером все указанные им категории явлений юридического быта и представляется ли выставленный Мейером общий для них признак существенным для каждой из рассматриваемых им категорий в отдельности, иначе говоря, насколько может быть оправданно делаемое им сближение всех этих категорий. Вместе с тем предстоит решить, насколько достаточен выставленный Мейером признак в смысле критерия для отличия всех тех явлений юридического быта, которые могут быть подведены под понятие фикций в обширном смысле <14>, и исчерпывается ли круг объединяемых автором уклонений от нормального порядка в юридическом быту теми четырьмя категориями случаев, на которые он указывает. Для этого мы обратим наше внимание на каждую из указанных автором групп явлений в отдельности. В первую группу автор выделяет вымыслы, т. е. такие случаи, когда вымышляется существование факта, заведомо несуществующего или существующего в другом виде. Это даваемое автором определение юридической фикции в тесном смысле нельзя назвать особенно удачным. Оно недостаточно ясно и может дать повод к ложным заключениям. В сущности, Мейер не определяет даже, что надо разуметь под выражением «юридическая фикция», а характеризует лишь ту категорию случаев юридического быта, в которых юридические фикции имеют применение. Случай, говорит Мейер, таков, что юридическое определение, рассчитанное на известный факт, применяется, хотя самый факт заведомо не существует или существует в другом виде. Случай описан вполне верно, но определения юридической фикции тут нет. Определить юридическую фикцию как вымышленное существование факта заведомо несуществующего — это значит дать повод подумать, что вымышлять это существование фактов можно и вольно всякому и что разумеемые автором случаи применения юридических определений к вымышленным фактам могут быть до крайности часты. Выражение «вымышленное существование факта, заведомо несуществующего или существующего в другом виде» применимо не только к юридической фикции в собственном смысле, но и к фиктивной сделке, применимо оно и к некоторым предположениям, применимо даже и к символическим действиям. Словом, Мейер не дает точного определения юридической фикции, а описывает лишь, как она применяется. Для точного определения понятия юридической фикции следовало сказать, что фикция вообще есть известный прием мышления, состоящий в допущении существующим известного несуществующего обстоятельства или, наоборот, несуществующим существующего, в решении задачи при помощи ложного положения; а юридическая фикция в тесном смысле — тот же прием, но допускаемый и даже предписываемый в известном случае объективным правом <15>. Отсутствие подобного определения не мешает, однако, Мейеру хорошо понимать сущность фикций и высказывать весьма близкий к истине взгляд на историческую роль и на значение их в современном праве, о чем у нас будет речь впереди. Теперь же мы заметим только, что, относясь отрицательно к применению вымыслов в современном праве, Мейер не уделяет им большого внимания; знакомя лишь с отдельными их случаями, он не устанавливает никаких подразделений их, не делает попытки разделить юридические фикции в тесном смысле на какие-либо виды, как это делают другие авторы <16>. ——————————— <14> Любопытно, что, перечисляя указанные им уклонения от нормального порядка в юридическом быту, Мейер говорит: «Сюда обыкновенно относят следующие случаи». Это выражение дает повод думать, что автор здесь повторяет лишь общепринятое, бесспорное, всеми разделяемое мнение. На самом же деле и указание общего свойства рассматриваемых явлений, и перечисление их категорий принадлежат вполне самому автору. <15> См. выше: с. 221; ср.: Bierling в Holtzendorff’s Rechtslexicon, I, с. 829 (Fictionen). <16> Мейер. С. 5: «Понятие о юридическом вымысле… в сущности, чуждо всякого значения».
§ 4
II. Презумпции. Понятие; виды. Родственная связь с фикциями
Больше внимания в этом отношении обращает Мейер на другую группу исследуемых им явлений — на предположения. Однако и определение понятия предположения у него не отличается большею точностью. «Предположение — это признание факта существующим по вероятности, что он существует», — говорит Мейер <17> и не замечает, что это определение неприменимо вовсе к некоторым из этих предположений, которые он называет законными (praesumtiones juris), так как некоторые из приводимых им же примеров последних не имеют ничего общего с заключением по вероятности. Напр., известное в римском праве предположение Муция, что все приобретения жены, источника которых она не может указать, дошли к ней от мужа; предположение, что дитя, рожденное через 6 месяцев по заключении брака, зачато в этом браке; предположение, что сын семьи — солдат занимает на военные надобности, и т. д. Несоответствие этих предположений права с выставленным Мейером определением предположения, определением, усвоенным и повторяемым, кстати сказать, нашими юристами, очевидно <18>. ——————————— <17> Мейер. С. 44. <18> Мейер мог заимствовать это определение из немецкой литературы (см.: Valett. Pandecten, I, § 174; Wening-Jugenheim, Lehrbuch des gem. Civilrechts, I, § 59). См.: Муромцев. Консерватизм русской юриспруденции. С. 100.
Независимо от этого несоответствия указанное определение страдает неяснос тью, потому что остается неизвестным, что разумеет автор под вероятностью. В логике различают научную объективную вероятность, под которой разумеют точную оценку всех мнений, возможных в отношении к известным фактам. При такой оценке мы определяем отношение между этими мнениями по степени их приближения к достоверности. Понятие такой вероятности упрочилось в науке только со времени научного обоснования исчисления по вероятности, при помощи которого степень ее определяют численно. Необходимость различать отдельные случаи события и заключать о большей или меньшей возможности их, когда нельзя судить о том с достоверностью, побуждает нас признавать более вероятными те случаи, которые легче возможны ввиду известных нам условий события или которые, по свидетельству предшествующего опыта, чаще наступают <19>. ——————————— <19> В первом случае это будет априористическое заключение по вероятности, а во втором — эмпирическое (см.: Wundt, Logik, B. I, Erkenntnisslehre, S. 303 f.).
Нередко мы не в состоянии точно определить степень большей или меньшей возможности факта или явления и довольствуемся так называемым общим заключением о вероятности — заключением, которое довольно часто может быть ошибочным. Легко может случиться, что принятое по общему заключению за вероятное при численном определении окажется сомнительным или даже невероятным. Но как бы то ни было, для общего заключения о вероятности требуются все-таки известные объективные данные, доставляемые нам извне или приобретаемые нами из опыта <20>. ——————————— <20> Wundt, Logik, I, 393: «В определении объективной вероятности лежат два момента, которые обосновывают ее отличие от объективной достоверности. Первый состоит в том, что вероятность относится не к данным фактам; второй — в том, что возможно несколько фактов, из которых действительно наступить может только один. Поэтому вероятность может переходить в достоверность при двух условиях: 1) если вместо ожидания наступит действительность и 2) если возможен только один факт. Так как вероятность всегда относится к ожидаемым фактам или событиям, то областью ее применения является будущее. Прошедшие события или факты, непосредственно данные в настоящем, мы можем лишь тогда сделать доступными определению по вероятности, когда возвратимся назад к состоянию, предшествовавшему их действительному наступлению, и станем обсуждать их как будущие…»; с. 394: «Ожидаемые в будущем факты всегда доступны определению по вероятности, если мыслимы какие-либо обстоятельства, которые могут воспрепятствовать наступлению этих фактов. Даже постоянная правильность движения Земли около Солнца только вероятна, а не достоверна».
Общее заключение по объективной вероятности играет в повседневной жизни вообще, а равно в юридическом быту важную роль. На нем законодатель основывает свои предписания; администратор — свои распоряжения; судья, разбирающий процесс, кладет его в основание своего решения. Эти случаи применения вероятности не представляют собою, однако, ничего ненормального, ничего такого, что побуждало бы к выделению их как исключительных будто бы явлений в юридическом быту в особую группу. Достоверность далеко не всегда доступна человеческому знанию. Что в данный момент обсуждается как достоверное, то при последующей проверке может оказаться не таковым, а имеющим характер лишь большей или меньшей вероятности. Недаром иные философы учат, что все, что мы называем достоверным, есть лишь высшая степень научной вероятности <21>. Словом, определять в сфере права предположение как признание факта существующим по общей вероятности — это значит отнести к области предположений в техническом смысле значительнейшую часть наших суждений и, между прочим, почти все законодательные нормы <22>. ——————————— <21> Hartmann, Philosophie des Unbewussten, 5. Aufl. S. 36 — 47. <22> Это замечание относится и к определению презумпций, даваемому Шмидом (Schmid, Die Praesumtionen im deutschen Reichsstrafrecht, 1884, с. 17 и 18). См. Fr. 4 Dig. I. 3. Celsus: «Ex his. quae forte uno aliquo casu accidere possunt jura non constituuntur» и fr. 5: «Nam ad ea potius debet aptari jus, quae frequenter et facile, quam quae perraro eveniunt». См. также fr. 3 и 6 h. t., где о том же говорят Помпоний и Павел.
Это и пришлось сделать Мейеру. Он относит эти нормы к области общечеловеческих предположений, за которыми ему пришлось признать большую основательность сравнительно с предположениями права, т. е., по его словам, «определениями законодательства, основанными также на предположениях, но на шатких, не дозволяющих внести в содержание закона более чем одно предположение» <23>. Но указание на шаткость, т. е. на отсутствие вероятности именно в тех предположениях, которые называются законными, хотя в то же время относительно некоторых из них не допускается доказательства противного, и должно бы было навести Мейера на мысль о том, как неправильно его определение предположений и как мало последние имеют общего с объективной вероятностью. Впрочем, извинением автору может служить то, что в обыкновенном словоупотреблении слову «вероятность», как и слову «предположение» (Vermuthung, praesumtio), придается самое разнообразное значение и что поэтому легко смешать оба эти понятия. Современная логика учит, однако, строго различать их. ——————————— <23> Мейер. С. 53.
Основой наших убеждений о том, что истинно, что существует, служит верование и знание <24>. Верующий может быть так же убежден, как и знающий. Суждение о предмете, основанное на такой вере, субъективно так же достоверно, как и суждение, основанное на данных опыта, на знании. Но и вера, и знание не всегда дают основание твердому убеждению. Вера может быть смутной, колеблющейся, может быть неясным предчувствием. Знание также часто может выражаться в форме мнения. Под мнением, строго говоря, должна разуметься именно низшая форма знания. Но это слово может служить и вообще для обозначения такого рода суждения, при котором отсутствует как точное знание, так и твердая вера, тем более что вера может простираться и на предметы или события, познаваемые из опыта, и в таких случаях она легко совпадает с мнением. Мнение, таким образом, с одной стороны, может опираться на объективные свидетельства, факты опыта, делающие известное принятие вероятным, не доставляя ему достоверности; а с другой — на субъективные свидетельства, лежащие в основании нашего верования, свидетельства, которые не всегда даже доходят до ясного сознания самого верующего <25>. Мнением, таким образом, может быть названо не только заключение по общей вероятности, но и всякого рода другое заключение (напр., по аналогии, по сравнению и т. д.); наконец, оно может также вытекать из низших форм верования, с которыми объективная вероятность не имеет ничего общего, хотя и смешивается нередко вследствие неопределенного и в разных значениях употребляемого слова «вероятность». В последнем случае можно говорить разве только о вероятности субъективной, т. е. о нашей внутренней склонности, основанной на психологических мотивах и определяемой бесчисленным множеством индивидуальных условий <26>. Мнение, которое мы составляем себе о будущем событии, основано ли оно на субъективных или объективных свидетельствах, объективно вероятно или нет, может быть названо в обширном смысле предположением — Vermuthung. Предполагать, строго говоря, — значит заключать о будущем факте, и предположение, как и заключение по объективной вероятности, может только относиться к будущему <27>. Предположения относительно прошедших событий или совершающихся в настоящем возможны лишь при том условии, если мы вернемся назад и станем обсуждать их как предстоящие еще. Однако в обыденной жизни о прошедшем и настоящем приходится так же часто высказывать предположения, как и о будущем. Поэтому прав Бирлинг, когда относит предположения безразлично к фактам прошедшего, настоящего или будущего <28>. Путь, которым мы приходим к созданию предположения о факте, может быть неясным для нас самих. Мы сами нередко не даем себе отчета в основаниях, в силу которых мы в нечто верим, или почему мы склоняемся к известному мнению. Справедливо поэтому Буркгард говорит, что нельзя определять предположение вообще, как заключение от одного факта к другому. Это, кстати сказать, господствующее доселе в учебниках определение <29> предположения также оказывается, таким образом, не соответствующим ни понятию, ни обыкновенному словоупотреблению в источниках права <30>, как и определение, что презумпция есть признание существования факта по вероятности, что он существует. ——————————— <24> Wundt, Logic. B. I, с. 370 — 372 (Glauben und Wissen). <25> Wundt I, с.: «Низшие формы веры имеют свое начало в наших аффектах склонности и отвращения (симпатии и антипатии). Так как эти самые аффекты многообразны, то и вытекающие из них низшие мотивы веры могут иметь свой источник в стремлении к внешнему благополучию, в эстетическом или умственном наслаждении или, наконец, там, где предмет суждения есть лицо другого человека или наша собственная личность, в любви, ненависти, самолюбии и т. п. Эти мотивы симпатии и антипатии действуют сплошь и рядом разрушительным образом, посредством их вера внедряется в область мнения и знания и поддерживает здесь предубеждения, которые давно бы исчезли без этих субъективных мотивов…»; «Высшая форма верования вытекает из нравственных требований». <26> Wundt, Logik, I, с. 390. <27> Это обстоятельство облегчает, разумеется, смешение понятий предположения и вероятности (см. выше, сн. 20). <28> См.: F. von Holtzendorf, Rechtslexicon, Bd. I, с. 301. Rechtsvermuthungen. Так учил уже Menochins (t1607 г.). См. у Burckhard’а, Civ. Praesumtionen, S. 247 folg. Сам Burckhard не согласен с этим. Он относит все предположения к фактам прошедшим. <29> Значительное большинство юристов определяют предположение вообще как заключение от доказанного или признанного факта к существованию факта доказываемого. См., напр.: Windscheid, Pandecten, I, § 133; Wuchter, Pandecten, I, § 101; Beilage, I, с. 521 и сл.; Regelsberger, Pandecten, 1893, B. I, § 195. <30> Burckhard, Civ. Praesumtionen, § 16, с. 114 и сл. и § 24, с. 211 сл.
Надо заметить, что в своей замечательной монографии о презумпциях Буркгард вообще не признает вероятности объективной и, рассуждая о значении момента вероятности в понятии предположения, он говорит, что вероятность всегда есть нечто субъективное. С этим, конечно, нельзя согласиться, и нет даже надобности это оспаривать. Если бы Буркгард был прав, если бы мы совсем лишены были возможности определять приблизительно по общей объективной вероятности, то ему незачем было бы доказывать, что вероятность не составляет существенного момента понятия предположения. Отказываясь признать объективную вероятность, Буркгард, однако, часто употребляет слово «вероятность» именно в отрицаемом им смысле. Когда он говорит: «Момент вероятности, равно как и момент заключения от одного факта к другому, могут также содержаться в понятии предположения; но оба эти момента для этого понятия не существенны» <31>, он разумеет, очевидно, вероятность объективную. Говоря далее, что «вероятность есть основание принятия факта без доказательства, следовательно, форма, путь, которым к этому принятию приходят» <32>, автор, может быть, опять-таки разумеет объективную вероятность. Когда затем он заявляет, что презумпция «с полным правом может быть обозначена как принятие вероятности, как субъективное верование в нечто, потому что оно вероятно, так же как верование без доказательства, без таких оснований, которые достаточны для полного убеждения», и подробно затем развивает мысль, что «в понятии презумпции перевешивает все-таки отрицательный момент, что она есть верование без доказательства, неполное убеждение», доказывая эту мысль тем, что вероятность есть «не что иное, как то, что кажется нам истиной по нашему субъективному воззрению» <33>, то естественно, что читатель по вине автора становится в затруднительное положение и недоумевает, не зная, чему верить. С одной стороны, презумпция «с полным правом» есть принятие по вероятности, субъективное верование; с другой — требуется доказывать, что нет никакого полного права, а «перевешивает отрицательный момент», и перевешивает потому, что вероятности вообще нет — есть же только «субъективное верование, которое может возникнуть даже путем целого ряда бессознательных заключений», есть только «склонение нашего сознания к тому, чтобы принять за истину нечто, кажущееся нам истиной по нашему субъективному воззрению». Более внимательный читатель легко заметит, что автор здесь на нескольких страницах пытается доказать и объяснить то, что вовсе не требовало бы такого пространного объяснения, если бы он твердо держался общепринятого различия между понятиями объективной вероятности и субъективной и, употребляя слово «вероятность», помнил бы каждый раз об этом различии. Рассуждения автора в данном месте можно бы резюмировать так: 1) возможна только субъективная вероятность; 2) принятие чего-либо по вероятности (субъективной) есть принятие чего-либо без доказательства; 3) предположение есть принятие по вероятности (субъективной). Вывод: предположение есть принятие без доказательства. ——————————— <31> Burckhard, с. 114. <32> Id., с. 114. <33> Id., с. 115 и 116.
Автор готов сделать этот правильный вывод, но поперек дороги ему стоит неправильность первой посылки — неправильность, которую он невольно поправляет, когда делает третью посылку, принимающую в его рассуждении такой вид: «Предположение есть субъективное верование, которое покоится на вероятности (конечно, на объективной)». Таким образом, третья посылка благодаря тому, что автор здесь разумеет объективную вероятность, противоречит двум первым и мешает сделать вышеприведенный вывод. Чтобы устранить это противоречие, в которое впал автор, и приходится ему заявлять, что «хотя момент вероятности и входит с полным правом в понятие презумпции, но отрицательный момент перевешивает» и «момент вероятности не есть существенный, а существенно принятие без доказательства». Между тем стоило автору только принять различие между вероятностью субъективной и объективной, тогда он, не путаясь, не затрудняя читателя, просто и понятно сказал бы: предположение есть мнение, которое может быть принято даже по субъективной вероятности. Эта вероятность есть состояние вашего сознания, и она далеко не всегда находится в соответствии с объективной вероятностью (иначе — с логическим заключением по общей вероятности), а может основываться просто на веровании, на субъективной склонности. Отсюда следует, что понятие вероятности, в смысле объективной, не составляет существенного момента понятия предположения. Сказать же: «Предположение есть принятие факта по вероятности субъективной» — то же, что сказать: «Предположение есть принятие факта без доказательства». В конце концов Буркгард и говорит именно это: «Итак, момент вероятности, если хотят, объективной, может совершенно отсутствовать, и будут все-таки говорить о презумпции, что она есть простое принятие по одной склонности» <34>. Короче говоря, автор, путаясь несколько и сбиваясь с дороги, приходит все-таки к правильному выводу — выводу, впрочем, заранее уже им сделанному при помощи тщательного изучения в источниках значений слов: praesumtio, praesumere. Praesumere, как немецкое vermuthen, по исследованию Буркгарда, значит «нечто вперед взять или принять»; в обширнейшем смысле оно значит: «верить», «думать», «полагать», «держаться чего-либо без доказательства», «предвидеть», «догадываться» <35>. ——————————— <34> Burckhard, Praesumtionen, § 16, с. 117. <35> Латинские слова «praesumere», «praesumtio» имеют больше значений, чем немецкие «Vermuthung», «vermuthen» и русское «предположение». «Praesumere» употреблялось у римлян, как известно, также в значениях: «преждевременно употреблять», «наслаждаться», «наперед желать», «предвидеть», «догадываться», «решиться на что-либо». На языке составителей Юстинианова свода «praesumere» часто значит «иметь дерзость», «осмелиться», «отважиться». Немецкое слово «vermuthen» далеко не имеет этих значений. В техническом юридическом языке praesumtio и Vermuthung вполне соответствуют друг другу. Русское слово «предположение» приобрело у юристов такое же техническое значение, хотя оно более отвечает немецкому Voraussetzung, для передачи которого в русском языке нельзя найти другого слова, тогда как Vermuthung можно бы передать словами: «догадка», «предвидение» или «предусмотрение», если не хотят исключительно держаться заимствованного технического слова «презумпция».
Подобно Буркгарду определяет понятие предположения и Бирлинг: «Нечто предположить значит вообще нечто принять за факт без полного доказательства. Есть ли этот принятый факт внешний или внутренний (психологический), прошедший, настоящий или будущий, будет ли это состояние, отношение или событие — для понятия предположения это безразлично» <36>. ——————————— <36> Holtzendorf, Rechtslexicon, l c. См. выше, сн. 28. Содержание цит. соч. Буркхарда передает Оршанский (О законных предположениях, Журн. гр. и уг. права, 1874 г., N 4 и 7).
Оба автора одинаково определяют понятие предположения вообще, и если один говорит, что praesumtio есть принятие факта без доказательства, по одной склонности, подтверждая свое определение примером из Дигест <37>, а другой говорит о принятии факта без полного доказательства, то они оба, очевидно, разумеют, что предположение есть принятое мнение о факте, которое может быть основано, как мы сказали, на объективных и субъективных свидетельствах. ——————————— <37> Fr. 40, § 7. D. De statuliberis XL, 7. Случай здесь таков: Тиций в своем завещании распорядился, чтобы рабы, которых он отказал или которых он повелит отпустить, в течение четырех месяцев по его смерти отдали наследнику отчет. Завещание написано было так, что до этого распоряжения о даче отчета стояло распоряжение об отказе некоторых рабов, а после него об освобождении других. Решено, что отказы и отпущения только в том случае получают силу, если отдан отчет или если наследник сам препятствовал даче отчета. Но спрашивается: хотел ли завещатель распоряжением о даче отчета в 4-месячный срок поставить легаты и отпущения рабов в зависимость от исполнения этого распоряжения, так что условие будет не выполнено, если дача отчета не последует в 4 месяца, или же этим распоряжением он желал устранить только излишнее промедление в даче отчета? Намерение завещателя сомнительно, и судья при решении вопроса о легатах ставится в обязанность решать, сообразуясь с обстоятельствами данного случая; но относительно отпущения рабов ему указывается, что «melius autem est praesumtionem pro statuliberis esse».
Там, где нет достоверности относительно существования или свойства факта, приходится довольствоваться мнением, которое не меняет своего существа от того, будет ли оно близко к истине или далеко от нее, пришли ли мы к нему путем признания вероятности, или каким другим путем, или даже бессознательно. Итак, предположение вообще есть принятое мнение о сомнительном, но, во всяком, случае возможном факте. Можно или нет привести какие-либо доказательства в основание предположения, оно все-таки по самому понятию своему допускает существование иного мнения и возможность доказывать противное. Когда нет достоверности, всегда может возникнуть несколько мнений, из которых каждое может претендовать на большую близость к ней. Когда является необходимость избирать непременно одно из них (как это часто приходится делать законодателю, судье, юристу), то выбор того или другого мнения может основываться, смотря по обстоятельствам, на объективной вероятности, на субъективной склонности, на посторонних соображениях, напр. на соображении целесообразности известного мнения, больших удобствах, представляемых этим мнением лицам, заинтересованным в выборе. Результат этого выбора, т. е. принятие известного мнения, как и самое принятое мнение, мы называем также предположением. Выбор из нескольких мнений часто приходится делать всякому. Если известному мнению о факте, по господствующему представлению мыслящих людей, по соображениям общей логики, по данным людского опыта и навыка, отдается обыкновенно всеми предпочтение, то это будет предположение общечеловеческое. Такое предположение, по существу, не имеет принудительного характера для отдельного лица, которому в данном конкретном случае предстоит самому сделать выбор. Однако оно не может, конечно, остаться без влияния на этот выбор. Особенно это влияние имеет важное значение для судьи, которому при решении вопроса о спорном факте нередко приходится руководствоваться этими общечеловеческими предположениями (praesumtiones hominis seu facti). Если известное мнение о сомнительном факте указывается как предпочтительное законом, то это будет так называемое юридическое предположение. Выбор предпочтительного мнения здесь зависит вполне от воли законодателя, который может быть побуждаем к известному выбору самыми разнообразными соображениями: политическими, нравственными и т. д. — вообще соображениями не только справедливости, но и целесообразности и общего блага. Из двух или нескольких возможных мнений о факте закон указывает то, которое должно быть предпочтительно принято. Об обязанности законодателя руководствоваться здесь непременно соображениями объективной вероятности не может быть и речи. Он прямо предписывает судье принимать известное мнение о факте или, что то же самое, сомнительный факт без доказательства. Таким образом, данное Мейером определение презумпций приходится изменить и понимать: под предположением вообще — избранное или принятое мнение о сомнительном предмете; под общечеловеческим предположением — такое мнение, которое по тем или другим основаниям можно назвать общепринятым, господствующим в среде мыслящих людей; под юридическим предположением в обширном смысле — всякое определение объективного права, в котором выражается принятие законодателем определенного мнения относительно какого-либо сомнительного предмета <38>. Под юридическим предположением в техническом смысле — юридическое определение, в силу которого возможный, но сомнительный факт или таковое же качество принимаются за объективно вероятные или даже достоверные и обсуждаются как существующие и доказанные <39>. Таким образом, мы имеем здесь дело с приемом, родственным тому, который употребляется при создании фикций. И там, и здесь мы имеем дело с законодательными нормами, предписывающими принятие известного мнения о факте. Разница только в том, что при фикции предписывается вымышлять известный факт или качество, заведомо несуществующее, а при презумпции принимать известный возможный, но сомнительный факт или таковое же качество за доказанные. Сходство обоих приемов бросается в глаза. Особенно оно очевидно в тех случаях, когда закон не только предполагает существующим сомнительный факт, но и не дозволяет доказывать противное этому предположению. Эти случаи, носящие название praesumtiones juris et de jure, всего чаще смешивают с фикциями. Они действительно особенно близки последним и по цели, и по значению. ——————————— <38> В этом смысле под понятие предположения подойдут такие определения права, как, напр., отнятие у женщины, вступившей во второй брак, опеки над детьми от первого брака в предположении, что у нее maternus affectus non permanere (l. 22; § Cod. de administratione tutorum, V. 37 и 1,2 Cod. quando mulier tutelae etc. V. 35) или, пожалуй, даже все правила права, которые введены «propter sexus infirmitatem»; «propter fragile consilium minorum» и т. п. S. C. Vollejanum объявляет interseccio женщины недействительным, «cuja facilius mulier se obligat. quam alicui donat» (Fr. 4, § 1, Dig. ad. S. C Vell. 16. 1). Этого рода правила закона можно называть также презумпциями, но не в техническом смысле. Здесь принятие законодателем известного мнения послужило мотивом к изданию юридического предписания, которое применяется независимо уже от того, что мнение законодателя оказывается несправедливым вообще или не оправдывающимся в данном конкретном случае. Относительно данной женщины можно сколько угодно доказывать, что она вовсе не охотно принимает на себя обязательства или что она очень любит детей от первого брака: правила, вызванные предположением законодателя, получат применение. Иногда предположение существования известного факта является побуждением для законодателя к изданию диспозитивного определения. Напр., закон определяет, что при отдаче в аренду земли предполагается установленным и право залога на invecta et illata, если противное ясно не выговорено. Вообще закон предполагает, что так называемые naturalia negotii, естественные части сделки, включены в нее, если противное не оговорено. В этих случаях также нельзя оспаривать верности предположения закона вообще или применимости его к данному случаю; а можно только, ввиду диспозитивного характера предписания, указывать, что на основании особого соглашения сторон применение предположения исключается. Буркгард и в этих случаях не видит предположений в собственном смысле (см.: Praesumtionen, § 20; contra Bierling в цит. статье из Handlexicon Гольцендорфа). <39> Признание существования сомнительного факта или качества может иметь целью только освобождение заинтересованного в признании существования факта лица от доказательства этого существования или облегчение этого доказательства; почему учение о презумпциях относят к учению о доказательствах в процессе и говорят, что презумпция заменяет доказательство, что она есть суррогат доказательства. Таковы, напр., презумпции относительно времени смерти лиц, одновременно погибших от общей опасности. Буркгард называет этого рода презумпции процессуальными (Praesumtionen, § 19). Иногда законодатель предполагает известный возможный факт существующим и с существованием его связывает известные последствия, так что если этот сомнительный и принятый законодателей без доказательства факт не окажется на лице, то указанные в законе последствия не должны наступить. Иначе говоря, в этих случаях принятый без доказательства факт законодатель ставит условием для применения связываемых с этим фактом последствий. Этого рода случаи Буркгард называет материальными презумпциями в собственном смысле (Praesumtionen, § 21). В пример их можно привести предположение, содержащееся в l. 27 Cod. de pignoribus, S. 14, и в Nov. 136, cap. 2. В первом из цитируемых мест Юстиниан super amputanda omni machinatione по отношению к менялам и содержателям ссудных касс постановил, что если такой содержатель кассы заключил заем, а после купил сыну или родственнику место (militia — должность), то предполагается, что место куплено на занятые деньги, и кредитору на этом основании предоставляется взыскивать долг с обладателя места или заставить последнего продать место и выдать, что он мог получить от этой продажи. Словом, на militia вследствие предположения накладывается ипотека. Однако допускается доказывать, что деньги на покупку militia были даны другими лицами, что предположение неверно. Очень часто фактом, который приходится принимать за существующий, является воля лица, совершающего юридическое действие. Так, в случае возникшей между завещателем и легатарием вражды закон выставляет предположение об отмене завещателем легата. Этого рода презумпции Буркгард называет презумпциями воли — praesumtiones voluntatis (Burckhard, Praesumtionen, § 30 — 32).
Хотя презумпции, таким образом, оказываются родственными фикциям, что, естественно, повело к тому, что их нередко смешивали, однако презумпции всегда, если позволят так выразиться, пользовались большими симпатиями юристов. В то время как против фикций часто воздвигаются гонения как против незаконных дочерей юриспруденции, за которых она будто бы должна краснеть, вторые пользуются полным признанием законности своего рождения. Некоторому сомнению подвергаются иногда только praesumtiones juris et de jure, сходство которых с фикциями заметнее, тогда как родство с последними предположений вообще часто решительно отрицается. Это мнение, что между юридическими фикциями и презумпциями нет ничего общего, подробно развито Г. Муромцевым в его сочинении «О консерватизме римской юриспруденции». Указывая, что Мейер рассматривал презумпции и фикции как явления родственные, Г. Муромцев говорит: «При подобном приеме упускается из виду, что презумпция есть явление, существование которого обусловлено таким недостатком юридического мышления, которым это последнее обладало и, по всей вероятности, будет обладать всегда; тогда как фикция составляет результат его преходящего несовершенства». Источник презумпций заключается в невозможности для судьи во всех случаях добираться путем правильного исследования до истины, вследствие чего право и указывает судье руководиться в некоторых случаях предположениями, выведенными на основании вероятности из данного опыта жизни. Ничего общего не имеют с этим фикции. Необходимость их существования есть только кажущаяся, и логический прием, составляющий их содержание, не естественный, а искусственный; презумпцию создает рассудок, фикцию — воображение <40>. ——————————— <40> Муромцев. О консерватизме русской юриспруденции. М., 1875. С. 100.
При всем нашем уважении к авторитету почтенного ученого на этот раз мы не можем разделять его мнение и признаем, что Мейер был прав и что прием его привел бы к благоприятным результатам, если бы он внимательнее отнесся к вопросу о сущности рассматриваемых им явлений. Смешивать фикции с презумпциями, конечно, не следует, и Мейер, между прочим, ясно указал на существующую между ними разницу; но отрицать всякую родственную связь между этими явлениями, по нашему мнению, невозможно. В самом деле, на чем основывается это отрицание? На том соображении, что презумпции — явление постоянное, необходимое во всяком праве, а фикции — временное и не необходимое? Но это соображение едва ли верно даже с точки зрения г. Муромцева: постоянным и неизменным явлением в праве могут быть признаны лишь общечеловеческие предположения — praesumtiones hominis; что же касается так называемых законных предположений, то они в большинстве могут быть рассматриваемы как такой же временный продукт исторического развития права, как и фикции, являясь иногда также результатом преходящего несовершенства юридического мышления и будучи, подобно фикциям, искусственным средством удовлетворения какой-либо реальной потребности. Многим ли, напр., отличается в этом отношении от фикций знаменитое Муцианово предположение? Во всяком случае оно является, на наш взгляд, не менее искусственным средством удовлетворения временно народившихся потребностей, чем хотя бы предписание претора обсуждать иностранца как римского гражданина. Еще более близки к фикциям в этом отношении те презумпции, при которых не допускается доказательства противного. И источник фикций и презумпций не так уж различен. Едва ли справедливо говорить, что право предписывает судье руководствоваться презумпциями лишь в тех случаях, где ему трудно добираться до истины путем правильного исследования. Рассматривая примеры законных презумпций, легко видеть, что в известных случаях законодатель по тем или другим соображениям предпочитал, чтобы судья не исследовал истины, не имея вовсе в виду облегчить этим задачу судьи, а желая достигнуть совершенно других целей. Неужели только трудность исследования истины заставляет все законодательства выставлять предположение, что дитя, рожденное в браке, законно? Конечно, не интересы судьи и не желание избежать для него затруднений создали вышеупомянутое предложение Муция или приведенное выше предположение fr. 40, § 7, Dig de statuliberis, гласящее: melius est praesumtionem pro statuliberis esse <41>. ——————————— <41> См. выше, сн. 37.
Говорят, что фикция есть «дитя воображения, гостя незваного в области права» (Мейер), а презумпции суть «создание рассудка», а потому необходимость первых кажущаяся, а вторые неизбежны во всяком праве. Говоря так, делают ошибки: первая состоит опять-таки в том, что имеют в виду, будто предположения основываются исключительно на вероятности; а вторая — в том, что смешивают употребляемый при фикции прием с вызвавшей ее причиной. Фикция создается при помощи воображения, но не оно ее создает, а тот же холодный рассудок, слуга наших потребностей, который создает и предположения. И при создании законных предположений не все основано на простом вычислении и расчете, и здесь цель достигается, как мы видели, при помощи воображения, подсказывающего существование факта, правда, возможного, но нередко там, где нелегко и даже невозможно сослаться хотя бы на вероятность этого существования, но где рассудок требует все-таки признать его. Несомненно, что между существующими в праве законными предположениями встречались и продолжают встречаться такие, степень вероятности которых весьма различна: иногда она очень велика и граничит с достоверностью, иногда же возможность предполагаемого законом факта является настолько незначительной, так близко граничит с вымыслом, что невольно затруднишься, куда отнести данное юридическое определение: к области ли юридических фикций или к области законных предположений. Разумеется, степень вероятности предположения, что pater est, quem nuptiae demonstrant, более или менее велика. Не только вероятно, а даже, может быть, достоверно предположение, что дитя, рожденное спустя 10 месяцев по прекращении брака, есть незаконнорожденное <42> или что дитя, рожденное через 6 месяцев от заключения брака, зачато в этом браке; но уже далеко не так велика, напр., вероятность, что деньги, занятые солдатом, состоящим под отеческой властью, употреблены на военные нужды. А между тем это предположение являлось в римском праве императорского периода как praesumtio juris et de jure, т. е. не допускавшее доказательств противного. Не близко ли граничат такие предположения с вымыслом? Возьмем другой, еще более интересный пример предположения, допускаемого всеми известными законодательствами и выражающегося в общеизвестном правиле: «Nemo censetur ignorare legem». Считается, что всякий имеет возможность знать законы, раз они были обнародованы установленным порядком. На этом основании наказуемы правонарушения и преступления, хотя бы они и были совершены по неведению закона; на этом основании и в области гражданских отношений ignorantia juris nocet. Между тем несомненно, что вероятность, на которой построено указанное правило, во многих случаях прямо совпадает с вымыслом. ——————————— <42> Хотя в мед. науке признаются возможными и случаи более продолжительной беременности (см.: Гофман. Учебник судебн. медицины / Перев.; Под ред. проф. Сорокина. 1891. С. 1 — 6).
Английские юристы и пришли действительно к тому, что предполагают всякого англичанина присутствующим в парламенте в лице своих представителей, и отсюда выводят, что нет надобности в обнародовании закона и что законы должны считаться известными во всем Королевстве с того момента, как они одобрены палатами и санкционированы королем <43>. ——————————— <43> Dumeril, Les fictons juridiques, с. 8. Заметим, что в приведенном случае очень многие юристы не видят предположения права. Действительно, если бы правило закона было формулировано так: «Всякий обязан знать законы», то мы имели бы дело с нормой права принудительного; причем норма эта отличалась бы странным характером, так как требовала бы, особенно в государствах с развитым законодательством, от громадного большинства граждан невозможного. Такое требование, раз оно выставлено в закон, должно иметь в своем основании все-таки предположение, что выполнение его возможно. Если закон формулирован так: «Никто не может отговариваться незнанием закона, обнародованного в установленном порядке», то мы имеем дело с нормой права запретительного. Незнание закона здесь допускается, равно как и знание, но имеется предположение, что последнее всем легко доступно по обнародовании закона. Наконец, если бы закон был формулирован так: «Всякий гражданин считается знающим законы своей страны», то мы имели бы дело с нормою права, которая является презумпцией в ее чистейшем виде. Вопрос о том, насколько можно говорить о предположении в двух первых случаях, мы рассмотрим ниже. Здесь же мы рассуждаем, представляя себе возможный третий случай.
Этот пример наглядно доказывает, на наш взгляд, существование родственной связи между законными предположениями и фикциями. Очевидно, что далеко не всегда и не все законные предположения основывались и основываются на более или менее значительной вероятности, что иногда возможность факта (напр., возможность знания каждым гражданином законов) прямо невероятна; но законодатель по необходимости, в силу требований рассудка, прибегает в данном случае к помощи воображения и вымышленно считает эту возможность за вероятность и даже за достоверность, не допускающую доказательства противного. Но если не все презумпции являются созданиями исключительно одного рассудка, то, с другой стороны, вопреки мнению г. Муромцева, далеко не все фикции суть создания одного воображения. К ним прибегают не затем, чтобы отрицать истину, заменив ее продуктом фантазии, а чтобы, временно отрешившись от нее, достигнуть определенной, не воображением, а рассудком ясно назначенной цели. Мир явлений юридического быта знаком с такими вымыслами, про которые можно сказать, что они стоят на границе реального и что допущение их в праве вызывалось необходимыми потребностями самой действительности, требовалось здравым рассудком. Так что хотя здесь и прибегали к помощи воображения, но последнее вовсе не являлось тем незваным гостем, про которого сложилась известная русская пословица. Возьмем в пример признание юридической личности и правоспособности в имущественной сфере за государством, общинами и корпорациями. Как бы мы ни относились к фикции юридического лица вообще, хотя бы и вовсе отрицали ее надобность, но мы должны будем, конечно, согласиться, что признание, по аналогии с физическими лицами, за общинами и корпорациями юридической личности далеко не представляется таким искусственным логическим приемом, каким являются указанные выше предположения римского права: что те приобретения, об источнике которых жена умалчивает, дошли к ней от мужа и что сын семьи — солдат занимает непременно на военные надобности. Фикция есть, может быть, прием более искусственный, но, во всяком случае, близкий приему презумпций и не заключающий в себе ничего постыдного или опасного для юриспруденции, если только не увлекаться и не злоупотреблять им. Да, кроме того, оба приема не так уж различны и по цели, которой стремятся достигнуть при их помощи. В этом отношении не подлежит особо сомнению тесное родство презумпций juris et de jure с фикциями, так как и те и другие употребляются главным образом в целях систематики, для облегчения понимания и представления права <44>. Этой же цели служат и некоторые из простых praesumtiones juris; хотя главная цель последних преимущественно практическая — облегчить доказательство отдельных фактов; но некоторым из них не чужды и другие цели, одинаковые с теми, которые имеются в виду при создании фикций и презумпций juris et de jure, а именно создание новых норм для материального регулирования частных правоотношений, а также удовлетворение известным требованиям: нравственным, политическим и т. п. — вообще целесообразности и общего блага <45>. ——————————— <44> Поэтому-то praesumtiones juris et de jure и не пользуются симпатией среди юристов, которые, смешивая их с фикциями или отделяя от них, стараются изгнать их из юриспруденции (см.: Burckhard, Praesumtionen, Anhang). <45> Бирлинг в цит. статье слишком резко проводит разницу между praesumtiones juris, с одной стороны, и фикциями и praesumtiones juris et de jure, с другой, в отношении к преследуемой ими цели. Но, во-первых, он и сам вынужден заявить, что требования нравственного чувства, эстетические (?) и другие соображения могут играть роль при создании презумпций общего рода, а во-вторых, не подлежит сомнению, что роль praesumtiones juris не ограничивается одним облегчением доказательства в процессе. Когда законодатель выставляет презумпцию, что женщина, вступившая во второй брак и требующая обратно от своих детей от первого брака дара по неблагодарности, на самом деле требует его по причине вступления во второй брак, то этим он прямо отменяет в подобных случаях revocatio propter ingratitudinem (Nov. 22, cap. 35). Когда закон предполагает, что воля завещателя была такова, чтобы универсальный фидеикомисс перешел к получателю cum onero legatorum, т. е. с обязанностью выдачи легатов, то этим создается правило права, что на получателя фидеикомисса падает в соответственной доле обязанность выдачи легатов (Fr. 2 ad. S. C. Trebell. 36, I сопоставить с I. 2. Cod. cud. 6.49: «Ad eum, cui ex SC. Trebelliano pars hereditatis restituitur, successionis onera seu legatorum praestationem pro competenti portione spectare indubitati juris est». Когда закон говорит, что деньги, занятые сыном семьи — солдатом, взяты на военные надобности, то он вводит исключение из правила, установленного по S. C. Macedonianum (см. также, напр., выше цитир. fr. 40, § 7. Dig. 40.7 и особенно см. § 3, I, quibus mod. Toll. Obl. 3, 29 и l. olt. Cod. de nov. Et deleg. 8,42; Burckhard, Praesumtionen, S. 90 folg.).
Сказанного, надеемся, достаточно, чтобы показать, насколько справедливо заявление г. Муромцева об отсутствии всякой связи между фикциями и предположениями. Все сказанное г. Муромцевым было бы справедливо, если бы презумпции были только заключениями из известных фактов, выводимыми на основании законов логики. Тогда все законные предположения можно было бы свести на степень предположений общечеловеческих. Это и пытался действительно сделать Эндеман в его сочинении, цитируемом г. Муромцевым <46>. ——————————— <46> Endemann. Die Beweislehre der Civilproc. § 23 — 27.
Пусть читатели сами судят, насколько некоторые из приведенных нами презумпций могут быть названы общечеловеческими. Итак, во второй группе явлений, разбираемых Мейером, — в той, в которой имеет место предположение существующим факта возможного, мы имеем случаи, где употребляемый для применения юридических определений прием близок к вымыслу. Эти именно случаи предположений легко могут быть подводимы под понятие фикций в обширном смысле. Предположение фактов возможных и вероятных занимает, естественно, середину между несомненным достоверным существованием факта и заведомым вымыслом, оттого и понятно колебание во мнениях об отношении предложений к фикциям. Заметим, что, кроме указанного Мейером и общепринятого издавна разделения предложений на praesumtiones hominis, praesumtiones juris и praesumtiones juris et de jure, в разное время различными авторами выставлялись другие разные подразделения их, не имеющие по большей части никакого научного значения. Исключение составляет в этом отношении цитированная уже не раз монография Буркгарда, где автор с глубоким знанием дела старается определить различные виды презумпций по их содержанию, отличая: презумпции права в обширном и тесном, собственном смысле; презумпции материальные и процессуальные; презумпции происшествий и презумпции воли и т. п. Разъяснение оснований всех этих подразделений и разбор их должны были бы, пожалуй, занять место здесь в главе, посвященной классификации родственных фикциям явлений юридического быта; но так как роды и виды презумпций, установленные Буркгардом, не получили общего признания и так как изложение всех родов и видов предположений отвлекло бы нас слишком далеко от главной цели, намеченной в этой части работы, т. е. определения природы и сущности всех групп тех особых ненормальных явлений юридического быта, которые подводятся иногда под понятие юридических фикций в обширном смысле, и в частности разбора классификаций этих явлений, выставленных Мейером и Дюмерилем, то мы удовольствуемся пока господствующим поныне делением презумпций, а с возражениями против этого деления и с видами презумпций, выставляемыми Буркгардом, предоставим себе познакомиться позднее. Впрочем, об одном из этих выделенных Буркгардом видов презумпций, о презумпциях воли, придется говорить сейчас по поводу характеристики так называемых скрытных действий, к которой мы перейдем в следующем параграфе.
§ 5. Скрытные действия (презумпции воли)
Обе предыдущие группы явлений юридического быта могут быть рассматриваемы как случаи применения особых технических приемов юридического мышления. Совершенно иное представляется нам в третьей группе описываемых Мейером уклонений от нормального порядка, в так названных им скрытных действиях. Название уже показывает, что здесь мы имеем дело не с созданием юридической техники, а с особого рода изъявлениями воли, со случаями юридических действий. С первого взгляда может поэтому показаться странным, что Мейер говорит о скрытных действиях непосредственно за фикциями и презумпциями. Но с той точки зрения, с которой он рассматривает в своем сочинении все явления юридического быта, т. е. с точки зрения образа применения юридических определений к фактам, случаи скрытных действий, как понимал их Мейер, могут быть поставлены рядом с презумпциями, ибо в них также замечается ненормальность, уклонение, которое, по словам Мейера, здесь состоит в том, что «юридическое определение применяется к факту, хотя существующему в действительности, но выражаемому другим фактом, как знаком или эквивалентом». Так как под это определение легко можно подвести случаи совершения так называемых символических действий, то Мейер и старается между прочим выяснить отличие последних от действий скрытных. Мы рассмотрим сначала понятие скрытных действий. Скрытность действия зависит от способа изъявления воли лица. Воля может быть выражена прямо, непосредственно, в таких действиях, которые предпринимаются именно с тою целью, чтобы свидетельствовать о существовании ее. Так, непосредственно она выражается в словах, в речи, в письме и т. д. Но изъявление воли может заключаться и в таких действиях, которые имеют свою самостоятельную цель, но по которым можно заключать о существовании у лица воли на какое-либо другое действие. Такое проявление воли посредством действий, имеющих свою самостоятельную цель и лишь косвенно, так сказать, свидетельствующих и о воле лица на другое действие, называют посредственным или косвенным изъявлением воли <47>. ——————————— <47> О различии способов изъявления воли см. I-е и II-е приложения к этому параграфу.
Мейер трактует вопрос не с точки зрения способов изъявления воли, и его внимание обращают на себя не те действия, которые, преследуя свою самостоятельную цель, указывают в то же время на существование у действующего воли на другое действие, не facta concludentia (schlussige Handlungen), а те действия или факты, воля на которые обнаруживается посредственно. Интересуют его последние действия потому, что хотя сами непосредственно они не обнаруживаются, но «юридические определения, рассчитанные на них, получают силу». Ставя, таким образом, рядом случаи скрытных действий со случаями применения фикций и презумпций, Мейер, естественно, желает отличить первые от последних и ошибочно видит этот отличительный признак в том, что существование скрытных фактов выдает знак, свидетельствующий о действительном их существовании, а не о вероятном <48>. ——————————— <48> Мейер. С. 69.
Насколько неудачно выбран этот якобы характерный для скрытных действий признак, видно из того уже, что несколькими страницами ниже <49>, говоря о том, что при скрытных и символических действиях для доказательства действия надо доказать его знак, доказать то, что служит его выражением, Мейер сам вынужден отметить, что при скрытных действиях «возможно иногда сомнение, действительно ли доказанный факт служит органом воли, прямо в нем не выраженной» и что сомнительное скрытное действие имеет тогда значение предположения. Эта неправильность или непоследовательность в указании отличительного признака скрытных действий не может быть, однако, поставлена Мейеру в вину, хотя бы уже по той причине, что не только в его время, но и доселе юристы не согласились относительно понимания косвенного изъявления воли и установления признаков скрытных действий. ——————————— <49> Id. C. 84.
Все согласны, что бывают случаи, когда воля на одно действие проявляется посредством совершения другого действия, для обнаружения этой воли не назначавшегося, но тем не менее обнаруживающего ее. Но в обсуждении этих случаев юристы издавна расходятся. Одни, подобно Мейеру, заявляют, что между скрытным действием и тем, посредством которого обнаруживается воля на него, должна быть необходимая внутренняя связь, которая давала бы основание к «несомненному заключению из данного поведения (действия или упущения) лица о наличности у него известной воли». Так обсуждают понятие конклюдентных фактов Штессель, Арндтс, Виндшейд, Вехтер, Буркгард и др. <50>, отождествляя понятие конклюдентных фактов с молчаливым изъявлением воли и исключая как из понятия молчаливого изъяснения воли, так и из понятия конклюдентных фактов те случаи, когда заключение о существовании у лица воли на другое действие логически не принудительно, а его приходится строить на предположении. Случаи, где обнаруживается voluntas tacita, отличают строго от случаев, где имеется voluntas praesumpta. Особенно выдвигает это различие Буркгард. Другие ученые, начиная с Савиньи, не так уже строги в определении понятия конклюдентных фактов и усматривают главный признак здесь в том, что воля на одно действие выводится здесь путем умозаключения из другого действия, имеющего свою самостоятельную цель, — все равно, будет ли это заключение логически необходимо или только вероятно <51>. ——————————— <50> Slossel, Stilischweigende Willenserklarung, 18 — 9; Arndts, Pandecten, § 64; Windscheid, Pandect., § 72 и примеч. 8, 9, 10, где указаны многочисленные примеры и литература вопроса; Wuchter, Pandect., II, § 98, с. 734; Wurt, Privatrecht, B. II, § 98, ср. 734; Burckhard, Civilistische Praesumtionen, § 29, с. 270 и 285. <51> Savigny, System, B. III, с. 243. Савиньи, впрочем, высказался несколько нелепо в следующей фразе: «So muss ein sicherer Schluss moglich sein von der vorgenommenen Handlungen auf Dasein des Willens». «Sicherer Schluss» некоторые принимали за равнозначное выражение с «nothwendiger Schluss», хотя из дальнейшего изложения ясно видно, что Савиньи требует лишь, чтобы заключение было достаточно обоснованно (wohlbegrundet). Вопросу о конклюдентных фактах долго не придавалось особого значения, и многие авторы не замечали попытки установить различие между voluntas tacita и voluntas praesumpta, а потому нередко заимствовали определение понятия конклюдентных фактов как таких действий, в которых необходимо обнаруживается воля на другое действие, и в то же время говорили о конклюдентных фактах и в тех случаях посредственного изъявления воли, где последняя выводится лишь по предположению. Немудрено, что в подобную же логическую погрешность мог впасть и русский ученый.
Это последнее учение можно назвать господствующим, хотя представители его в последнее время далеко расходятся между собой во взглядах на самое частное значение частной воли и ее проявления вовне для наступления правовых последствий. С тех пор как стали оспаривать правосоздающую силу частной воли по отношению к последствиям юридического действия и выдвигать вместо того учение о фактическом составе, с которым юридическое право связывает известные юридические последствия <52>, учение об изъявлении или обнаружении воли подвергалось неоднократно пересмотру вместе со всем учением о юридических действиях и особенно о юридических сделках. ——————————— <52> См.: прил. I к этому параграфу.
Некоторые из тех авторов, которые видят в обнаружении воли лишь один из таких моментов фактического состава, с которым закон связывает правовые последствия, склонны вовсе отрицать различие между посредственным и непосредственным или явным и молчаливым изъявлением воли и отрицательно относятся к самому понятию конклюдентных действий, находя его ненаучным и излишним <53>. ——————————— <53> В ряду этих ученых первым по времени является Schlossmann (Der Vertrag, 1876), отрицающий понятие молчаливого изъявления воли (с. 48), а за ним стоит Hartmann (Werk und Wille bei stillschweigenden Consens., Archiv fur die Civil. Praxis, B. 72, с. 161 и сл.), заявляющий, что все такие школьные деления и понятия, как явное и молчаливое изъявление воли, как различие между voluntas tacita и voluntas praesumpta, только вносят путаницу в умы и должны быть оставлены, ибо твердых границ здесь установить нельзя. Надо лишь обращать внимание в каждом конкретном случае на моменты фактического состава, с которыми закон связывает юридические последствия. Близок по взглядам к Гартману Граф Пининский (Thatbestand des Sachbesitzerwerbs, B. II, с. 322, 439, 442), который хотя и не объявляет понятия молчаливого изъявления воли, или, как он отождествляет, конклюдентных действий, излишним, но признает, что как при явных, так и при молчаливых изъявлениях воли изъявленная воля узнается посредством толкования и что в том, что касается отношения между волей и изъявлением, оба способа совершенно одинаковы, что в обоих случаях идет речь об изъяснении воли и в обоих случаях совершенно правильно внешнее поведение (Aubere Benehmen) называется indicium voluntatis. «А если нет никакого существенного различия между обоими способами изъявления воли, то тогда ясно, что ошибочно понимать волеизъявление как действие и извлекать отсюда последствия» (ср.: Bekker, System, II, с. 79, а также: Brinz, Lehrbuch der Pandect., B. IV, § 564, примеч. 7 и 9). Далее других в отрицании понятия конклюдентных фактов идет Эрлих (Ehrlich, Stillschweigende Willenscrklarung, 1893, с. 111, 112, также 237 и сл.), который прямо готов утверждать, что молчаливого волеизъявления, состоящего в таких действиях, которые предприняты были не с целью служить выражением цели, не существует. Близко к мнениям этих ученых подходят Регельсбергер и Беккер (см. ниже, сн. 54 и 56). Ср. приложение II к этому параграфу.
Большинство ученых, однако, не находят нужным отбросить вовсе понятие конклюдентных фактов; причем некоторые перестают отождествлять это понятие с понятием молчаливого изъявления воли. Конклюдентные действия определяют как такие, «которые совершаются не в намерении изъявить волю, а только вдобавок доставляют и эту услугу и являются в известном смысле предателями воли» <54>, или как действия (слова или дела), выполняющие, кроме назначения, которое они сами по себе имеют, еще функцию слова, так как кроме воли, которая в них осуществляется или выражена, они выдают другую невыраженную волю <55>. ——————————— <54> См.: Regelsberger, Pandect., I, § 138, III. <55> Особенно подробно объясняет природу конклюдентных фактов Бринц в его учебнике Пандект (II, § 564), останавливая внимание на том именно обстоятельстве, что эти конклюдентные факты служат как бы подспорьем слову, добавочным к слову средством изъявления воли и что воля здесь узнается «не ухом или глазом, а посредством умозаключения».
Нередко определяют также facta concludentia как такие действия, доказательство которых уполномочивает на достаточно надежное заключение относительно другого действия того же лица <56>. Что касается вопроса о том, должно ли это заключение быть необходимым и достоверным или же достаточно здесь заключения, основанного на вероятности, то большинство новейших авторов решительно высказываются за последнее. Одни, как Дернбург и Бринц, допускают, что заключение может быть иногда необходимым, логически принудительным <57>, но что оно не должно непременно быть таковым. Достаточно, говорит Дернбург, чтобы оно было обосновано эмпирически, т. е. соответствовало житейскому опыту. Другие, как Беккер, напр., не допускают возможности достоверных или необходимых заключений. Достоверность, по словам Беккера, не может быть здесь достигнута, а следовательно, не может быть и требуема, что видно из допущения противодоказательства; требуется лишь «высшая степень вероятности», «между которой и достоверностью нет границ» <58>. ——————————— <56> Bekker. System, II, § 93, Beilage III. <57> Brinz. Lehrbuch der Pandecten, B. IV, с. 277, 2. Aufl. Кто принял с должника проценты на занятый капитал вперед на следующий год, тот этим хотя и косвенно, но необходимо согласился на годичную отсрочку уплаты долга. К этому приведенному Дернбургом примеру (Pand. I, с. 230), взятому из fr. 57 Dig. de pactis 2, 14, присоединяют: fr. 13, § 11 Dig. locat. 19, 2; fr. 26, § 1 Dig. de pign. 20, 1 и др. (см. ниже, сн. 62). <58> Надо заметить, что и Дернбург, и Беккер считают недостаточной «простую вероятность» или, как поясняет Беккер, «особый низший род вероятности». Разумеется, этот способ деления вероятности на высшую и низшую, или простую, представляется довольно неопределенным. Несомненно, что и Дернбург, и Беккер допускают возможность заключения не только на основании научной вероятности, а и по так называемой эмпирической или общей вероятности. Заключение будет всегда, таким образом, относиться к области общечеловеческих предположений, необязательных для судьи. Выделится оно из этой области лишь в том случае, если само объективное право по каким-либо причинам укажет судье им руководствоваться.
Так как и при непосредственном изъявлении воли заключение от этого последнего к лежащей в его основании воле не может быть названо необходимым, то, по мнению Беккера, таким образом, нет разницы в этом отношении между прямыми изъявлениями воли и конклюдентными фактами. Подобно Беккеру, и Регельсбергер признает, что нет таких средств изъявления воли, которые можно было бы назвать вполне точными. Абсолютной уверенности не представляет даже слово, так как и здесь возможны недомолвки, ошибки, взаимное непонимание и т. д., тем более не могут дать такой точности конклюдентные действия. Однако «правовой порядок, как и сама жизнь, имеют дело лишь с относительными величинами и должны довольствоваться той уверенностью, которую дает им в руки средний опыт». «Воля, которая по человеческому опыту обыкновенно связана со словесным или с облеченным в действие изъявлением, есть для права воля в конкретном случае». «На эту волю может сослаться действующий, за нее он делается ответственным» <59>. ——————————— <59> Само собою разумеется, что при оценке действия должно принимать, что лицо действовало разумно и честно и что обсуждение действия по правилу житейского опыта не может иметь места, если действующий явно объявил при действии иную волю, а не ту, которую можно было бы вывести (Protestatio et reservatio) (Regelsberger, I, § 138, III). См. прилож. III к этому параграфу.
При таком различии взглядов на значение конклюдентных действий общепринятым остается то, что здесь мы имеем дело с заключением по одному действию о существовании воли на другое действие или о совершении другого действия. Едва ли также можно считать спорным положение, что это заключение может быть не только необходимым, но и лишь вероятным. Те авторы, которые, подобно Буркгарду, ограничивают понятие конклюдентных фактов случаями лишь первого рода, слишком суживают круг конклюдентных действий <60>, притом те случаи, на которые они указывают, не всегда подходят под выставляемые им требования. ——————————— <60> Stossel. Die stillschweigende Willenserklarung, с. 13, 1859, прямо заявляет, что настоящие конклюдентные действия должны быть очень редки.
Так, Буркгард, подробнее других авторов перечисляющий эти случаи <61>, приводит их всего четырнадцать <62> и между ними указывает, напр., случай так называемого молчаливого продолжения контракта найма дома остающимся по окончании срока найма жить в доме квартирантом — случай, где заключение о воле на продолжение договора никоим образом не может быть признано необходимым <63>. Равным образом едва ли можно признать заключение это необходимым в следующем из приведенных Буркгардом случаев: «Если отказанной завещателем вещью невозможно воспользоваться без установления определенного сервитута, то сервитут считается отказанным молчаливо, напр. сервитут дороги, в случае, если отказанный земельный участок окружен другими участками наследодателя». Случаи этого рода, во-первых, можно относить к толкованию явного волеизъявления <64>, ибо распоряжение завещателя должно быть толкуемо в том смысле, в каком оно может получить осуществление, а во-вторых, выставленное Буркгардом в общей форме положение о молчаливом установлении сервитутов едва ли может быть признано правильным и, во всяком случае, не находит основания в том месте Дигест, на которое оно ссылается, так как это место <65> имеет в виду лишь следующий частный случай: некто имел два участка земли. Один участок он отказал одному лицу, а другому лицу он отказал узуфрукт на второй участок. Оказалось, что второй легатарь не может проехать к оставленному ему в пользование участку иначе как через участок, отказанный в собственность первого. Спрашивается: принадлежит ли в этом случае узуфруктуарию сервитут дороги (via) через этот последний участок? Юрист, конечно, решает вопрос утвердительно, ссылаясь на волю завещателя, и говорит, что легатарь не может в этом случае виндицировать отказанный ему участок, пока не предоставит права прохода через него узуфруктуарию <66>. ——————————— <61> Burckhardt, Die Civ. Praesumtionen, с. 273 и 274. <62> 1) L. 56 pr. D. de pactis II, 14: «Qui in futurum usuras a debitora acceperat, tacite pactus videtur, ne intra id tempus sortem potat». Этот пример цитируется и Дернбургом (см. выше, сн. 57); 2) I, 13, § 11, D. loc. XIX, 2; 3) l. 1. 2 pr. D. de ind. V, i и l. 1D. de iurisd. 11, l.; 4) l. 6, § 2 и l. 7 D. de lege commis. XVIII, 3; 5) l. 15, § 1 D. de usufr. Leg. XXXIII, 2; 6) l. 8 pr. D. quemadmodum serv. amit. VIII, 6; 7) l. 26, § 1 D. de pign. XX, 1; 8) l. 12 D. de evict. XXI, 2; 9) l. 114, § 14. D. de leg. I и l. 38, § 3 и 4 Dig. de leg. III; 10) l. 74 pr. D. ad S. С Trebell. XXXVI, I и l. 77, § 24 D. de leg. II; 11) l. Cod. de re iug. VII, 52; l. 12 Cod. de don. inter virum et uxor. V, 16; 13) l. 23, § 1 D. de inolf. V, 2; 14) l. 11. Dig. quibus modis pign. XX. 6 (ср.: Windscheid, Pandecten, Bd. I, § 72, с. 178 (прим. 9), где указаны иные примеры, а именно: l. 9Dig. de acquir. vol. ommit. hered. XXIX, 2: «Recusari hereditas non tantum verbis, sed etiam re potest et alio quovis indicio voluntatis»; l. Dig. Ratam rem XLVI, 8; § 7 I. de hered. qualitate II, 19 и l. 20 D. de acquir. vel omm. her. XXIX, 2; l. 2, § 1 Dig. de pactis II, 14; l. 7 Cod. de rem. pign. VIII, 22 (26); l. 14 Cod. de solut. VIII, 42 (43); l. 5, § 2 Dig. in quibus caus. Pign. XX, 2; l. 38 (37) pr. D. ad S. С Trebell. VI, 1. <63> См.: Zitelmann, Irrthum und Rechtsgeschaft, 1879, с. 268. Квартирант, напр., не оставляет в срок квартиры по той причине, что у него в семье трудный больной или покойник, которого еще не успели похоронить. Об этом последнем случае см.: Jahrbucher fur die Dogmatik des heut. rom. und deutsch. Privatrechts, B. XIII, с. 237 ff. (Lehmann). <64> Ср.: Windscheid, Lehrbuch d. Pand. I, § 72, примеч. 9: «О молчаливом волеизъявлении говорят также в совершенно другом смысле, когда подразумевают под ним явное волеизъявление, которое облечено в другое. Так, в translatio legati лежит tacita ademtio (66 I. D. de adem. XXXIV, 4; ср. Band III, § 625, примеч. 17 и § 635, 2). Граница между этого рода случаем и случаем молчаливого волеизъявления может являться сомнительной» (ср.: Zitelmann, соч., цит., с. 264 и сл.). <65> L. 15, § 1 D. XXXIII, 2. <66> «Quemadmotam, si in hereditate esset fundus, per quem fructuario potest praestari via, secundum defuncti videtur id exigere ab herede, ita et in hac specie non aliter concedendum esse legatario fundum vindicare, nisi prius jus transeundi usufructuario praestet, ut haec forma in agris servetur, quae vivo testatore obtinuerat» etc.
Стоит, однако, несколько, хотя и незначительно, изменить те обстоятельства случая, на которых юристу приходилось бы основывать свое решение, и оно, конечно, было бы иное. Представим себе, что доказано, что завещатель не имел сведений о положении отказанного участка земли и не знал, что к нему невозможно проехать иначе как через участок наследника или другого легатаря. Тогда приходится предполагать, что если бы завещатель знал это, то он, конечно, установил бы сервитут. Это заключение едва ли уже можно назвать так же твердо основанным, как делаемое юристом в предыдущем случае. Можно, наоборот, утверждать, что если бы завещатель знал о положении данного участка, то он не отказал бы узуфрукта за него, а выбрал бы другой или заменил бы легат узуфрукта легатом денежной суммы и т. д. Представим себе, наконец, доказанным, что завещатель намеренно отказал участок без установления необходимого для пользования им сервитута в расчете, что легатарь уплатит наследнику или другому легатарю за установление права прохода известную сумму, — тогда заключение о молчаливом установлении сервитута придется, конечно, отвергнуть. То же самое применимо и к остальным случаям конклюдентных фактов, приводимых Буркгардом. Некоторые из них могут быть рассматриваемы как случаи непосредственного изъявления воли, так как действие, из которого выводится заключение, не имеет другой цели, кроме цели выразить эту волю. Напр., случай, взятый из l. 12 D. De evict. 21, 2: один из сонаследников продает все принадлежащие к наследству недвижимости, а другие, присутствуя при этом, не противоречат, а получают свою долю из вырученной от продажи суммы <67>. Во всех остальных случаях, по справедливому замечанию Беккера <68>, на основании данного фактического состава делается заключение о воле действующего лица лишь под предположением, что действующий знал все положение дела и что при совершении действия он не выставил никаких условий, не сделал никаких оговорок, о которых не упомянуто в разрешаемом казусе. Таким образом, об абсолютной достоверности заключения и о недопустимости противодоказательства здесь нельзя говорить, так же как нельзя говорить об этом и при случаях непосредственного изъявления воли. Буркгард несправедливо утверждает противное. Во всех указываемых им примерах действительно заключение о существовании воли достигает высшей, хотя и неодинаковой степени вероятности; но следует ли отсюда, что необходимо совсем не признавать изъявлениями воли те случаи, где заключение о скрытной воле также вероятно, но лишь в меньшей степени? Почему можно говорить о скрытном намерении и о конклюдентном факте в том случае, когда кредитор взял с должника вперед проценты за определенное время, и нельзя говорить о том же в случае, когда кредитор возвратил должнику документ? <69> Разве только потому, что в последнем примере намерение кредитора менее ясно? Но ведь, во всяком случае, в данном действии обнаружилась воля кредитора. Если содержание этой воли сомнительно, то оно может быть таковым и нередко бывает и при непосредственном изъявлении воли, которое также может быть неясным при сомнительном смысле знаков волеизъявления; выведенная из последнего путем его толкования воля будет также лишь предполагаемая, как является предполагаемой воля кредитора на отказ от взыскания долга, выводимая из отдачи им должнику долгового документа. Сомнительное по содержанию непосредственное изъявление воли остается все-таки непосредственным изъявлением ее; а равно конклюдентный факт остается таковым, т. е. косвенным средством обнаружения воли, хотя бы заключение, выводимое из него, было основано лишь на предположении <70>. ——————————— <67> К этой же категории относится, конечно, случай в l. 12 Cod. V, 16. <68> Bekker, System d. heut. Pandectenrechts, B. II, § 93, Berl., III. B., с. 79. Это замечание вполне применимо и к случаям скрытных действий, указанных Виндшейдом (см. выше, сн. 62 в конце). <69> L. 14 Cod. de solution. et liber. VIII, 42. <70> Brinz, Lehrbuch der Pandect., B. 14, с. 277, 2 Aufl., 1895: «Wie dann zweideutige Worte noch immer Worte, so sind, scheint es, auch die mehrdeutigen Facta noch immer stillschweigende Willenserklarungen».
Таким образом, представляется совершенно неправильным ограничение круга конклюдентных фактов лишь теми случаями, где заключение из такого факта к обнаруживаемой в нем воле представляется необходимым. Но рядом с этим нам надлежит разрешить еще другой вопрос: может ли вообще такое заключение быть необходимым или оно всегда бывает лишь вероятным? По мнению некоторых, оно ни в каком случае не может быть необходимым <71>; а другие, как мы упоминали, находят необходимое заключение возможным. Нам кажется, что причина разногласия кроется в значительной мере в словах, т. е. в различном представлении, соединяемом авторами со словами «необходимо» и «вероятно». Исходя из положения, «что право, как сама жизнь, имеет дело только с относительными величинами», мы, конечно, всякое заключение от средства, которым обнаруживалась воля вовне, к самому содержанию воли должны будем признать только вероятным. Однако, раз такая достоверность недостижима, должны ли мы все оставить на произвол случая и, видя, что все, что нам известно, на самом деле может быть только лишь вероятным, отказаться по этой причине от всякого знания? Конечно, нет. Мы должны знать истину, по крайней мере с тем приближением, которое для нас доступно, и с этим приближением должны принимать ее как таковую, как обязательную для нас истину, а не как предположение только, которое мы можем еще и отринуть. С этой точки зрения, нам кажется, исчезает разница между противоречивыми, по-видимому, мнениями юристов. Когда один из них <72> говорит, что при конклюдентных фактах заключение может быть логически необходимым, а другой <73> говорит, что оно может быть только в высшей степени вероятным, они оба думают вполне согласно и оба имеют в виду здесь такое заключение, которое верно с тою лишь степенью приближения, какая возможна для нашего знания, или, точнее, с тою, при которой заключение становится для всех юридически обязательным. Итак, если нет и не может быть достоверных вполне заключений из конклюдентных фактов, то бывают все-таки заключения, настолько близкие к истине, что к признанию их обязательности должен прийти всякий разумный человек и что поэтому объективное право, со своей стороны, признает их обязательными, пока противное не доказано; обязательными настолько, что если тот, чья воля определена была путем такого заключения, вздумал во избежание последствий этого заключения заявить, что он этой воли не имеет или не имел, то одному этому заявлению его не будет дано веры, ибо это будет protestatio facto contraria, т. е. заявление, которое противоречит его воле, обнаружившейся фактически (rebus ipsis et factis) <74>. ——————————— <71> Bekker, System, II, § 93. Zitelmann (Irrtum und Rechtsgeshaft, с. 265 и сл.) находит, что во всех тех случаях, когда говорят о необходимом заключении при конклюдентных фактах, или имеет место явное изъявление воли, или же заключение о воле вовсе не является необходимым: «Vor allem ist zu bemerken, dass an sich die Schlussfolgerung aus dem ausseren Verhalten selbst auf die juristische Absicht in keinem einziger Fall eine notwendige sein kann». <72> Дернбург, напр. (см. выше, сн. 57). <73> Беккер (см. выше, сн. 56). <74> Так, была бы недействительна протестация в случае, указанном в l. 57 D. de pactis 14, а равно и в некоторых других из приведенных Буркгардом случаев (см. сн. 62). Случаи непризнания судом такой протестации см. в seufert’s Archiv III, 315 и XXVI, 142.
Подобные немногочисленные, конечно, случаи, те самые, которыми, как мы сейчас видели, иные ученые думают исключительно ограничивать круг конклюдентных фактов, очевидно, нет надобности смешивать с теми, где заключение о бытии и содержании воли на юридическое действие основано лишь на одном, хотя и вероятном более или менее предположении, достаточном, может быть, для того, чтобы обосновать на нем решение судьи, но легко устранимом в то же время одним заявлением того, о чьей воле заключают. Таким образом, мы можем с полным правом различать два вида конклюдентных действий: 1) те, при которых заключение к скрытной воле действительно обязательно для судьи и для самого действующего, хотя бы он заявлял далее протест против такого заключения <75>; 2) те действия, при которых заключение к скрытной воле действующего сомнительно и допускает возможность нескольких предположений, из которых закон указывает одно (сообразуясь со степенью его вероятности или, независимо от этого, по другим соображениям) как такое, которому предпочтительно должен следовать судья, если со стороны действующего не будет заявлено протеста. Это те случаи, где voluntas tacita представляется лишь как voluntas praesumpta и где для устранения основанного на презумпции заключения о воле, а равно связанных с этим заключением последствий достаточно одного протеста лица, о воле которого заключение делается <76>. За этими пределами лежит еще область простых общечеловеческих предположений в пользу существования воли — предположений, которые могут родиться в голове каждого, но которые необязательны для судьи, хотя и могут влиять на его убеждение <77>. Таким образом, с нашей точки зрения, легко разрешается затрудняющий Беккера вопрос: когда изъявления воли могут быть названы предполагаемыми? Мы не назовем таковыми ни те непосредственные изъявления воли, где последняя высказана ясно, ни те случаи, когда воля обнаруживается реально в исполнении намерения, ни те, наконец, когда она обнаруживается, хотя лишь посредственно, как скрытная, но с такой убедительностью, что признается объективным правом доказанной и обязательной для действующего. Предполагаемыми мы назовем те волеизъявления, где заключения о воле действующего, о совершении им действия хотя и не представляется доказанным, но принимается за таковое согласно предписанию права (praesumtio juris). Заметим, что объективное право вовсе не обязано руководствоваться в этих предписаниях непременно только вероятностью; напротив, определения его могут исходить и из других соображений. Оно может допустить предположение такой воли у лица, присутствие которой хотя и возможно, но маловероятно; может даже объявить такое предположение не допускающим доказательства противного (praesumtio juris et de jure <78>); может, наконец, идти далее и заставить принимать существование воли у лица тогда, когда несомненно, что этой воли на самом деле нет. Voluntas praesumta незаметно переходит в voluntas ficta, почему относимые в тот и другой случаи так часто и смешиваются юристами <79>. Разумеется, с точки зрения тех юристов, которые учат, что последствия юридических действий связываются объективным правом не с волею, а с совокупностью моментов фактического состава, voluntas praesumta, как и voluntas ficta, могут показаться ненужными, излишними <80>. Но раз юрист придает бытию воли существенное значение для наступления юридических последствий, ему необходимо придется иметь дело с предположениями относительно бытия и содержания воли. Прибегать к вымыслу воли судей ныне не представляет надобности. Разумеется, от законодателя вполне зависит, найдет ли он удобным свести известные юридические последствия к вымышленной воле лица (в последнем случае это равносильно признанию, что в данном случае воля для наступления последствий излишня) или предпочтет просто указать, что последствия эти наступают, как только имеются налицо известные моменты фактического состава. ——————————— <75> Zitelman, как уже упоминалось, видит во многих из этих случаев явное изъявление воли. Подобное же мнение высказывает и Ehrlich (см. сн. 53 в конце). Но несомненно, что во многих из этих случаев воля обнаружена посредственно, познается лишь путем заключения и что в то же время обнаружение ее влечет те же последствия, как если бы она была обнаружена непосредственно и ясно. Беккер (System, II, с. 80), очевидно, имеет в виду именно эти случаи конклюдентных действий, когда говорит о таких молчаливых обнаружениях воли, при которых одного голого заявления действующего недостаточно для освобождения его от связанных с обнаружением воли последствий, и что эти случаи должны быть обсуждаемы одинаково со случаями явных волеизъявлений. Последняя мысль ранее особенно развита Буркгардом. Она требует указанной уже поправки, т. е. указания на то, что и явное изъявление воли может быть неясным и что здесь необходимое заключение о воле нужно сопоставлять именно с ясным непосредственным волеизъявлением. <76> Примеры в источниках многочисленны: см. l.14, § 7 и 8 D. de relig. XVII, 7; l. 20, § 1 D. de acquir. vel omm. ber. XXIX, 2. Буркгард приводит много таких примеров в своей книге (Die civ. Praesumtionen, см. § 30). <77> Это, надо полагать, и есть область «простой» или низшей вероятности, которую исключают из понятия конклюдентных фактов Дернбург и Беккер (см. выше, сн. 58). <78> Прекрасный (в смысле доказательности нашего мнения) и крайне характерный пример подобного предположения приводится у Мейера из недавнего прошлого нашего отечественного права (с. 84): «Дозволение лица крепостному его человеку жениться на воспитаннице Александровского института воспитательного общества благородных девиц выражает отпуск крепостного человека на волю». <79> Это смешение часто имеет место в тех случаях скрытных действий, где о воле на действие выводят заключение из молчания лица или, наоборот, в тех, где наступление юридических последствий сводят к молчаливо выраженной воле лица. Особенно это смешение обнаруживается в обсуждении случаев законной ипотеки (Dig. XX, 2; см. также приведенные Мейером примеры (с. 77 и сл.)). Особенно любопытным представляется пример, взятый Мейером из практики: лицо приглашается явиться в заседание общества и предупреждается, что в случае его неявки его будут считать согласившимся с мнением большинства (ср.: Дернбург, Pandecten, I, § 265, с. 662, примеч. 3; Windscheid, Pandecten, Bd. I, § 72, примеч. 12; Савиньи, III, § 133. Против него Barckhard, Die civ. Praesumtionen. Также см.: Bulow, Arch. Fur die civ. Praxis Bd. 62, стр. 8 сл.; Leonhard, Irrtum bei nichtigen Vertragen, с. 213 сл.; Regelsberger, I, с. 506). <80> Hartmann, Werk und Wille bei stillschweig. Consens., Archiv fur die civ. Praxis, Bd. 72, с. 172 — 174.
Регельсбергер справедливо замечает по этому поводу, что римская юриспруденция нередко прибегала к вымыслу воли для разъяснения положительных предписаний права, но что нам нет оснований следовать за ней в этом направлении <81>. ——————————— <81> Regelsberger, Pandecten, I, с. 506.
Из всего изложенного вытекает, таким образом, следующий вывод: возможны случаи, когда воля лица на известное действие или на достижение известных юридических последствий выражается непосредственно в другом действии, имеющем свою самостоятельную цель. При этом воля может обнаружиться с убедительностью, ясностью, так как обнаруживающий ее факт представляется доказательным <82> или же этот факт может обосновать только законное предположение в пользу бытия воли. В случаях обоего рода мы одинаково говорим о конклюдентных фактах или, с точки зрения Мейера, о скрытных действиях. Границы круга последних определены, таким образом, Мейером правильно, несмотря на неправильное определение понятия, — определение, которым Мейер, впрочем, не стесняется при перечислении отдельных видов скрытных действий, так как здесь указывает часто именно такие случаи, где заключение к скрытно изъявленной воле никоим образом не может быть признано необходимым, а является разве только вероятным. ——————————— <82> Общего правила относительно того, когда это бывает, выставить нельзя.
Возьмем первый же из приведенных примеров. Наследник, не изъявляя своей воли на принятие наследства, ведет, однако, себя как наследник, gerit pro herede, отсюда следует заключение, что он вступил в наследство. Это заключение, однако, не всегда будет вполне убедительным, а смотря по характеру того действия, которое совершено имеющим право наследовать. Он ломает принадлежащий к наследству дом, продает лес на сруб, взыскивает долги с наследственных должников в свою пользу и т. д., зная, что дом, лес и долги принадлежат к составу наследства, — тогда заключение к принятию им наследства обязательно для него, и он не может устранить его возражением, что наследства не принимал. Но, положим, он платит наследственный долг. В последнем случае заключение о воле его на принятие наследства будет уже более сомнительным, оно будет лишь предположением, и если закон указывает судье руководствоваться этим предположением, то для устранения его и связанных с ним последствий достаточно своевременно заявленного протеста. То же самое относится к молчаливому отречению от наследства, к воздержанию от отречения, к скрытному заключению договора, к возвращению залога и к другим приводимым Мейером примерам <83>. ——————————— <83> Мейер. С. 71 — 75.
Удивительно, что эти примеры не заставили Мейера изменить данное им вначале определение скрытных действий и не показали ему, что между теми явлениями юридического быта, которые он рассмотрел под категорией презумпций, и теми, о которых он говорит как о скрытных действиях, с его точки зрения, границы провести нельзя. На эту мысль должно было навести его уже то обстоятельство, что одинаковые вполне примеры приходилось ему относить и в область предположений, и в область скрытных действий. Так, в числе примеров предположений мы находим (с. 55): «Долг предполагается прекратившимся, если долговой акт возвращен должнику», и несколькими страницами ниже (ст. 73, примеч. 1) тот же пример со ссылкою лишь на другое место источников <84> находим в числе случаев скрытных действий. Рядом с этим в числе скрытных действий указывается случай, когда прекращение закладного договора выводится из возвращения залога. Немного внимания нужно, чтобы заметить, что этот случай одинаково с предыдущими подходит к случаям презумпций <85>. ——————————— <84> Вместо l. 14 Cod. VIII, 42 на l. 2, § 1 Dig. de pact. II, 14. <85> Мейер. С. 75.
Мы не станем следовать за Мейером в приводимом им перечислении отдельных случаев скрытных действий; но нельзя не заметить, что это перечисление носит печать некоторой поспешности и необдуманности, как и все изложение учения о скрытных действиях. Так, по нашему отечественному праву из скрытного изъявления воли Мейером выводятся: переход на наследника долгов оставителя наследства (кто принимает наследство, тот высказывает вместе с тем волю на принятие наследственных обязательств); обязанность платить по обязательству займа (занял, стало быть, безмолвно согласился платить); наконец, даже применение наказания к преступнику (виновный, совершая преступление, добровольно и безмолвно соглашается подвергнуть себя наказанию)! <86> Оставляя в стороне перечисление скрытных действий, обратим внимание на то отношение, какое существует между презумпциями и скрытными действиями, дабы не дать повода думать, что мы стремимся к смешению этих понятий. Для этого нам остается повторить сказанное вначале, что под презумпцией разумеется прием юридического мышления — прием, к которому прибегают для того, чтобы вызвать и оправдать юридические последствия, наступающие, несмотря на недоказанность вызывающего их фактического момента; а под скрытным действием разумеется известный способ обнаружения воли, иначе — известный вид юридических фактов. Разница между понятиями настолько велика, что подводить их под одну категорию, отыскивать между ними родственную связь, невозможно. Связь эта зато существует, конечно, между всеми теми случаями юридического быта, где может иметь применение — и имеет — прием предположений. Иначе говоря, связь между случаями, где юристы говорят о предположениях, и случаями скрытного изъявления воли делается заметной, если мы станем на точку зрения Мейера и будем рассматривать все те случаи, когда «юридические определения, рассчитанные на известные факты, получают силу, хотя самых фактов мы и не усматриваем», или, как сказал бы современный немецкий юрист, на те случаи, когда юридические последствия, связываемые с фактическим составом, предполагают в последнем наличность таких моментов, о присутствии которых на самом деле мы не знаем. Зато, с этой точки зрения, нельзя отличать такие две группы случаев, какие разумеет Мейер под именем презумпций и скрытных действий. По мнению Мейера, разница между указываемыми категориями явлений юридического быта лежит в том, что при предположениях мы имеем дело «с применением юридических определений к фактам, существование которых не раскрыто с несомненностью и лишь предполагается», а при скрытных действиях «с фактом, о существовании которого свидетельствует другой факт как знак или эквивалент его»; но ближайшее рассмотрение Мейером же приведенных примеров убеждает, что в весьма значительном числе скрытных действий существование факта оказывается также не раскрытым с несомненностью и лишь предполагаемым. Остаются те указанные выше немногочисленные случаи скрытных действий, где заключение о воле не может быть названо предполагаемым, так как оно основывается на высшей степени вероятности, сливающейся с достоверностью, на полной убедительности в существовании факта. Правда, существование это выразилось в другом факте; но ведь и слова, в которых прямо выражается воля на действие, не суть одно с действием, а суть лишь знак последнего. Важно не то, каков знак, а то, что существование действия (факта) благодаря ему раскрыто с несомненностью, принудительной для действовавшего, хотя, может быть, и независимо от желания его. Раз факт раскрыт с несомненностью, применение к нему юридических определений представляется явлением вполне нормальным, выходящим за пределы тех явлений, которые как исключения исследует автор. ——————————— <86> Мейер. С. 80.
Итак, повторяем, с точки зрения, принятой самим Мейером, указанное им отличие предположений от скрытных действий и определение понятия последних не выдерживают критики. Вместо скрытных действий автору следовало бы говорить лишь об особом виде предположений, о презумпциях воли или, выражаясь его языком, о случаях, когда воля лица является тем фактом, существование которого не раскрыто с несомненностью, а лишь предполагается, и потому с ним связываются юридические последствия. Во всяком случае, нельзя отказать Мейеру в том, что он все-таки подметил родственную связь рассматриваемых им случаев скрытных действий с презумпциями и что, в сущности, он верно, хотя и недостаточно последовательно объяснил понятие косвенного или скрытного изъявления воли и скрытных действий.
§ 6
IV. Символические действия
Рядом со случаями скрытных действий Мейер мимоходом упоминает о действиях символических, главным образом с целью указать, что последние не должно смешивать с первыми и что они не подходят под понятие тех исключений из нормального порядка в юридическом быту, который он исследует. При скрытных действиях одно действие служит основанием заключения о воле на другое, о совершении другого. Символическое же действие, по определению Мейера, есть внешний условный знак, которым выражается совершение самого действия. Знак этот хотя состоит с знаменуемым им действием лишь в искусственной связи, но в то же время как условный является принятым нормальным средством для проявления действия. Следовательно, поясним от себя, в символическом действии воля обнаруживается так же открыто и непосредственно, как и в устной речи, или в письме, или в действиях, составляющих исполнение намерения. Такое разрешение вопроса о природе и значении символических действий представляется нам слишком уж простым. Обнаружение воли в символических действиях приравнивается к обнаружению ее в общепринятых жестах (в склонении головы, указании рукой и т. п.), а наступление на основании совершения этого действия последствий, связанных с действием знаменуемым, признается на этом основании явлением нормальным. Но необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что между намерением лица и жестом, служащим для его выражения, существует естественная, общепринятая и для всех понятная связь; а связь между символическим действием и намерением лишь искусственная, условная, ибо символическое действие само по себе вовсе не назначено служить выражением данного намерения. Бросание камней в начатую соседом постройку само по себе вовсе не есть знак протеста против этой постройки <87>. Камень может быть брошен с целью испробовать силу руки и верность глаза или повинуясь чувству вражды к соседу. Одно дело положить руку на проходящего с целью задержать его и вступить с ним в разговор или даже с целью арестовать его, и другое дело обряд наложения руки (manus injectio) с целью взыскания долга <88>. В прикосновении к вещи копьем и заменяющей его палкою (festuca) или в дергании кого-либо за ухо трудно признать сразу в первом случае заявление о своем праве собственности <89>, а во втором — приглашение быть свидетелем <90>. Язык символов есть язык поэтический, фигуральный, а потому и менее доступный пониманию, чем обыкновенный, можно сказать, прозаический язык жестов. ——————————— <87> Pr. I, § 6 Dig. quod. Vl ant. clam, LXIII. 24. <88> Gai IV, § 21. <89> Gai IV, § 16. <90> Hor. Sat. I. 9. 76. По словам комментатора Порфирия, приглашающий спрашивал при этом: «Licet to antestari?», а приглашаемый отвечал: «Licet» или «Non licet».
Заметить надо, что не все связывают одинаковое значение со словами «символ» и «символическое действие». Большинство авторов, занимавшихся вопросом о символизме права <91>, начиная с Гримма и кончая позднейшими, напр. г. Кулишером, разумеют под символами вообще внешние физические знаки, служащие для обозначения известных идей, представлений, предметов <92>. Назначение юридического символа, говорит Шассан, — служить видимым чувственным знаком, фиктивно представляющим какой-нибудь предмет из мира практической жизни, предмет физический или отвлеченный, лицо или действие <93>. При помощи символа юридическое понятие или предмет выражаются в материальных образах, доступных внешним чувствам. Копье знаменует право собственности, глыба земли — поле, кирпич или ключ означают лом, портрет или шляпа заменяют лицо, посох означает власть, меч — власть карательную и т. д. Против такого определения символов высказался Иеринг, который находит, что под символами и символическими действиями надо разуметь лишь знаки и действия, имеющие целью «чувственным образом представить внутреннее, интеллектуальное содержание». Символом нужно называть, по мнению Иеринга, лишь чувственное изображение того, что отвлеченно, а когда дело идет о том, чтобы представить каким-либо внешним знаком вещь из мира физического (напр., поле — комом земли, лес — древесной веточкой и т. п.), то слово «символ» употребляют неправильно. «Копье есть символ собственности, а палка, которой его заменяют, не есть символ копья, а лишь знак, представляющий копье». Равным образом притворное путешествие на спорную землю, к которому претор приглашал тяжущихся в древнеримском процессе о собственности <94>, Иеринг не признает символическим действием, потому что оно представляло и заменяло нечто внешнее — действительное путешествие к недвижимости. Иначе пришлось бы, аргументирует Иеринг, картину и рисунок называть символами изображаемого в них предмета, а в 30 ликторах, представлявших при аброгации 30 курий, видеть символическое собрание народа по куриям <95>. ——————————— <91> Цивилисты мало занимались вопросом об изъявлении воли в символах, так как в источниках Юстиниановского права и современных кодексах удержались разве немногие следы некогда более широкого применения символических действий. В курсах гражданского права, даже самых подробных, о символических действиях обыкновенно вовсе не упоминают или ограничиваются одним упоминанием (см., напр., Brinz, Lehrbuch der Pand., Bd. IV, 2. Lief. 1895 г., с. 263 и 266 и примеч. 29 и 30). Более интересовались этим вопросом историки права и исследователи народных юридических обычаев. Но здесь обращалось внимание на собирание и разъяснение символических знаков и обрядов у разных народов с целью главным образом отыскания данных для истории институтов права и хода развития правовых идей. Известны в этом отношении заслуги Якова Гримма (см.: Iacob Grimm, Deutsche Rechtsalterthumer, 3-е изд., 1881 г.). Ссылаясь на этот труд, Мишле (Michelet, Origines du droitfrancais cherches dans les symboles et formules du droit universel, Paris, 1837 г.) объявил возможным создание особой науки «символики права». Цитированное выше сочинение Chassan’а (Chassan, Essai sur la symbolique du droit, Paris, 1847 г.) представляет единственную во всей европейской литературе попытку изложения этой науки. После этой, неудачной, во всяком случае, попытки вопрос о новой науке не поднимался. О символизме в римском праве и о древнеримских юридических символах довольно подробно говорится у Иеринга в его сочинении «Geist des rom. Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung», II, § 4-a и 47. Ср. также: Voigl, XII Tafeln, I, § 18. В русской литературе по вопросу о юридических символах см.: Калмыков. О символизме права вообще и рус. в особенности», СПб., 1839 г.; Кулишер. Символизм в праве, Вести. Евр., 1883 г., кн. 2, с. 747 и кн. 7, с. 188; Данилов. О значении и собирании древнерус. символов. Собиранием символических знаков и образов среди русского и инородческого населения занимались многие исследователи крестьянского юридического быта (Ефименко, Якушкин, Скоробогатый, Харузин, Матвеев, Е. Соловьев и др.). <92> J. Grimm, Deutsche Rechtsalterthumer, Cap. IV, с. 109 сл.; Кулишер. Соч. цит. см.: Вести. Евр., 1883 г., кн. 2, с. 770. <93> Chassan, соч. цит., с. 10. <94> Cic., pro Murena 12: «Inite viam… redite viam». <95> Ihering, Geist d. R., II, § 51.
Нам кажется, что нет оснований придавать такое важное значение, какое придает Иеринг, указываемому им различию. По нашему мнению, для понятия символа представляется существенным вовсе не то, что именно знаменуется им, а самый прием, употребляемый здесь, т. е. обозначение одного предмета или действия другим. Предметы и явления мира чувственного могут быть, конечно, так же обозначаемы символически, как и предметы отвлеченные или действия, не обнаруживаемые реально, а лишь мыслимые. Огонь в очаге или зажженный факел могут быть с таким же правом названы символами солнца, когда они его обозначают, как меч — символом карательной власти. Портрет и рисунок также, конечно, могут иметь символическое значение. Разумеется, не всегда непременно они будут символами изображаемого предмета; но и копье не постоянно есть символ собственности, а лишь тогда, когда его употребляют как знак для обозначения последней. Не будет ничего странного и ошибочного и в том, если собрание 30 ликторов признать символической заменой собрания 30 курий. Оно, по нашему мнению, и должно было иметь именно эту цель. Равным образом притворное путешествие на спорную землю и притворное изображение борьбы над глыбой земли в римском процессе о собственности с таким же правом могут быть названы символическими действиями, как существующий, по словам исследователей, в некоторых местностях обычай пропускания усыновляемого через рубашку жены усыновителя, чтобы обозначить символически акт рождения, или как обряды смешения крови и обмена крестами для обозначения отношений побратимства <96>. Иеринга, по-видимому, побудило прийти к его мнению то обстоятельство, что за некоторыми действиями, называемыми символическими, он должен был признать значение юридических актов, совершающихся для видимости (мнимых действий) <97>; но это обстоятельство не должно мешать, по нашему мнению, этим актам оставаться все-таки символическими. Символы и символические действия суть условные знаки, отношение которых к знаменуемому ими далеко не всегда одинаково: 1) иногда знак лишь сопровождает наличность или совершение знаменуемого и служит лишь внешним видимым его выражением (протест против соседской постройки, соединенный с выражением его вовне бросанием камня в нее, взятие приглашаемого в свидетели за ухо для видимого обозначения последовавшего приглашения и т. п.); 2) иногда символический обряд не только сопровождает знаменуемое им действие, но выполнение первого есть в то же время и необходимое условие для действительности последнего, необходимая форма совершения (confarreatio, манципация при отчуждении вещей mancipi, deductio и manuum consertio при виндикации недвижимости в древнем производстве per sacramentum и т. п.). В обоих этих случаях символическое действие служит средством обнаружения воли на действие, им знаменуемое, причем лишь в последнем случае не может иметь места сомнение относительно существования этой воли, а в первом оно возможно. Слова Мейера о скрытных действиях, что «при них существование факта выражается другим фактом как знаком его или эквивалентом», по нашему мнению, применимы именно к сейчас указанным случаям символических действий; 3) иногда символическое действие лишь заменяет совершение знаменуемого, которое вследствие этого фиктивно представляется имеющим место. Такая замена символом знаменуемого может совершаться с различной целью: или желают при посредстве знака считать знаменуемое существующим, когда на самом деле существование его физически невозможно (символическим обрядом усыновления заменяют естественное рождение, символическим смешением крови двух людей — кровное родство между ними и т. п.), или же, не желая совершать известного действия и в то же время избегая формального нарушения правила, предписывающего это действие, заменяют последнее известным символическим знаком <98> (напр., действительное путешествие сторон на спорную землю, требуемое правилами древнего права, заменяется притворным); или, наконец, не совершая на самом деле знаменуемого, желают при посредстве символического действия считать знаменуемое совершенным по отношению лишь к известным последствиям (напр., coemptio fiduciae causa, т. е. coemptio для заключения с женщиной фиктивного брака cum manu, что делалось, как известно, с различными целями <99>; confarreatio после известного сенатского определения по предложению консулов Максима и Туберона <100> и т. п.). Во всех этих случаях замены символическим действием знаменуемого мы имеем дело с юридическими фикциями или с родственными последним мнимыми действиями. ——————————— <96> См.: Якушкин. Обычное право. Яросл., 1875. С. XV; Кулишер. Ст. цит., Вести. Евр., кн. 2, с. 7 — 3; Харузин. Юридический быт саранульских населений. Юрид. В., 1883 г., т. 12, 2 десят., с. 283. <97> Так переводят у нас данное Иерингом название Scheingeschafte (см.: Муромцев. О консерватизме рим. юриспруденции. М., 1875. С. 91 и сл.). <98> Иногда знаком может, конечно, заменяться не действие, а какой-либо предмет, для действия необходимый (напр., копье — палкой, жертвенное животное — изображением, дом — кирпичом и т. п.). <99> Gai I, § 114 и 115. <100> Gai I, § 136: «Cantum est (in confarreatis nuptiis), ut haec quod ad sacra tantum videatur in manu esse, quod vero ad ceteras causas projude habeatur, atque in manum non convenisset».
Родство символов и символических действий с фикциями очевидно. Воображение играет видную роль в создании тех и других, и первые значительно облегчают применение последних. Понятно, почему иногда подводят символические действия под понятие фикций в обширном смысле <101>. Но разница между ними ясна: фикция есть прием юридического мышления, символ и символическое действие — лишь внешний образ выражения юридического действия или отношения. Фикция является здесь тогда, когда изображаемого вовсе нет, а налицо один образ, символ, благодаря которому изображаемое обсуждается как существующее. ——————————— <101> Dumeril, Les fictions juridiques, с. 6; Chassan (Essai sur la symbolique, с. 45 — 50) то называет символы видом юридических фикций, то, наоборот, фикции видом юридических символов; но это происходит от неправильного понимания им сущности фикций в собственном смысле.
Из сказанного очевидно уже, насколько неправ был Мейер, исключив символические действия из круга тех ненормальных явлений юридического быта, которые подлежали его рассмотрению. Конечно, в употреблении символов легко не заметить уклонения от нормального порядка в юридическом быту, так как на первый взгляд символическое действие есть лишь замена слова. Так, очевидно, и смотрел Мейер, когда говорил, что в символических действиях символ или знак совпадает с действием знаменуемым. В этом слове — «совпадает» и заключается источник недоразумения. Слово это наводит на мысль о полном отождествлении знака со знаменуемым. Мейер, очевидно, рассуждает так: «Видя символ, мы видим, следовательно, самый знаменуемый факт и прилагаем к нему подлежащие юридические определения». Из предыдущего ясно, насколько неправильно это рассуждение. Мейер, рассуждая так, забывает свое вполне верное заявление, что связь между знаком и знаменуемым в символических действиях не необходимая, а лишь условная, кажущаяся. Вследствие этого и применение при наличности знака юридических определений в том расчете, как будто знаменуемый факт действительно имеет место, представляется также уклонением от нормального порядка в юридическом быту. Это применение основано здесь не на наличности действия, а на условном представлении о существовании связи символа и знаменуемого им факта — представлении, как мы видели, далеко не всегда оправдывающемся и относящемся иногда к области фикций или предположений. В современном юридическом быту цивилизованных народов символы и символические знаки и действия имеют довольно значительную область применения в праве публичном (государственном и международном), служа внешними знаками для выражения известных фактов или отношений. В сфере же частного гражданского права применение символов и символических действий является лишь как редкое исключение, как остаток или напоминание о далеком прошлом, когда к ним прибегали чаще, когда на первых ступенях народного развития в них чувствовалась надобность. Мы встречаем их в массе у древних римлян, в Средние века — у народов германских и славянских. Особенно необходимыми почитаются они там, где чувствуется потребность придать большую торжественность той форме, в которую облекается действие. Символизм обыкновенно есть ближайший спутник формализма в праве и, подобно последнему, получает особое развитие и прочность там, где тесна связь права с религией. Не без основания поэтому происхождение многих символических действий в Древнем Риме приписывается первым знатокам права — жрецам.
§ 7
V. Притворные действия (шутка, умолчание, симуляция)
Последними в ряду рассматриваемых Мейером уклонений от нормального порядка в юридическом быту стоят так называемые притворные действия. Случаи, сюда относящиеся, Мейер характеризует как такие, где «юридические определения отнесены к факту, выставляемому существующим взамен другого факта, собственно, подлежащего тем определениям». Эту характеристику, конечно, нельзя назвать удачной уже потому, что она страдает неясностью: следуя ей, трудно отличить рассматриваемые случаи от тех, которые Мейер отнес к первой категории, т. е. к вымыслам, так как выходит, что и в четвертой категории мы имеем дело с применением юридических определений к факту, лишь «выставляемому существующим», т. е., говоря иначе, вымышленному. Разница, правда, отмечается в том, что в последней категории факт вымышляется взамен другого действительно существующего факта, но и эта разница затемняется, если припомнить, с одной стороны, то, что к первой категории относятся также и случаи «вымышленного существования факта, о котором известно, что он существует в другом виде» <102>, а с другой стороны, иметь в виду, что к последней категории принадлежат притворные действия, между которыми, очевидно, возможны такие, которые не заменяют собой никакого действия. (Делают вид, что совершают куплю-продажу, написали так называемый дутый вексель и т. п.) Таким образом, Мейеру, с его собственной точки зрения, не удалось ясно сформулировать разницу между этими категориями случаев. Да это и нелегко было сделать. Если бы он сказал, что в первой категории случаев юридические определения применяются к фактам, заведомо несуществующим; а во второй — к фактам, существующим лишь по внешности и прикрывающим другие факты, то и тогда различие оставалось бы все-таки неясным. С той точки зрения, с которой обсуждает эти случаи Мейер, они представляются действительно очень сходными; а существенные признаки различия (в первом случае мы имеем дело с приемом юридической конструкции, а во втором — с совершением юридических действий; в первом случае — это орудие, к которому явно прибегает законодатель или юрист для облегчения применения юридических определений, а во втором — средство, к которому обыкновенно тайно прибегают частные лица для достижения своих целей, и т. п.) исчезают. Впрочем, самое изложение учения о притворных действиях у Мейера совершенно независимо от указанной точки зрения. ——————————— <102> Мейер. С. 2.
Определения притворных действий, строго говоря, у него мы также не находим: так как нельзя назвать определением ни заявление, что это суть «действия, совершаемые в видах достижения цели, к которой в области права ведет собственно другое действие» <103>; ни заявление, что притворное действие — это есть такое произведение воли, которое благодаря созданной этой волею обстановке «дает последствия, обыкновенно из него не вытекающие, а связанные, собственно, с другим действием»; ни тем более заявление, что к притворному действию «искусственно присваивается значение, которого оно само по себе не имеет» <104>. Но отсутствие сжатого, строго формулированного определения не мешает Мейеру изложить все учение о притворных действиях с подробностью и обстоятельностью настолько большою, что до последнего времени, по крайней мере до появления третьего тома известного труда Иеринга «Дух римского права», к этому изложению даже в богатой немецкой литературе нечего было бы добавить. Лишь очень недавно благодаря в значительной степени блестящему выяснению Иерингом на примере истории римского права практического значения притворных и так называемых ныне мнимых действий (Scheingeschafte) обращено было в немецкой литературе внимание юристов — не только теоретиков, но и практиков — на все те случаи юридических действий, где встречается симуляция в обширном смысле этого слова. Непосредственное наблюдение явлений действительности дало основание к отличению новых для юриспруденции видов сделок и выделению их из сделок в собственном смысле слова притворных, к которым ранее их относили. Само же учение о притворных действиях в собственном смысле осталось и доселе в том почти виде, как оно изложено у Мейера. ——————————— <103> Напр.: воровство есть юридическое действие, совершаемое с целью, к которой в области права ведет купля-продажа!? <104> Мейер. С. 85.
Весьма нередко в юридическом быту встречаются факты такого рода, что видимое выражение воли действующего не соответствует совершаемому им действию: хотят совершить одно действие, а совершают другое; является, таким образом, противоречие между действительным содержанием воли и ее внешним выражением. Иногда такое противоречие бывает ненамеренным, являясь следствием ошибки или неведения (error в широком смысле слова — Irrthum) <105>; но оно может быть и намеренным, может входить в расчет действующего лица или лиц, если их несколько. Действующие намеренно делают вид, что совершают такое-то действие, когда на самом деле вовсе ничего не совершают или совершают совсем другое; или, как говорят современные немецкие юристы, у лица имеется та воля, которая творит волеизъявление как внешнее действие, и нет той воли, которая в этом волеизъявлении высказывается <106>. Такое изъявление воли для одной видимости, так сказать, может иметь место без намерения ввести кого-либо в заблуждение: действующий по видимости или изъявляющий по видимости волю не только сам не имеет в виду серьезно достигнуть последствий волеизъявления, но имеет основание ожидать, что и все другие, ввиду сопровождающих волеизъявление обстоятельств, не примут этого изъявления за серьезное. Сюда относятся шуточные волеизъявления, а также случаи изъявлений воли, делаемых со сцены или в аудитории (примеры для обучения), и т. п. <107>. ——————————— <105> Zitelmann, Irrtum, с. 319 — 322; Загурский. Элементарный учеб. рим. права. Вып. 2. Харьков, 1891. § 37 и сл. содержат самое подробное из имеющихся на русском языке изложение учения романистов о случаях несоответствия между волей и ее выражением. Некоторые авторы находили возможным и все случаи ошибки или заблуждения подводить под понятие симуляции, вводя понятие притворства ненамеренного. Неудобство объединения столь различных по существу случаев очевидно. <106> Regelsberger, Pandecten I, с. 508; Kohler в рецензии на этот учебник, помещенной в Kritische Vierteljahresschrift fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (Bd. XXXVI, Heft. 4, с. 525, § 10). Против этого различия между волей на изъявление и изъявляемой волей см.: Pininsky, Thatbestand II, с. 282. <107> L. 3, § 2 Dig. de oblig. et act. 44, 7: «Verborum quoque obligatio constat, si inter contrahentes id agatur: nec enim si per jocum puta vel demonstrandi intellectus causa ego tibi dixero ‘spondes?’ et tu responderis ‘spondeo’, nascetur obligatio». См.: Барон. Система рим. гражд. права. § 50; Азаревин. Сист. рим. права. С. 168 — 169; Загурский. Учеб. рим. права. Общая часть. Вып. 2. С. 380; Regelsberger, Pandect. I, § 138, с. 506 и § 141, с. 515; Dernburg, Pandect., § 99, с. 234; Windscheid, Lehrbuch des Pandectenrechts, B. I, § 75, примеч. 2. Последний автор различает шуточное изъявление воли (Willenserklarung im Scherz) от изъявления воли, делаемого кому-либо с целью подшутить над ним (Willenserklarung aus Scherz). Однако это различие между простой и грубой шуткой признано излишним и практически неосуществимым (Unger, Legislative Behandlung des wesentlichen Irrthums в Grunhut’s Zeitschrift, B. XV, с. 675, примеч. 7а: «Die ofter gemachte Unterscheidung (указание на Виндшейда и др.) zwischen groben Scherz (Giltigkeit des Vertrages) scheint mir weder an sich gerechtfertigt, noch in legislativpolitischen Hinsicht empfelenswerth»; Bekker, System, § 98, Ng). Pernice подводит все эти случаи под понятие так называемого умолчания — Mentalreservation (см. ниже, сн. 111). Примеры из герм. суд. практики см. в: Seuffert’s Arch., B. XVI, n. 217; B. XXXII n. 231; B. XXXVII n. 310; Entsch. des R. Gerichts in Civ. Sach., B. VIII, с. 185 и 349.
Строго говоря, здесь нет никакого юридического действия, так как вовсе нет воли, направленной на достижение каких-либо последствий, юридическая недействительность волеизъявления в подобных случаях очевидна, и на нее можно сослаться против всякого, кто вздумал бы заявлять, основываясь на шуточном или примерном изъявлении воли, какие-либо притязания <108>. Но гораздо чаще бывают случаи, когда притворяются именно с намерением убедить других, что действительно имеется воля на совершение данного действия. Юристы ныне различают здесь два случая. I. Когда тот, кто изъявляет волю на юридическую сделку, тайно про себя имеет волю совершенно противоположную, о которой умалчивает перед получателем изъявления <109>. Это умолчание при волеизъявлении (Mentalreservation) может иметь место иногда даже с небезнравственной целью (напр., дабы успокоить близкого), но всего чаще в основании его лежит намерение обмануть другого контрагента, причинить ему вред или выманить у него что-либо и т. п. <110>. Если случай умолчания таков, что получатель изъявления проник в тайное намерение изъявителя или даже лишь должен был бы его открыть при достаточной осторожности со своей стороны, то, по мнению современных юристов, изъявление не будет юридически обязательным <111>. Если же получивший изъявление действительно без вины со своей стороны (без грубой неосторожности, беспечности) поверил волеизъявлению, то оно будет действительно для изъявителя, ибо последний не может сослаться на то, о чем он умолчал, говоря иначе, не может оправдываться ссылкой на свою собственную ложь <112>. Впрочем, при суждении о действительности такого изъявления надо иметь в виду также род сделки и принимать в соображение другие сопровождающие волеизъявление обстоятельства <113>. II. Второй случай ненамеренного обмана при волеизъявлении представляют так называемые притворные действия в тесном смысле этого слова. Здесь, как и в первом случае, по внешности имеется налицо действие, совершаемое по воле действующего, с тем чтобы при посредстве этого совершения достигнуть не соответствующих совершаемому по видимости действию юридических последствий, а иных, с совершаемым действием непосредственно не связанных, но тайное достижение которых при его посредстве возможно. Разница между первым и вторым случаями только в том, что в первом случае истинное намерение изъявителя воли скрывается от лица, которому изъявление делается, а во втором, напротив, получатель изъявления, т. е. тот, на юридические отношения которого серьезно совершенная сделка оказала бы влияние, не только поставлен в известность относительно несерьезности волеизъявления, но и в согласии с изъявителем утаивает это от других, помогает последнему убедить других в серьезности притворно совершаемого с какою-либо, всего чаще недозволенною, целью действия <114>. Короче говоря, притворные, иначе — фиктивные, сделки суть такие, при которых контрагенты соглашаются сделать по видимости то, чего в действительности исполнить они вовсе не хотят <115>. ——————————— <108> Ср. ст. 1 — 28 X т. 1 ч. Разумеется, если несерьезный характер волеизъявления остался скрытым для получившего его лица без вины с его стороны, напротив, по вине изъявителя воли (culpa), то последний не может сослаться на несерьезность волеизъявления. Если же со стороны изъявителя воли не было вины, то он все-таки обязан возместить принявшему изъявление лицу понесенный им убыток (Regelsberger, Pandect. I, 515; ср.: Bekker, System II, § 98 N. o u n). См. прилож. III к предыдущему параграфу. Unger в Grunhut’s Zeitschrift, B. XV, с. 607 и сн. 110 ниже: «Der nicht erkennbare Scherz scheint mir unter allen Umstanden keine Berucksichtigung zu verdienen». Иначе решает Enneccerus (Rechtsgeschaft, с. 98). <109> На отличие умолчания (reservatio mentalis) от симуляции в собственном смысле указывалось и прежде (см.: Savigny, System, § 134, с. 289), но особенного значения этому отличию не придавали, и авторы учебников гражданского права даже не упоминали о нем, не выделяя умолчания из притворных действий вообще (см., напр.: Brinz, Pandect., B. IV, § 524). Только в последнее время различие это обратило на себя внимание, и случаи этой так называемой reservatio mentalis или, как у нас назвали, умолчания (Петражицкий. Перевод Пандект Барона, § 50. С. 75; Загурский. Учебник римского права. С. 381) сделались предметом особых исследований (см. особ.: Kohler, «Studien uber Mentalreservation und Simulation» и «Ueber den Willen im Privatrecht» в: Iherings Jarbuch. fur Dogmatik, B. XVI, 1878 и B. XXVIII, 1883). Русское законодательство не говорит специально о притворстве и его видах, хотя случаи притворных сделок, прикрывающих другие, указаны в ст. 991 и 2114 X т. 1 ч. Сенат в своих решениях называет притворные сделки мнимыми или вымышленными (кас. реш. 1891 г. N 62); причем под именем этим надо разуметь всякую сделку, содержание которой не соответствует действительному намерению сторон, — словом, притворство в обширном смысле (Анненков. Система рус. граж. права. С. 392 и 393). <110> См. приложение IV. <111> Lotmar, Hartmann, Kisele, Kohler (см. прил. IV); Wendt, Lehrbuch d. Pandect, § 45, с. 110 — 112; Bekker, System II, § 98, Noup; Regelsberger, Pandect., § 141, с. 516: «Нет надобности защищать того, кто знал про лганье с другой стороны, а наказывать ложь не дело гражданского права». <112> См. цитаты предыдущего примеч., а также: Dernburg, Pandect. I, § 99, с. 234. <113> Regelsberger, I, § 141, с. 516 и Bekker, II, § 98, N o, p, r (см. прилож. IV). <114> Regelsberger (III, § 139) говорит, что при симуляции у лица нет воли на то, чтобы вызвать соответствующее внешнему фактическому составу сделки юридическое следствие (см. след. сн.). <115> Dernburg, Pandecten I, § 100: «Мнимые контрагенты согласились о том, чтобы не хотеть того, что они делают по внешности». Это верно, но не совсем ясно, так как может дать повод думать, что стороны не желают притворного действия. Необходимо помнить, как удачно указал еще Мейер (поправляя Савиньи), что у совершителя притворного действия есть воля на последнее и он хочет даже наступления его последствий, но тех только, которые ему нужны для достижения его скрытого желания, которые согласуются с последним. Что касается остальных последствий, то стараются устроить, чтобы они были, так или иначе, устранены или значение их уничтожено. Вот почему иногда для достижения известного желаемого результата приходится совершать два или несколько притворных действий. A желает приобрести имущественный ценз в городе и, не имея на то необходимых средств, прибегает к фиктивной покупке дома у B. Для этого пишется купчая, по которой A якобы приобрел дом B и на основании которой получает известные, связанные с обладанием цензом права; но чтобы устранить нежелаемые и невыгодные для B последствия фиктивной продажи, A выдает B обязательство на сумму, равную стоимости дома (см.: Мейер. С. 85).
При этом они или вовсе не хотят на самом деле совершить никакой другой юридической сделки <116> (напр., фиктивно покупается дом для приобретения требуемого ценза, пишется дутый или бронзовый вексель и т. п.), или же совершением притворной (симулированной) сделки думают прикрыть совершение другой сделки, которую желают держать в тайне, потому что открытое совершение ее юридически невозможно или просто фактически нежелательно; причем эта другая прикрытая (диссимулированная) сделка может быть совершенно иного рода <117> (напр., дарение или заклад с ростовщическими процентами прикрываются продажей <118>), или того же рода, но с более или менее существенными видоизменениями, которые и желают скрыть (напр., покупка на имя подставного лица или сокрытие сторонами истинной цены при продаже с целью уклонения от платежа пошлин) <119>. ——————————— <116> Но это не значит, что они вовсе ничего не хотят, как это многие учат. Напротив, они желают добиться при помощи притворной сделки известных последствий (см. предыдущ. сн.). <117> Возможность замены одного действия другим, как справедливо заметил Мейер, не безусловная. Притворное действие и прикрываемое должны иметь нечто общее, а отличающие их особенности должны быть устранимы или должны быть таковы, чтобы могли быть уничтожены или уравновешены. <118> Обильное собрание примеров симулированных сделок можно найти в сборниках судебных решений. У Беккера (System II, § 98, N h и i) указано много относящихся сюда случаев из германской судебной практики. <119> Dernburg, Pandect. I, § 100, 2; Bekker, System II, § 98, N i, где указаны примеры.
Но каковы бы ни были поводы к совершению притворного действия и какие бы цели совершители его ни имели в виду, всегда оно все-таки есть совершаемое лишь для видимости, совершающие его прикрывают им только истинное свое намерение. Понятно, что такое притворное действие называют вымышленным, фиктивным, так как оно только выставляется существующим <120>. Но пока никем не оспаривается его существование, оно подлежит действию тех определений, которые на это существование рассчитаны, и может влечь свои нормальные последствия, чем и пользуются совершители для своих тайных целей <121>. Всякий, кто имеет в этом интерес, может открыть притворство и оспорить сделку. По обнаружении притворства симулированная сделка всегда ничтожна, контрагенты не могут ни в каком случае опираться на нее, как бы на действительную <122>. Напротив, на притворный характер сделки симулянт может сослаться не только против контрагентов, но и против третьих лиц, которые, зная о симуляции, тем не менее основывают на симулированной сделке свои требования, как бы на действительной <123>. Другое дело — те третьи лица, которые, не зная о симуляции, доверяя действительности видимой притворной сделки, вступили в юридические отношения с симулянтом и сделали недействительное приобретение или совершили платеж. Их интересы не должны пострадать от обмана, и против них симулянт не может сослаться на ничтожность притворной сделки <124>. ——————————— <120> См. выше, сн. 109. <121> Лишь разумея под притворным волеизъявлением шуточное изъявление воли, можно говорить о притворных сделках как о таких, при совершении которых стороны вовсе не желали наступления каких-либо последствий, и отличать от них сделки, клонящиеся к подложному переукреплению имущества во избежание платежа долгов, как выражающие не мнимую, а действительную волю сторон на их заключение. Очевидно, что между фиктивной продажей дома для доставления покупателю имущественного ценза или поддержки его кредита и продажей дома с целью подложного переукрепления разница лишь в преследуемых сторонами целях, но что в обоих случаях стороны одинаково имеют известное серьезное намерение достигнуть этих целей путем выставления притворной сделки за истинную (ср.: Анненков. Система гражд. права. Т. I. С. 392 и 393). <122> Dernburg, I, § 100, примеч. 4; Regelsberger, § 141, III, примеч. 11; Bekker, II, § 98, Beil. I. <123> Fr. 54 D. de obl. et act. 44. 7: «Contractus imaginarii etiam in emptionibus juris vinculum non obtinent, cum fides facti simulator non intercedente veritate»; Tit. Cod.: «Plus valere quod agitur quam quod simulate concipitur» (IV, 22). См. также l. 5 и 6 Cod.: «Si quis alteri vel sibi sub alterius nomine vel aliena pecunia emerit» (IV, 50); Bekker, II, § 98, N h и x (в последнем примечании Беккер справедливо указывает на то, что ссылающийся на притворный характер сделки должен это доказать); Windscheid, Lehrbuch d. Pandecten I, § 75, примеч. 1. <124> Таково господствующее мнение, защищаемое особенно Дернбургом (см.: Pandect. I, § 100, примеч. 6 и 7; см. также: Regelsberger, Pandect. I, § 141, примеч. 12). В источниках римского права нет прямых свидетельств в подтверждение этого мнения, хотя оно не стоит с ними в противоречии. Но могут ли третьи лица, не знавшие о симуляции, права которых потерпели ущерб от притворного действия, опираясь на характер последнего, предъявлять требования к третьим же лицам, добросовестно приобретшим права от симулянтов? По нашему мнению, ответ должен быть утвердительный (см.: Юрид. В., 1880. Май. Хроника гражд. суда. Дело Платовой с Белоусовым и дело наследников Хрущева). По отношению к последнему делу мы вполне согласны с почтенным хроникером, что в крепостных актах форма не исчерпывает сущности их и посему в применении к этим актам возможны также споры о симулированных или фиктивных сделках. Этого же мнения и Регельсбергер по отношению к актам, совершаемым с участием органов общественной власти (Pand. I, § 141). Однако судебная практика, не только наша, но и иностранная, склоняется, хотя и не без колебаний, к противному мнению, и там, где симулированная сделка облечена в законом указываемую торжественную форму с участием представителей власти, форме этой нередко придается значение вопреки недостатку воли на сделку (см.: Bekker, System II, § 98, N n). Не подлежит, конечно, сомнению, что брак по выполнении всех формальностей должен быть рассматриваем как безусловно действительный (ср.: Windscheid, Pand. I, § 75, примеч. 3).
Когда притворная сделка прикрывает собою другую сделку, то прикрытая может быть действительной, если истинное намерение сторон может быть ясно обнаружено и если она соответствует всем материальным и формальным требованиям сделок своего рода <125>. ——————————— <125> Статья 991 и 2114. X т. 1 ч.; Оршанский. О законных предположениях. Журн. гражд. и угол. права. 1874 г. Кн. V. С. 38; l. 2 Cod. IV, 22: «Acta simulata… veritatis substantiam mutare non possunt»; Bekker, System II, § 98: «Прикрываемая сделка действительна, если выполнен ее типический фактический состав и самое прикрытие не запрещается и не противно добрым правам» (Not. V и w). Ср.: Dernburg, Pandect. I, § цит., примеч. 8; Regelsberger, Pandect. I, § цит.; Windscheid, Pandect. I, § 75, примеч. 2.
К притворным сделкам очень часто прибегают в обход закона, in fraudem legis, т. е. с целью достигнуть противных закону практических последствий, не вступая в противоречие с буквальным содержанием закона. Некоторые из новейших авторов, как нам кажется, без достаточных оснований противополагают сделки в обход закона или «обходные пути оборота» (Schleichwege des Verkehrs) притворным сделкам, выделяя первые в особую категорию и усматривая характеристический отличительный признак их в том, что стороны хотят достигнуть при ее помощи практических последствий, оспариваемых законом. Но нам думается, что и при всех других сделках, принадлежащих к категории притворных, стороны также хотят достигнуть при помощи притворной сделки известных практических последствий, для достижения которых хотят самой сделки и наступления тех нормальных последствий ее, которые согласны с видами симулянтов. Тот, кто прибегает к выдаче бронзовых векселей и к переукреплению имущества, чтобы спастись от законных требований кредиторов, также хочет, чтобы выданный им вексель и мнимо совершенная продажа имущества имели те последствия, которые для него желательны. Тот, кто покупает дом на чужое имя, не желая, чтобы знали о том, что он разбогател, и тот, кто в акте купли-продажи показывает высшую или низшую против истинной цену, также хотят, чтобы эти показания их имели последствия. Конечно, юридическую сделку, совершенную в обход закона, а равно и прикрытую ею запрещенную сделку одинаково постигает ничтожность; но это обстоятельство еще не может служить причиной для выделения этих сделок в особую группу, так как и при остальных притворных сделках прикрытое намерение не всегда может быть достигнуто, даже когда оно обнаруживается явно. Указывают, что при сделках в обход закона закон запрещает известное действие ввиду именно его практических последствий, а потому должно считаться запрещенным и достижение этих последствий каким бы то ни было обходным путем. Это совершенно справедливо. Но притворная сделка, совершенная в ущерб правам стороннего лица (in fraudem creditorum, напр.), в этом отношении ничем не отличается от притворной сделки в обход закона <126>. Правда, возможны случаи обхода законного запрещения и без притворства, но это возможно лишь тогда, когда само законодательство дает возможность достигнуть запрещенной цели посредством действительного совершения законных действий. Напр., запрещено оставлять легаты иностранцам, но можно поручить в завещании наследнику выдать иностранцу известную сумму; можно отдать вещь другому на хранение, с тем чтобы в случае смерти поклажедателя она была передана тому, кому нельзя ее оставить при помощи распоряжения на случай смерти <127>. В этих и подобных случаях хотя и обходится законное распоряжение, но сами по себе действия, для этого совершаемые, являются вполне законными и влекут свои нормальные последствия. Здесь можно говорить лишь о недостатках законодательства, а не о ненормальных явлениях юридического быта с точки зрения применения юридических определений к фактам. Таким образом, противополагать сделки в обход закона сделкам притворным, по крайней мере с той точки зрения, с которой мы здесь рассматриваем явления юридического быта, нет оснований, тем более что среди последних первые занимают выдающееся место. Мейер справедливо различает поэтому следующие категории притворных действий по цели их: а) в обход закона; б) в ущерб правам сторонних лиц; в) для обмана сторонних лиц с предосудительной целью и г) без предосудительной цели. По отношению ко всем этим категориям действий одинаково применимо правило, что plus est in re, quam in existimatione, т. е. действие обсуждается не по видимости, а по существу <128>. ——————————— <126> Regelsberger, Pandecten I, § 141, III B. В 15 и 16 примеч. к цит. параграфа этого учебника указана литература и приведены примеры из римского права. Другие пандектисты (Дернбург, Виндшейд, Вехтер, Вендт и др.) не отделяют сделок в обход закона от других притворных сделок. Регельсбергер же следует мнению Иеринга, который действительно называет притворные сделки лишь одним из средств обхода закона. Но, во-первых, это самое главное и употребительное из средств, а во-вторых, там, где обходились без этого, мы имеем дело или с прямым нарушением закона, или, напротив, с действительным совершением одного или нескольких законом дозволенных действий, влекущих все связанные с ними законные последствия. <127> Gai II, 285; fr. 18 § 2 Dig. de mort causa donationibus XXIX, 16 и fr. 26 pr. Dig depositi vel contra XVI. 3. <128> Мейер. С. 89 — 95.
/»Вестник гражданского права», 2011, N 3/
В настоящем номере публикуется вторая часть малоизвестной работы дореволюционного отечественного цивилиста Г. Ф. Дормидонтова «Классификация явлений юридического быта, относимых к случаю применения фикции» (первая часть работы опубликована в N 1 журнала «Вестник гражданского права» за 2011 г.). Автором статьи предпринята попытка классификации всех возможностей применения юридической фикции. В ходе своего исследования Г. Ф. Дормидонтов затрагивает проблему фикции в юриспруденции, определяет ее место в праве, а также на основании римского права и отечественной цивилистической мысли проводит глубокий анализ понятия фикции в связи с похожими понятиями, давая свою оценку. Данная работа в связи со слабой изученностью юридического определения фикции имеет большое значение для развития как гражданского права, так и современной юриспруденции вообще. Редакция журнала рекомендует этот материал самому широкому кругу читателей.
Ключевые слова: фикция, фидуциарные сделки, воля, волеизъявление, юридическое действие.
This issue is published the first part of a little-known work of pre-revolutionary jurist G. F. Dormidontov «Classification of the phenomena of legal life, attributable to the case of fiction» (the first part of the work published in the January issue of the Journal of Civil Law 2011). The author of the article attempted to classify all possibilities of legal fiction. During his studies G. F. Dormidontov addresses the problem fictions in law, determines its place in the law, and based on Roman law and domestic legal thought provides an insightful analysis of fiction with similar concepts, giving his assessment. This work, due to poor exploration of the legal definition of fiction, is of great importance for the development of both civil law and modern jurisprudence in general. The editorial board recommends that material to the widest audience.
Key words: legal fiction, fiduciary transactions, will, declaration of will, legal action.
§ 8
VI. Мнимые действия
Притворными действиями заканчивается ряд исключительных явлений юридического быта, обративших на себя внимание Мейера. Но, без сомнения, если бы Мейер был знаком с выдвинутыми позднее Иерингом мнимыми действиями в тесном смысле (Scheingeschafte) <1>, то он не обошел бы их молчанием. ——————————— <1> Ihering, Geist III. 4-е изд., § 57 и 58. Термин «мнимые действия» мы будем употреблять лишь в тесном смысле (ср.: Bekker. System. § 98; Анненков. Сист. I, место цит.).
Случаи мнимых действий в тесном смысле близко родственны действиям притворным, так как в обеих категориях случаев действие совершается лишь по видимости, и это действие заменяет собою другое. Но в то время как притворные действия всегда характеризуются намеренным обманом со стороны симулянтов, хотя бы и не с противозаконною целью, мнимые действия чужды всякого обмана и всякого желания скрыть истинное намерение сторон. Напротив, и посторонние лица, и судебная власть, когда дело доходит до ее сведения, не имеют повода к сомнению относительно того, что именно желали совершить стороны под видом того действия, которое они совершили. Мнимые действия, открытые Иерингом, возникли на почве древнеримского формализма и представляют особенность древнеримской жизни, свойственную, впрочем, юридическому быту и других народов в известный момент их развития. История римского права дает значительное число примеров этих действий. Нужно римскому гражданину передать своего раба в собственность другому гражданину; чтобы сделать эту передачу действительной и охраняемой законом (jus civile), оба гражданина идут с рабом к магистрату на суд и ведут притворный процесс о собственности. Приобретатель выступает в качестве истца и заявляет свое право собственности на раба в той же форме, как это он сделал бы в настоящем, действительном процессе. Отчуждающий не возражает на это заявление, и судья (магистрат) присуждает раба приобретателю <1>. Это так называемая in jure cessio — форма, к которой прибегать, как известно, можно было и при передаче имущества, и при отпущении на волю рабов <2>, и в других случаях. Другой подобной формой была манципация — древняя форма продажи. Нужно, например, отцу семьи отпустить сына из-под власти: он прибегает к совершению троекратной продажи сына в mancipium. К тому же средству он прибегает при отдаче сына в усыновление <3>. К манципации же прибегает римлянин при заключении брака, дабы приобрести путем coemptio власть над женой (manus <4>), причем позднее женщины римские с разными целями (с целью выйти, например, из-под опеки агнатов) стали прибегать к фиктивному совершению этой coemptio с лицом, которое заранее обязывалось, что coemptio будет совершена лишь для видимости (coemptio fiduciae causa — фиктивный брак). Это уже мнимое действие, так сказать, в квадрате <5>. Еще пример. Стороны, начиная процесс, заключают перед претором, по видимости, словесный контракт, по которому одна обязывается другой в случае несправедливости заявленного притязания уплатить известную сумму. На основании этого обещания предъявляется иск, ведется процесс об уплате обещанной суммы; но этот процесс нужен для другой цели (решения возникшей серьезно тяжбы), и потому приговор судьи об уплате обещанной суммы вовсе не выполняется (sponsio praejudicialis <6>). Для наших целей нет надобности увеличивать количество примеров, так как и приведенных достаточно, чтобы показать отличие мнимых действий от притворных и убедиться, что одни никак не следует смешивать с другими <7>. Притворное действие есть дело сторон, и его значение ограничивается единичным случаем; мнимое же действие есть общепринятая и признанная законом форма той сделки, которую желают совершить. В притворных действиях воля находится в действительном противоречии с тем действием, в котором она проявляется; в мнимых же — противоречие между волей и ее изъявлением является кажущимся, представляется лишь по видимости, на самом же деле его нет. При каждой притворной сделке совершается преднамеренно обман, облекают желаемую сделку в ложную форму, потому что истинное содержание сделки, истинное намерение лиц, совершающих действие, хотят скрыть от глаз посторонних лиц или от глаз начальства. При мнимых сделках нет такой тайны: здесь все знают, что именно совершается. Мнимые сделки — это иногда слишком искусственные, натянутые, но признанные законом технические средства для достижения вполне законных целей, которых стороны не могут почему-либо достичь более простым способом; это вынужденная «юридическая ложь, освященная необходимостью». Потому-то оспариваемый одною из сторон притворный акт судья должен признать ничтожным, а мнимый акт, совершенный указанным в законе или обычае порядком, напротив, неоспорим. Происхождением своим некоторые из мнимых действий могли быть обязаны действиям притворным и сначала были, может быть, также отдельными актами, лишь позднее, путем образовавшегося обычая, обратившимися в принятую и гарантированную объективным правом форму для сделок. Но это историческое происхождение не препятствует указанному принципиальному различию между ними и не мешает признавать в мнимых действиях законом призванной и даже законом требуемой формы для совершения известных сделок <8>. Анализируя понятие мнимых действий, нельзя не открыть в них черты сходства с символическими действиями. Манципация, выполнявшаяся при отпущении сына из-под власти, при усыновлении, при заключении брака, совершении завещания и т. д., in jure cessio, имевшая также место при усыновлении, отпущении раба на волю, передаче собственности и т. п., и вообще все мнимые действия римского юридического быта, совершавшиеся dicis causa, не представляются ли, подобно символам, видимыми условными знаками, при помощи которых действующие лица выражают свою волю? Ответ, конечно, должен быть утвердительный. Поэтому-то иногда мнимые и символические действия можно соединять в одну группу, но все-таки признак, резко отличающий мнимые действия от других символических действий, существует. Он состоит не в том, что в случаях мнимых действий внешний знак служит требуемой самим законом формой выражения воли при совершении юридических актов, ибо и образное выражение воли в символах может быть требуемо законом, а он состоит в том, что необходимое выражение воли в случаях, относящихся к категории мнимых действий, заменяется, так сказать, выражением ее в форме, употребительной для других юридических же действий, имеющих свою особую природу, свое назначение, часто весьма отличное от того, какое имеет совершаемое под его видом действие. ——————————— <1> Gai, II, § 24: «In jure cessio autem hoc modo fit: apud magistratum populi Romani, veluti praetorem, is cui res in jure ceditur, rem tenens ita dicit: hunc ego hominem ex jure Quiritium meum esse ajo; deinde postquam hic vindicaverit, praetor interrogat eum qui cedit, an contra vindicet; quo negante aut tacente ei qui vindicaverit, earn rem addicit; idque legis actio vocatur». <2> С соответствующим изменением в обряде см.: Gai, I, 17; Ulp., Tr. I Liv., II, 5; Paul Diac., V, Manumitti. <3> Gai, I, § 132 — 135. <4> Gai, I, § 113. <5> Gai, I, § 114 — 115. <6> Rudorff, Rom. Rechtsgeschichte II, § 28. <7> Римляне употребляли выражения «imaginarius», «fictus», «dicis causa» etc. для обоих этих видов действий. <8> Ihering, Geist III, § 56 — 58; Муромцев. О консерватизме римской юриспруденции. С. 92; Он же. Гражданское право древнего Рима. С. 269.
Символ или юридический обряд, служащий внешним знаком совершаемого действия, будучи взят сам по себе, отдельно от действия знаменуемого, обыкновенно не имеет не только юридического значения, но даже какого-либо самостоятельного содержания. В обычном праве крестьян существуют, например, такие символы, как битье по рукам в знак согласия или передача повода проданной лошади из полы в полу. Взятые независимо от той сделки, которую они сопровождают, символы эти ничего не значат. Не так при мнимых действиях, где вместо символа мы имеем формально правильный юридический акт, который, будучи взят отдельно от того действия, условной формой которого служит, может сам иметь самостоятельное значение и влечь юридические последствия. Представим себе, что римский отец семьи, желая эманципировать сына, для чего требовалась троекратная манципация, успел совершить лишь одну манципацию и дальнейшее совершение акта не состоялось: отпущенный из-под манципиума сын остается, конечно, во власти отца; но если когда-либо отец задумает отпустить из-под власти сына или отдать его в усыновление, то ему уже нужно будет совершить только две манципации. Будучи во всяком случае родственны символическим действиям, с которыми их часто смешивают, мнимые действия вместе с последними и с притворными сделками в известной степени близки к случаям применения юридических фикций. В мнимых сделках прибегают для видимости к какому-либо действию, совершенно по форме не соответствующему истинному намерению сторон и долженствующему влечь последствия, которые на самом деле не наступают. Женщина, поступившая при посредстве coemptio fiduciae causa в manus coemptionator’а, ни на одну минуту не делалась подвластной женой своего фиктивного приобретателя и не становилась по отношению к нему на место дочери. Завещатель, совершивший вымышленную куплю-продажу всего имущества лицу, называвшемуся familiae emptor, ни одной минуты не думал, что он действительно продает, а тот покупает это имущество. Да и вообще римлянин эпохи классической юриспруденции, прибегавший еще во многих случаях к манципации, прекрасно понимал, что она есть лишь imaginaria venditio, фиктивная, а не действительная продажа. Таким образом, становясь на точку зрения, принятую Мейером в его сочинении, мы должны отметить под именем мнимых действий в техническом смысле особую, не замеченную Мейером категорию явлений юридического быта: когда определения, рассчитанные, собственно, на известные факты, применяются в известной мере (иногда очень небольшой) к другим фактам, на которые эти определения вовсе не были рассчитаны, для чего выполняются по видимости действия, необходимые для установления первых фактов, и эти факты выступают мнимо существующими, хотя и лишенными своего нормального действия. Понятно, что с этой точки зрения трудно было бы отличить случаи мнимых действий от случаев притворных действий и от случаев применения фикций, так как ускользали бы существенные признаки отличия. Но и независимо от этой точки зрения различие это не так легко поддается определению, достаточным доказательством чего может служить то обстоятельство, что его так долго не замечали, смешивая мнимые действия не только с символическими и притворными сделками, но и с фикциями в собственном смысле <1>. Такому смешению способствовало, между прочим, давно уже подмеченное и особенно выясненное тем же Иерингом сходство в причинах их возникновения и в преследуемых ими целях. И те и другие являются для юриспруденции в известную эпоху ее развития специальным орудием прогресса. Эпоха не только благоприятная для появления как фикций, так и мнимых действий, но и прямо вызывающая их появление, — это эпоха господства формализма в юриспруденции. Формализм древнего права, с одной стороны, и закон юридической экономии, иначе — логической бережливости, правило которого гласит, что для того, что может быть достигнуто с данными средствами и понятиями, нет надобности в создании новых, — с другой — таковы, по мнению Иеринга, причины, вызвавшие в Древнем Риме появление как мнимых действий, так и фикций. Под юридической экономией этот автор разумеет искусство помогать себе более или менее удачным образом при помощи средств, имеющихся под руками <2>. Современная юриспруденция, говорит Иеринг, удовлетворяет этому закону юридической экономии, если она не расточительна и не требует ничего лишнего, ничего такого, что она может доставить себе сама с помощью комбинаций и выводов; но она не чувствует нужды в необходимом. Когда жизнь представляет ей новые отношения (как, например, бумаги на предъявителя), которые она не в состоянии удовлетворительно конструировать при помощи существующих римско-правовых принципов, то она не должна колебаться установить необходимые для этой цели понятия. Наука, достигшая зрелости, может и должна заняться новым в его истинном и оригинальном виде и должна быть достаточно вооруженной, чтоб овладеть им. К натянутым искусственным средствам такой науке прибегать нет надобности. Не таково положение юриспруденции на первых ступенях ее развития. Эта последняя может существовать лишь «при помощи искусства обходиться немногим; под давлением более значительного материала она погибла бы». Раз ей удалось привести в известный порядок этот материал, она, дабы не утратить господства над последним, должна тщательно этот порядок оберегать от всяких нарушений. Всякая новая идея, требующая ее принятия для юриспруденции, находящейся в периоде детства, является вовсе не желанным гостем, которого приветствуют, а назойливым пришельцем, угрожающим подвергнуть опасности существование установленного порядка. Вынужденная допустить его, она изыскивает такой способ, который возможно меньше вредил бы установленному порядку; она старается справиться с новыми идеями, с новыми целями и потребностями, создаваемыми жизнью, с помощью ограниченных средств. Такое стремление должно было естественно и необходимо приводить иногда к странным, на взгляд современного человека, натяжкам в области права. Разумеется, не всегда нужны были такие искусственные средства: где было можно, там довольствовались простыми. Простыми средствами Иеринг называет случаи «применения юридических правил и институтов к целям, чуждым их первоначальному назначению», но «с которыми, однако, они не находятся в противоречии»; «искусственным применение является тогда, когда юридические принципы и учреждения отвращаются от их естественного назначения, истинного смысла, цели, для которой они созданы, и действие их насильственно распространяется далее разумных границ» <3>. Так, coemptio fiduciae causa, заключавшаяся с целью дать женщине другого опекуна или освободить ее от мужниных sacra, была, конечно, средством искусственным. Одни из этих средств вошли в употребление путем обычая, другие изобретены юристами, но все они служили одной потребности, одному стремлению древнего римского права, а именно держаться по возможности дольше за старые определения и не нарушать освященного стариной порядка. Другой причиной, заставлявшею прибегать к таким средствам, могло быть также простое желание избавить себя от труда выдумывать новые формы и формулировать новые понятия. Мнимые сделки ясно указывают, до какой степени сильно было действие этих причин и к каким натяжкам они приводили. «Мнимая сделка, чтобы осуществить известные последствия, которые она имеет в виду, пользуется другим актом или отношением, которое рождает желаемое последствие или как цель, или как простое следствие, или даже как уголовное наказание, но при этом охватывает только нужное последствие, пренебрегая остальными» <4>. ——————————— <1> Demelius (Die Rechtsfiction, § 1 — 4) часто приводит символические и мнимые действия в качестве примеров фикций. <2> «Der Kunst sich in Geschickter Weise mit den Vorhandenen zu behelfen». О значении указанного закона юридической экономии в истории римской юриспруденции Иеринг говорит, что один взгляд на римскую юриспруденцию в состоянии вызвать убеждение в высокой важности этого правила. Он находит, что усилие римской юриспруденции следовать этому правилу настолько велико, средства, которые она употребляет, так искусственны и разнообразны, что каждый, кто привык отдавать себе отчет во внешних явлениях, не может этого не заметить и, следовательно, не может не оценить важного значения самого правила (Ihering, Geist III, 4-е изд., § 56. С. 242, 243: «Das Gesetz der logischen Sparsamkeit ist eins der Fundamentalgesetze der juristischen Technik» etc.). <3> Ihering, Geist III, § 56. С. 243, 244, 245. <4> Ihering, Geist III, § 58. С. 290 в конце.
Все мнимые действия отличаются от серьезно заключавшихся своих первообразов, т. е. актов, к которым они приноровлены, тем, что являются как бы копиями, которым недостает какого-либо существенного элемента изображаемого ими акта, почему для достижения их последствий приходится прибегать к искусственному восполнению указанного недостатка. Это восполнение происходит путем вымышленного акта, мнимой уплаты, мнимого предъявления иска и т. д. И последствия этих мнимых действий далеко не одинаковы с последствиями тех актов, которые ими копируются. Теория акта, послужившего первообразом, по справедливому указанию Иеринга, неприменима обыкновенно к акту мнимому, который имеет свою собственную теорию, расходящуюся нередко с теорией первого в самых существенных пунктах. Чтобы убедиться в этом, стоит опять-таки сравнить testamentum per aes et libram с его первообразом — манципацией или действительный брак в форме coemptio, при котором жена поступала во власть мужа со всем ее имуществом, — с coemptio fidnciae causa и т. п. <1>. ——————————— <1> Ihering, Geist III. § 58. С. 294 — 295.
Подобным же средством, служащим целям юридической экономии, только еще более искусственным, были, по мнению Иеринга, и фикции: и они также вызваны на свет необходимостью удовлетворить вновь нарождавшиеся потребности имевшимися в распоряжении средствами, дабы избегнуть по возможности ломки установившихся понятий и сохранить традиционное учение формально неприкосновенным, не мешая через то полному практическому осуществлению нового. Сам прием фикций состоит, по Иерингу, в том, что признаки, отличающие новое отношение от старого, принимаются вопреки действительности за несуществующие и новое отношение благодаря этому обсуждается одинаково со старым, подводится под одно понятие. Таким образом, фикция, по словам Иеринга, подобно мнимому действию, может быть характеризована как техническая вынужденная ложь. Служа вместе с мнимыми действиями достижению одной и той же практической цели, фикции являются средством, с помощью которого эта цель достигается легче; а потому с помощью фикций возможен прогресс в развитии права даже там, где наука не чувствует себя достаточно сильной. Отсюда Иеринг выводит, что фикции, подобно мнимым сделкам, суть явление также историческое, что существование тех и других обусловлено несовершенством логического мышления, молодостью юриспруденции <1>. Мы подробно изложили общераспространенные теперь между юристами взгляды Иеринга на историческое происхождение фикций и мнимых действий и на их историческую роль в праве. Несомненно, что во всем этом рассуждении многое справедливо и высокоталантливый, «богатый духом» писатель осветил ярким светом один из наиболее темных до того вопросов в истории развития юридических учреждений. Однако и при этом свете не все удается разглядеть и уяснить надлежащим образом: многое еще требует нового, более тщательного рассмотрения. Так, во-первых, сам Иеринг указывает на то, что все вышеприведенные рассуждения относятся только к фикциям историческим, кроме которых имеются и другие, догматические фикции, отличные от первых по происхождению и по цели <2>. Правда, некоторые последователи Иеринга думали пойти дальше его и ограничить понятие фикций именно только одними фикциями историческими. Но зато, с другой стороны, они же высказывают уже сомнение в том, чтобы данное Иерингом объяснение причины возникновения фикций могло быть признано достаточным в применении ко всем историческим фикциям римского права <3>. Итак, не все еще ясно. Прежде всего нам также кажется, что нельзя смотреть на юридическую фикцию вообще лишь как на средство для подведения новых понятий под старые правила. Она может служить и для других целей. Во-вторых, надо отличать фикцию как прием юридического мышления от случаев применения этого приема, а между тем такое смешение более чем часто допускается и служит отчасти причиной неправильных взглядов на юридические фикции в науке. В подобном смешении повинен уже Савиньи <4>. Не чуждым этой ошибки является, на наш взгляд, и все приведенное рассуждение об исторической роли фикций. Рассуждая о фикциях как явлении, родственном мнимым действиям, Иеринг имеет в виду, конечно, не фикцию в смысле приема юридического мышления, а известные отдельные случаи применения этого приема. В рассмотренных им случаях прием этот применяется для известной цели, это обстоятельство, характеризующее лишь эти именно случаи, затем незаметно переносится на характеристику и определение самого приема. Вместо того чтобы сказать, что фикция в таких-то случаях употребляется как средство для достижения того-то, говорят, что фикция есть средство для достижения того-то <5>. Конечно, большой беды от этого не выходит, если не забывать, что в последнем случае вовсе не дается определение понятию, а указывается случай его применения. Но это-то именно иногда и забывают. Нож есть орудие, которым режут хлеб, — это верно, но это, конечно, не определение ножа. Фикция есть средство, при помощи которого новое понятие может быть подведено под старое правило, но сам случай такого подведения, понятно, не есть фикция, и подведение нового отношения под старое правило не есть момент, существенно определяющий понятие фикции; а между тем на этот именно момент главным образом указывают, когда говорят о родстве фикций и мнимых действий и когда признают за фикциями лишь исключительно историческую роль <6>. Это принятие несущественного для определения понятия фикции момента цели, с которой она часто применялась в римском праве, и послужило, по-видимому, причиною того, почему Иеринг, так ясно указавший на отличие мнимых действий от притворных сделок, говорит далее больше о сходстве первых с фикциями и почти не останавливается на существующем между этими понятиями различии, как бы предполагая его ясным и без определения его точных признаков. Между тем, как мы уже указали, над вопросом об этом различии следовало бы остановиться подольше, хотя бы ввиду указываемого самим Иерингом смешения понятий этих даже специалистами. Как в мнимых действиях, так и в фикциях мы, по словам Иеринга, встречаемся с вынужденной юридической ложью. Причина, заставляющая лгать, и цель лганья, по мнению Иеринга, одинаковы. Остается отыскивать разницу в самом способе. ——————————— <1> Ihering, Geist III. § 56. С. 301 — 305. Общеизвестно уже делаемое этим писателем сравнение юридических фикций с клюшками, которыми наука должна пользоваться, пока не научится ходить самостоятельно. <2> Ihering, Geist III. С. 306. <3> Так, г. Муромцев, подробно познакомивший русских юристов в своих сочинениях с мыслями Иеринга о юридических фикциях, настаивает на исключительно историческом значении фикций и высказывает сомнение, указанное в тексте (см.: Муромцев. Консерватизм римской юриспруденции. С. 97 (прим. 16) и С. 101, 102 (прим. 27)). <4> Savigny. Vom Beruf unsrer Zeit fur Gesetzgebung etc., 3. Aufl., 1840, § 32. <5> Ihering, Geist III. С. 305 — 306. <6> См.: прим. 17 и Ihering, Geist III. С. 306 и 309. Иеринг, однако, заявляет, что рассмотрение догматической функции фикций не входит в его задачу.
По отношению к фикциям этот способ состоит в том, что несуществующее вымышляется существующим, и наоборот. Так ли это и при мнимых действиях? Иеринг характеризует, как мы видели, этот прием следующим образом: мнимая сделка пользуется для осуществления желаемых последствий другим актом или отношением, «которое рождает это последствие как цель, или как простое следствие, или даже как уголовное наказание, причем мнимая сделка схватывает только нужное последствие, пренебрегая остальными» <1>. Здесь опять-таки не отличаются случаи применения мнимых действий от самих мнимых действий как средства, к которому в этих случаях прибегают. В сущности Иеринг говорит: мнимое действие есть случай достижения желаемых последствий при помощи такого-то средства и описывает затем это средство, т. е. само мнимое действие; описание очень метко и правильно, но допущенное смешение понятий препятствует все-таки ясности представления. Эта подстановка одного понятия вместо другого, замена средства, служащего к достижению известной цели, случаем применения этого средства выступает еще виднее в другом месте, где Иеринг называет мнимые сделки как бы копиями с первообразных актов, к которым первые приноровлены, — копиями, которым недостает какого-либо существенного элемента изображаемого ими акта. По-видимому, здесь говорится о самих сделках, совершаемых при помощи мнимых действий, что подтверждается дальнейшим заявлением автора, что для достижения последствий этих сделок приходится прибегать к искусственному восполнению указанного недостатка путем вымышленного акта, мнимой уплаты, мнимого предъявления иска и т. п. <2>. Но если это так, то тогда неправильно на облекаемые в форму мнимых действий сделки перенесены те признаки, которые относятся к характеристикам лишь самой формы. Совершаемая при помощи мнимого действия сделка вполне действительна, она влечет соответствующие ее внутреннему содержанию последствия. По содержанию этому она часто ничего почти общего не имеет с тою сделкой, форму которой заимствуют для ее совершения; последствия ее совершенно иные (манципация и завещание, например), так что нельзя говорить об отношении, аналогичном отношению копии к оригиналу. Завещание или усыновление нельзя себе представить копией манципации, продажу — копией процесса о собственности, и нельзя про них сказать, что, дабы быть настоящей манципацией, настоящим процессом о собственности, им недостает существенного элемента, который необходимо восполнить искусственно, чтобы они могли влечь свои последствия. ——————————— <1> Ihering, Geist III. С. 590. <2> Ihering, Geist III. С. 293.
Все это можно сказать о мнимом действии, к которому прибегают как к средству для совершения указанных сделок. Манципация при testamentum per aes et libram есть, конечно, лишь копия настоящей манципации, in jure cessio есть лишь копия настоящего процесса о собственности, sponsio praejudicialis — копия действительной sponsio <1>. Во всех этих случаях копии недостает существенного элемента, чтобы быть оригиналом, влечь все с ним связанные последствия. Но если в приведенных словах дается характеристика мнимому действию как форме сделки, как средству, к которому прибегают для ее действительности, то тогда все приведенное место получит такой смысл, будто Иеринг хочет сказать, что для наступления последствий, связываемых с совершением мнимого действия, необходимо совершение мнимого действия! Этого, конечно, Иеринг сказать не хотел. Имея в виду происхождение мнимых действий, он должен был рассуждать так: новая сделка существенно не похожа на старую по содержанию и не могла бы быть облечена в ее форму; но это достигается таким путем, что старая форма выполняется лишь по наружности, все недостающее в новой сделке, требуемое этою формою, вымышляется для видимости, и наступают последствия, требуемые новой сделкой, которая лишь по внешности копирует старую. Разумеется, Иеринг прекрасно понимал разницу между мнимым действием как средством и внешнею формою сделки и тем настоящим действием, или, иначе, тою целью, для достижения которой к данному мнимому действию прибегают. Но в своих суждениях о мнимых действиях он, очевидно, не всегда имел это различие в виду и отождествлял, так сказать, форму с содержанием или средство с целью. Ошибка легко допустимая и объяснимая, если припомнить, что многие, например, не различают также симулированной сделки от прикрываемой ею (диссимулированной) и говорят о действительности притворной сделки, имея в виду действительность сделки прикрываемой. Но понятно, что подобная ошибка или неточность в связи с такой же неточностью в отношении фикций должна мешать ясности представления об отличии фикции от мнимого действия. Отличие это, кажется, выясняется уже из всего сказанного; рассмотрим его, однако, еще на примере. Возьмем хотя бы sponsio praejudicialis <2> и вглядимся ближе в этот случай с интересующей нас точки зрения. Мы видим здесь, что стороны заключают на суде обязательство, которого не хотят вовсе на самом деле исполнить, но которое с формальной стороны строго признается существующим вплоть до окончания процесса, основанного на этом мнимом заключении обязательства. Стороны добросовестно, как хорошие актеры, играют взятые ими на себя роли, пока судья в этом процессе не произнесет решения. Решение это нужно истцу не ради его прямых последствий. Выиграв дело, он не требует уплаты выговоренной при заключении sponsio суммы и все заключенное ранее мнимое действие ему теперь уже не нужно. Для него важно лишь то, что в судейской sententia косвенно содержится признание за ним спорного права и что восстановления этого права на этом основании можно требовать от ответчика. Итак, мы имеем здесь заведомо фиктивно заключенное формальное обязательство, которое серьезно обсуждается как действительно заключенное, но лишь в известных отношениях. Подобное же мы видим и в других случаях мнимых действий: по видимости, совершается известный формальный акт или устанавливается формально известное отношение, но из совершенного акта или установленного формально отношения выводятся не обыкновенные формальные их последствия, а лишь некоторые из них или даже нередко совершенно иные, указываемые законом или обычаем для того именно случая, когда совершенный акт или формально установленное отношение будут лишь мнимо существующими, имеющими место лишь dicis causa. Словом, и здесь, как и при фикции, мы имеем дело с вымыслом, но здесь вымысел применяется лишь с целью и в виде мнимого совершения формального акта, которое, в свою очередь, нужно для облечения сделки в принятую законную форму, хотя и не соответствующую истинному содержанию сделки, но тем не менее способную (по закону или обычаю) быть знаком ее существования и гарантировать ее осуществление. ——————————— <1> Gai, II, § 103 — 105, а также выше, прим. 2 — 5. <2> Keller, Rom. civ. Process, § 25, 27; Kuntze, Cursus, § 211.
Таким образом, мнимое действие оказывается в сущности более искусственным и трудным техническим приемом, чем фикция, так как нуждается часто в помощи последней, не довольствуясь, однако, ею, а требуя для придания ей значения мнимого совершения формального акта. Это тяжелое и уродливое по сравнению с фикцией орудие, которое могло быть еще полезным и терпимым в эпоху узкого формализма и незначительного развития гражданского оборота, но которое стало стеснительно и непригодно при обороте более живом и должно было поэтому сравнительно рано выйти из употребления <1>. ——————————— <1> Юстиниан в L. G. Cod. de emancip. VIII, 48(49) энергически порицает это создание древнего формализма: «Cum inspeximus im emancipationibus vanam observationem custodiri et venditiones in liberas personas figuratas et circumductiones inextricabiles et iniuriosa rhapismata, quorum nullus rationabilis invenitur exitus…»
§ 9
VII. Фидуциарные сделки
С мнимыми, а равно с притворными действиями не надо смешивать так называемые фидуциарные сделки, на особую природу которых обратили внимание весьма недавно <1> и которые иными авторами признаются явлениями современного юридического быта, неизвестными древнему римскому праву <2>. Сюда относят те случаи, когда стороны, преследуя известную практическую цель, избирают для ее достижения такую сделку, правовые последствия которой, как им известно, идут далее этой цели, например для большего обеспечения залогопринимателя передают ему заложенную вещь в собственность или, желая поручить другому лицу взыскание по обязательству, уступают ему обязательственное требование <3>. Сюда же относятся: часто практикуемый полный индоссамент с целью лишь взыскания индоссатором с вексельного должника, а равно — трассирование обеспечивающего векселя для еще не существующего и лишь возможного в будущем долга, но уже на определенную сумму <4>. Все эти случаи прежде подводили под понятие притворных или прикрытых сделок и обсуждали такую сделку как простой залог, простую доверенность, и только в самое последнее время в немецкой юридической литературе и в судебной практике установился противоположный взгляд, по которому в этих случаях надо видеть не притворное, с обманным намерением совершаемое действие, а серьезно задуманную юридическую сделку <5>. Мотивом, побуждающим стороны прибегать к совершению фидуциарных сделок, обыкновенно служит желание воспользоваться теми большими удобствами, которые представляет такая сделка по сравнению с юридическими действиями и сделками, прямо соответствующими намеченной сторонами цели. (Собственность более обеспечивает кредитора, чем залог; взыскание по приобретенному обязательственному требованию быстрее можно произвести, чем при посредстве доверенности.) Иногда прибегать к фидуциарным сделкам заставляет отсутствие соответствующей намерениям сторон юридической формы <6>. Относительно последствий такой сделки все согласны в том, что на фидуциара (приобретателя по сделке) переходит действительная собственность вещи, что он становится собственником векселя, субъектом обязательственного требования <7>. Но в дальнейшем обсуждении отношений фидуциара как к другому контрагенту, так и к третьим лицам, заинтересованным в сделке, замечается разногласие. Одни придают приобретению прав фидуциаром большее значение, смотря на него как на вполне действительное приобретение, и рассуждают так, что контрагент фидуциара сам оставляет свои интересы в распоряжение фидуциара, и если он потерпит от этого ущерб без вины со стороны фидуциара, то должен пенять на себя <8>. Другие же говорят, что в указанных случаях имеется различие между внешней и внутренней сторонами отношения. «По внешности фидуциар становится в положение собственника нашей вещи или верителя по передаваемому нами требованию. Он вполне нами управомочен к осуществлению нашего права. С внутренней же стороны он остается просто нашим поверенным, вещь или требование остаются для него чужими» <9>. Это настолько верно, по словам представителей данного мнения, что в случае учреждения над фидуциаром конкурса управомочивший его может виндицировать фидуциарный актив из конкурсной массы. За злоупотребление же доверием, фидуциару оказанным, т. е. в случае, если он вверенное ему имущество обратит в свою пользу, он должен подвергнуться наказанию <10>. Защитники первого мнения, напротив, в согласии с их взглядом, утверждают, что если на фидуциаре, по соглашению с уполномочившим его лицом, и лежит обязанность возвратить вещь или доставить взысканные по долговому документу деньги, то это обязательство не нарушает его прав и осуществление им последних вполне действительно; уполномочивший же его может требовать лишь удовлетворения за неисполнение обязательства <11>. В случае учреждения конкурса над фидуциаром сторонники первого мнения признают перешедшие в собственность несостоятельного должника вещи и документы принадлежащими к конкурсной массе и думают, что требование о выдаче их должно поступить в конкурс, в требовании же выделить вещи из конкурса цеденту или индоссанту должно быть отказано <12>. Затем спорен также вопрос об отношении цедента и фидуциара к вексельному должнику. ——————————— <1> Первый специально обратил внимание на особую природу этих встречающихся нередко в современной практике случаев Регельсбергер в статье «Zwei Beitrage zur Lehre von der Cession» (см.: Arch. fur die civ. Praxis, 1880, Bd. LXIII, с. 157 — 207). Он предложил называть эти сделки фидуциарными. Ранее, впрочем, Kohler (Ihering’s Jahrbucher fur Dogm., Bd. XVI, с. 91 сл. и с. 325) также указывал на особенности этих сделок, называя их «прикрытыми». Название, данное Регельсбергером, как более подходящее и напоминающее о римской «fiducia», можно теперь считать уже общепринятым; тогда как название «Verdecktes Geschaft» оказалось более подходящим для диссимулированной сделки и употребляется, как было уже упомянуто выше, в этом смысле. Что учение о фидуциарных сделках явилось под влиянием книги Иеринга «Дух римского права», это не подлежит сомнению, и Regelsberger сам ссылается на § 46 (Th. II) и 57 (Th. III) этого сочинения (см.: Regelsberger, ст. цитир., с. 173). Кроме цитированных статей, см.: Hellvig, Archiv fur die civ. Praxis, 1881, Bd. LXIV, с. 369 сл.; Lang. Die Wirkungen der fiduciarischen Geschafte, Archiv fur die civ. Praxis, 1894, Bd. LXXVII, Heft 3, с. 336 — 351; Kohler в: Ihering’s Jahrbucher fur Dogm., Bd. XXVIII, с. 168 сл.; Regelsberger. Pandecten I, § 141, III a, с. 518 и сл.; Dernburg. Pandecten I, § 100 и 213 к прим. 6. В русской литературе о фидуциарных сделках говорит один Муромцев (Гражданское право Древнего Рима. С. 216 — 220). <2> Так учит Dernburg (Pandecten I, § 100, прим. 9). Противного мнения и основательно: Regelsberger, Arch, fur civ. Praxis, LXIII. С. 173 и Pandecten, § 141 в конце. <3> Древнейший пример представляет римская форма залога fiducia: Gai, II, 60. Что случаи передачи собственности с целью установления залога известны современному юридическому быту, это Regelsberger доказывает ссылкой на случаи из судебной практики, приводя целый ряд решений (см.: Regelsberger. Pandecten I, цит. прим. 13). Но нужно заметить, что подобные сделки иногда бывают действительно притворными и практикуются в обход закона, особенно ростовщиками и закладчиками. В отдельном случае нередко трудно отличить фидуциарную сделку от притворной. <4> Regelsberger, I, § цит. прим. 13; Lang, ст. цит.; Dernburg, I, § цитир. <5> Kohler. Ihering’s jahrb., Bd. XVI, с. 150; Seuffert’s Archiv, XXVII, с. 252; Entscheidungen des Reichs Ob. Hand. Gerichts VI, с. 58, 59. Для современной практики см. ряд решений (Entsch. des Reich. Gerights), приведенный Регельсбергером в месте цитир., в прим. 3. <6> Lang, стат. цит. <7> См.: Regelsberger, Dernburg, Kohler и Lang в цит. сочинениях. <8> Lang, ст. цит., с. 242, 243. <9> Dernburg. Pand. I, § 100 к прим. 9. <10> Id., прим. 10 и 11; Kohler in: Ihering’s Jahrb., Bd. XVI, с. 353; Entscheidungen d. Reichregichts in Strafsachen, Bd. III, с. 344. <11> Lang, цит. статья; Regelsberger. Pand. I, § цит. <12> Так, Lang в ст. цит., на стр. 243 (против Дернбурга), указывает на то, что раз фидуциар признается собственником вещи или субъектом обязательственного требования, он должен, следовательно, обсуждаться как таковой и по отношению к управомочившему его.
Может ли, например, такой должник (debitor cessus) пользоваться против фидуциара всеми теми возражениями, которые имел он против цедента? Нет, отвечают одни, должнику здесь принадлежат лишь те возражения, которые он может осуществить против каждого векселедержателя или субъекта обязательственного требования, а не те, которые могли быть предъявлены против цедента или индоссанта лично, равно и не те, которые ему принадлежали бы против самого индоссатора как истца, например возражения о зачете, платеже и т. п. <1>. Другие же отвечают на поставленный вопрос утвердительно <2>. Первое мнение опирается на практические соображения: указывают именно, что допущение возражений, направленных лично против цедента или индоссанта, повело бы к предоставлению ответчиком лишних поводов к проволочкам в процессе, а это вредно отозвалось бы на вексельном обороте и на кредите вообще <3>. ——————————— <1> Lang, стат. цит. к прим. 8 ссылкой на значительное число решений высших германских судебных учреждений. <2> Dernburg. Pand. I, § 100; Kohler, ст. цит., с. 150 сл.; Regelsberger. С. 178 — 180, 189 сл. <3> Lang, ст. цит.: «Оборот, именно вексельный оборот, требует прежде всего по возможности исключения проволочек и ябеднических возражений, под защиту которых охотно прибегают вексельные должники, находящиеся в нужде». Это соображение, по мнению Ланга, является наивысшим в данном вопросе. Против последнего заявления можно, конечно, возразить многое. Не слишком ли склонны некоторые новые писатели приносить в жертву требования справедливости современному Молоху, носящему название «экономический оборот»? Наконец, в интересах ли этого оборота чрезмерная строгость к должнику? Правда, возможность представления должникам против иска фидуциара возражения о том, что цедент или индоссант коварно прибегли к цессии или к жиро (индоссаменту), чтобы лишить его возражения, которое у него имелось, лишила бы фидуциарные сделки тех выгод, ради которых к ним всего чаще прибегают. Но заслуживают ли сами эти сделки особого, так сказать, покровительства закона? Ведь надо помнить, что прочность оборота прежде всего основывается на доверии к соответствию воли с внешним ее проявлением. А такого соответствия все-таки ведь недостает в фидуциарных сделках, и последние, как упомянуто, легко смешиваются с притворными.
Юристы-практики склонны иногда проводить последнее соображение слишком далеко и отказывают вексельному должнику в праве приводить возражение о притворном характере той сделки, на которой основывает фидуциар свое требование <1>. Но теоретики, напротив, думают, что вексельному должнику должно быть предоставлено право указывать на несерьезный характер полного индоссамента <2>. Здесь не место пускаться в разбор приведенных взглядов. Для нашей цели достаточно иметь понятие о том, что такое разумеют под фидуциарными сделками, и отметить, что фидуциарные сделки, подобно мнимым, отличаются от притворных тем, что стороны не скрывают своего истинного намерения. Подобно мнимым сделкам, фидуциарные можно назвать допускаемыми законом или обычаем формами сделок. Однако последствия отличаются от мнимых сделок в собственном смысле тем именно, что в то время как в мнимых действиях совершаемое сторонами по внешности действие имеет место лишь dicis causa, для видимости, и не влечет своих нормальных последствий, в сделках фидуциарных внешнее действие, совершаемое сторонами, юридически вполне действительно, влечет все свои нормальные последствия и лишь по особому соглашению сторон, основанному на доверии к добросовестности управомоченного, эти последствия в известных отношениях не наступают, а заменяются другими, соответствующими истинному намерению сторон. Характерно для этих сделок именно то, что ограничение нормальных последствий сделки ставится здесь в зависимость от верности или честности лица, получающего управомочие по сделке. Римляне, в древнем праве которых соглашения подобного рода должны были, несомненно, играть видную роль (манципация и in jure cessio часто связывались с фидуцией), принимали довольно энергичные меры к поддержанию этой верности, угрожая нарушителям ее инфамией <3>. Но несмотря на такие меры фидуциарные сделки представляются вследствие именно разлада между внешним их юридическим содержанием и истинным намерением сторон, исключительным явлением. Будучи вызваны известной потребностью, они оказываются несовершенным средством ее удовлетворения, и поэтому фидуциарная сделка или вырождается в мнимую сделку (так было с фидуцией при отдаче домочадца в mancipium, а равно и при coemptio), или же заменяется более совершенной формой для достижения намеченной сторонами цели и практически почти выходит из употребления. (Такова судьба формы залога, называемой fiducia <4>.) Нельзя назвать нормальным явлением и приведенные выше примеры современных фидуциарных сделок. Изложенное выше разногласие в обсуждении их достаточно ясно указывает, по нашему мнению, на то дальнейшее направление в их развитии, которому им придется следовать. Если восторжествует мнение (Дернбурга и др.), что преимущество должно быть отдаваемо внутреннему намерению сторон, то совершаемое по внешности отчуждение вещи или требования должно обратиться в одну формальность, в мнимый акт, на что и указывают противники этого мнения. Если же восторжествует противоположное мнение и будут придавать большое значение юридической действительности совершаемого акта, то прибегать к нему будет не так удобно, так как даже несомненная честность фидуциара не обеспечит управомочивающему достижение его цели (при конкурсе над фидуциаром или в случае смерти последнего <5>). Как бы то ни было, для нас важно отметить еще особый вид ненормальных явлений юридического быта, которому нет особого места в классификации Мейера, так как, следуя ей, здесь придется говорить о притворных сделках. Будучи близки к притворным и мнимым сделкам, фидуциарные сделки не имеют, однако, ничего общего ни с символическими действиями (пока не вырождаются еще в мнимые сделки), ни со случаями применения фикций. Вымыслы и воображение здесь не играют роли. Стороны изъявляют не фиктивную, а истинную волю на совершение сделки, и ненормальность случая только в том, что для достижения известных последствий совершается акт, последствия которого идут гораздо далее преследуемой сторонами цели. ——————————— <1> Как ни трудно отличить индоссамент, содержащий лишь полномочие на получение платежа, от прикрывающего его полного индоссамента, т. е. составляющего передачу векселя в собственность (см.: Мейер. Очерк русского вексельного права, в приложении к изд. г. Гольмстеном учебнику Мейера. С. 27; Шершеневич. Курс торгового права. § 103), однако отнимать в этом случае у должника возможность возражения о притворстве не согласен даже неблагосклонный к должникам Ланг. «Должно быть дозволено, — говорит этот автор, — в конкретном случае утверждать, что полный индоссамент имел место лишь для видимости и что индоссант не сделался собственником векселя». При этом Ланг ссылается на практику германского Имперского суда (см.: Entsch. d. R. Gerichts, Bd. IV, с. 100, 101; Bd. XI, с. 9), приводя в пример случай, где предосторожность индоссанта шла так далеко, что адвокату даже дано было поручение взысканные деньги переслать не индоссатору, а индоссанту. <2> Lang, соч. цит.; Dernburg, Kohler и др. <3> Gai, I, 182. Что actio fiduciae было actio famosa, об этом см. у Cic. p. Rosc. Com. 6, 16 и Cic. c. Cacc. 3, 7, f. Lex Julia municip. Относительно исторического значения фидуции в древнем римском юридическом быту и в римском праве см.: Voigt. Die XII Tafeln, Bd. II, § 86; Gai, II, 60: «fiducia contrahitur aut cum creditore pignoris jure, aut cum amico, quo tutius nostrae res apud eum sint dare, accipere, in jure cedere» и т. д.; Gai, I, 114, 115; II, 59, 220; III, 201; Pauli sent. Rec. I, 98; II, 13, 1 — 7; V, 26, 4; Cic., Top., 10, 42, Liv. XXXII, 38, 2; Corpus inscript. Latinarum, L. II, no. 5042 l. 1. f. Что fiducia основана на fides, верности, об этом см. у Cic. De off. III, 17, 70; Cic., Top., 10, 42. О последствиях см.: Ulp., fr. 5, § 3 Dig. XXVII, 9 и Paul. Sent rec. II, 13, 6 и 7 и III, 6, 69. О временном и относительном характере приобретаемого фидуциаром права и о его ответственности перед лицом, дающим ему управомочие (fiduciae dans), см. Voigt в упомянутом сейчас сочинении (с. 172 — 175) и источники, цитируемые этим автором в прим. 15 — 25. <4> Что троекратная манципация, соединявшаяся с фидуцией, при adoptio и emancipatio, а равно имевшие место здесь же in jure cessio и remancipatio были мнимыми действиями, в этом никто не сомневается (см.: Ihering. Geist III, § 68). Относительно же исторической формы залога, называемой fiducia, формы, кстати сказать, очень распространенной и встречающейся в древнеиндусском и древнегреческом праве (Zeitschrift fur vergleichende Rechtswissenschaft, 1881, III 185 ff.; статья Kohler’а; Hermann. Grichische privat. Alterthumer, § 66; Nouvelle Revue historique, 1887, I, 171 след. ст. Dareste), а также у народов германских (mort-gage в английском праве), надо заметить, что в Риме эта форма прошла следующие ступени в своем развитии. Первоначально при этом виде залога отношение между кредитором и должником основывалось исключительно на fides и было лишено санкции закона (Ihering. Geist III, § 46; Муромцев. Гр. право Др. Рима. С. 218). Позднее должны были признать, что отказ кредитора в восстановлении взятой от должника вещи по уплате последним долга или употребление этой вещи в противность соглашению, как нарушение доверия, составляет повод к иску со стороны должника (actio ex delicto и затем actio in factum). Еще позднее pactum fiduciae, присоединенное к mancipatio или in jure cessio, рождало личный иск bonae fidei — actio fiduciae directa. На этой точке своего развития передача собственности, соединенная с pactum fiduciae, с одной стороны, приближается уже к мнимым сделкам, а с другой — уступает место другим, новым по сравнению с ней формам залога (Bachofen. Das rom. Pfandrecht, Bd. I, 1847, с. 3). Если не исчезает из употребления даже, может быть, в юстиниановскую эпоху, а равно в нынешнем юридическом быту передача вещи в собственность кредитора с целью, чтобы она служила обеспечением долга, то лишь ввиду тех особых удобств, которые представляются ею для кредиторов, пользующихся этой формой в своих личных интересах, обыкновенно со скрытыми целями. <5> См.: Lang, ст. цит.
§ 10. Вывод из предыдущего изложения. Перечисление ненормальных явлений юридического быта, подходящих под указанный Мейером признак. Невозможность объединения всех этих явлений под именем фикций в обширном смысле
Теперь мы обозрели все те явления юридического быта, которые имеют хотя бы какое-либо основание быть относимыми к числу имеющих связи с фикциями, а иногда подводятся под понятие последних. Кроме четырех категорий этих явлений, указанных Мейером, мы отметили еще три, а именно: ошибочно опущенные Мейером символические действия; далее, мнимые действия и фидуциарные сделки, которых Мейер не мог отметить, потому что как те, так и другие стали отличать от притворных сделок лишь в последнее время. Подмеченное уже давно сходство между всеми этими группами явлений, заставлявшее авторов иногда смешивать их между собою, побудило, очевидно, и Мейера рассмотреть их вместе в одном сочинении, причем он подметил во всех них одну общую черту, именно отступление от нормального в юридическом быту порядка, состоящее в том, что юридические определения, рассчитанные на известные факты, применяются, хотя самих фактов мы и не усматриваем. С этой только точки зрения, т. е. с целью указания и изучения различных случаев подобного применения юридических определений к не усматриваемым в наличности фактам, Мейер и излагает учение об отмечаемых им явлениях. Нельзя не признать, что указываемый Мейером общий для всех этих явлений признак есть действительно тот самый, благодаря которому, если об этих явлениях и не говорят всегда как о случаях применения фикций, то находят все-таки нечто с этими случаями общее. Но вместе с тем не надо забывать, что это признак, общий именно известным явлениям юридического быта, а не существенный и не пригодный для определения всех тех юридических понятий, которые поименованы автором в заглавии его сочинения и которые на самом деле не могут быть объединяемы, так как нельзя, при желании даже, объединять логический прием с юридическим действием. Между тем это обстоятельство Мейер (да и не он один) как бы совершенно упускает из виду и впадает в указанную уже ошибку смешения употребляемых в праве приемов со случаями, когда последние применяются. Оставляя в стороне эту ошибку и останавливаясь на рассмотрении самых интересующих нас явлений, мы должны обратить внимание еще и на то обстоятельство, что указанный объединяющий их общий признак не определяет существенно природы всех этих явлений, по сущности своей совершенно различных. Между фактом совместной гибели отца и детей, дающим место применению известной презумпции, и фактом совершения притворной сделки нет, конечно, ничего общего по существу. На это обстоятельство Мейер также не всегда обращает должное внимание. К этим коренным недостаткам сочинения Мейера, заставляющим его, например, так неудачно искать отличительный признак скрытных действий от предположений, присоединяется еще не всегда правильное понимание сущности изучаемых им случаев, благодаря чему скрытные действия все внесены в круг рассматриваемых ненормальных явлений юридического быта и составляют особую их категорию, тогда как в тех из них, где не приходится прибегать к презумпции воли лица, с точки зрения Мейера, нельзя указать ничего ненормального; остальные же должны быть рассматриваемы как случаи применения юридических предположений. Благодаря этому же недостатку символические действия отнесены, напротив, к нормальным явлениям юридического быта. Таким путем получилось неудачное установление помянутых четырех категорий явлений, которое оказывается неправильным независимо даже от опущения автором символических и мнимых действий и фидуциарных сделок. Более тщательный анализ всех интересовавших Мейера ненормальных явлений юридического быта дал бы следующие категории их: Юридические определения, рассчитанные на известные факты, применяются, хотя самих фактов нет налицо, в следующих случаях. 1) юридические определения применяются благодаря тому, что заведомо не существующий факт признается объективным правом за существующий; 2) юридические определения применяются благодаря тому, что факт, хотя возможный, но не доказанный, признается существующим (с допущением или недопущением доказательства противного); 3) юридические определения применяются потому, что имеется налицо знак, условно заменяющий тот факт, на который эти определения рассчитаны (смотря по обстоятельствам, относящиеся сюда случаи могут быть причисляемы к первой или второй из указанных категорий или же не заключать в себе ничего ненормального); 4) юридические определения применяются вполне или отчасти потому, что факт ложно выдается за существующий. Фактами здесь являются юридические действия, сделки, которые совершаются лишь по видимости, фиктивно: а) по желанию действующих с намерением обмануть для достижения скрытых целей (случаи умолчания и притворных действий); б) без такого намерения, по предписанию объективного права, для того чтобы заведомо мнимым совершением действия вызвать применение рассчитанных на него юридических определений в известной мере, в какой это необходимо для достижения последствий другого действия, совершаемого на самом деле; 5) юридические определения применяются к юридической сделке, совершенной на самом деле, но заведомо и явно с целью достигнуть не всех ее последствий, а лишь тех, которые желательны сторонам, благодаря чему управомоченному по этой сделке предоставляются более широкие права, чем это требуется целями сторон, и вместе с тем его чести и верности поручается не злоупотреблять этими правами. Таковы те явления юридического быта, сходство и различие которых со случаями применения юридических фикций нам необходимо выяснить. Об отношении к фикциям каждой из этих групп уже говорилось достаточно выше, и черты сходства и различия, которые можно подметить у каждой группы в отдельности по сравнению с другими, также указаны. Остается только решить вопрос: настолько ли родственны действительно все эти явления, чтобы их можно было подводить под одно понятие и говорить о случаях применения фикций в обширном смысле? Решение этого вопроса зависит от того, что признаем мы существенным, объединяющим случаи применения фикций признаком. Если мы удовольствуемся тем признаком, который указан Мейером, то мы все указанные категории явлений будем принимать как случаи применения фикций. Едва ли, однако, станет кто-нибудь оспаривать, что это было бы неправильно и неудобно, так как, по вышеуказанному, приходилось бы объединять случаи, различные в своем существе. Если мы обратим внимание на другой признак, а именно на необходимость для применения юридических определений прибегать к вымыслу, т. е. выставлению несуществующего существующим, и обратно, независимо от того, когда и кто к этому вымыслу прибегает, то к случаям применения юридических фикций придется отнести все притворные действия в обширном смысле, действия мнимые и некоторые случаи символических действий. Применение презумпций придется, наоборот, выделить из случаев применения фикций в обширном смысле. Если мы найдем, что указанный общий признак заставляет соединять слишком разнородные явления и понятия и за существенный признак юридических фикций примем лишь вымысел, допускаемый и применяемый объективным правом, то притворные сделки придется выключить их круга случаев применения юридических фикций и оставить лишь те случаи, где объективное право предписывает принимать за существующее несуществующее, или наоборот, а равно те случаи, где оно само указывает прибегать к совершению известных действий для видимости и считать последние совершенными лишь для наступления известных последствий. Наконец, если выделить и последние случаи, т. е. случаи применения мнимых действий, то у нас останутся случаи применения фикций в тесном смысле. Если мы будем иметь в виду фикции в этом тесном смысле, то должны будем поставить рядом с ними только презумпции как прием, им родственный. Мнимые действия, а также некоторые случаи употребления символов и символических действий будут интересовать нас тогда лишь как отдельные случаи применения фикций. Таким образом, получается тот вывод, что нет основания и невозможно употреблять выражение «юридические фикции» в обширном смысле и что оно должно иметь лишь тесный смысл.
§ 11. Классификация Дюмериля. Ее недостатки
Ранее чем прийти к окончательному решению вопроса о том, что надо разуметь под юридическими фикциями в обширном и тесном смысле, познакомимся с попыткой решения этого вопроса в упомянутой выше статье французского ученого Дюмериля. Этот автор, обозревая все указанные явления юридического быта, не исключая действий символических и мнимых и прилагая ко всем им одинаковое название «фикции» <1>, выделяет прежде всего в особый класс символы и символические действия под названием фикций материальных, которым противополагает все остальные фикции как интеллектуальные <2>. ——————————— <1> См. выше: прим. на с. 7. <2> Dumeril. Les fictiones jurudiques. P. 6 и 7.
Это деление, очевидно, заимствовано автором из цитированного выше сочинения Шассана, который, как мы уже знаем, под материальными фикциями разумеет лишь эмблемы, реальные символы <1>. ——————————— <1> См. выше: с. 8.
Фикции интеллектуальные Дюмериль подразделяет на: a) легальные, т. е. созданные законом; b) судебные — имеющие применение на суде и c) внесудебные, т. е. применяющиеся в сделках частных лиц <1>. Таким образом, в основании этого деления взята автором не сущность, не внутренняя сторона классифицируемых явлений, а чисто внешние признаки их. А так как под интеллектуальными фикциями вообще Dumeril разумеет и фикции в том собственном смысле, в каком этот термин употребляется у Мейера и у других юристов, а равно предположения, скрытные, притворные и мнимые действия, то понятно, что упомянутая классификация интеллектуальных фикций способна ввести значительную путаницу и в терминологию, и в установившиеся понятия. Уже одно то, что слово «фикция» придется, следуя Дюмерилю, употреблять, во-первых, для обозначения фикций вообще, затем, во-вторых, для обозначения фикций интеллектуальных, а в-третьих, для обозначения фикций в собственном смысле, представляется довольно неудобным. Неудобства становятся еще яснее в дальнейших принимаемых автором подразделениях. ——————————— <1> Dumeril. Les fictiones jurudiques. P. 7, 10 et 18.
Между легальными фикциями он различает, во-первых, такие, в которых законодатель прибегает к уподоблению, чтобы короче выразить, что он приравнивает новый случай к случаю уже предвиденному, подводит под прежнее право правило нового права, например дает те же права усыновленному, как и сыну законному, объявляя, что первый будет считаться законным. Во-вторых, такие, где закон устанавливает предположение, допускающее или не допускающее, смотря по обстоятельствам, доказательства противного. В-третьих, как особый вид легальных фикций автор выделяет создание законом юридических лиц. Таким образом, к категории легальных фикций автор относит не только фикции в собственном смысле, но и презумпции. Относительно подразделения легальных фикций на указанные три класса автор сам оговаривается в примечании, что, «строго говоря, без него можно обойтись, так как и второй, и третий классы также могут быть сведены к первому» <1>, ибо в обоих последних классах также имеет место уподобление (!). Автор допускает, что не только можно слить в один класс с фикцией усыновления фикцию юридической личности, но что в этот же класс пойдут и законные презумпции. Лучше, однако, замечает автор, держаться указанного нами подразделения. Почему это лучше, этого автор, к сожалению, не находит нужным разъяснить. ——————————— <1> Dumeril. P. 8, 9 (not. 1).
К судебным фикциям автор относит, во-первых, те случаи мнимых действий, при которых сторонам приходится прибегать к помощи фиктивного процесса (in jure cessio); а во-вторых, известные actiones fictitiae преторского права и одинаковые с ними по характеру фикции английского процессуального права. Судебные фикции он называет опять-таки фикциями par excellence, т. е. в тесном и собственном смысле <1>. Это уже четвертое значение, в котором автору приходится употреблять слово «фикция». ——————————— <1> Ibid. P. 10 — 15.
Говоря об отличиях легальных фикций от судебных, автор указывает на следующие характеризующие те и другие судебные черты: «Легальная фикция вводится законодательною властью и не имеет целью обхода закона, так как она сама закон. Эта фикция предписывается раз и навсегда. В некоторых исключительных случаях, т. е. при презумпциях, она допускает доказательство противного. Судебная фикция, напротив, имеет своею целью непременно обход закона или расширение его действия; она применяется судом или вообще учреждением (corps), имеющим известный авторитет, но не законодательной властью; она может перейти в обычай; пользование ею может быть уступаемо всегда при наличности тех же обстоятельств; несмотря на это она должна быть воспроизводима всякий раз, как представляется новое дело. Наконец, она не допускает доказательства противного». «Самая сущность судебной фикции состоит в том, чтобы безнаказанно насиловать истину» <1>. Эта характеристика никоим образом не может быть признана удачной; она только довольно рельефно выставляет недостатки принятой названным автором классификации фикций. Не говоря уж о том, что ошибочным и крайне неудобным представляется слитие в один класс фикций и презумпций, существенное различие между которыми не подлежит сомнению, неосновательным оказывается и представление автора о различии между установляемыми им классами фикций. Так, автор не замечает, что многие по крайней мере из называемых им судебными фикций, например мнимые действия, если и не введены прямо законом, во всяком случае получили в нем признание и стали законной формой актов, к которым применялись. Претором созданные формулы фиктивных исков также суть в сущности правила преторского права и должны быть приравнены к предписанию закона. Они создавали во всяком случае новые институты права. Припомним создание бонитарной собственности и bonorum possessionis. Об этой правосоздающей роли претора автор забывает. ——————————— <1> Ibid. P. 15.
Если к судебной фикции приходится вновь прибегать при каждом новом деле, то и к легальной фикции усыновления приходится прибегать при каждом случае установления фиктивного родства. Раз возникшее при помощи фикции, bonorum possessio продолжало существовать так же, как и усыновление. Если первое может быть отнято в известных случаях указанием на его незаконность, то и второе может быть уничтожено этим же путем. Конечно, фикция, употребляемая в процессе с известною целью, не распространяется за пределы этого процесса: иностранец, обсуждаемый в процессе как римский гражданин, не обсуждается как таковой помимо этого процесса. Но ведь и всякая фикция не выходит за пределы, указываемые преследуемой при ее помощи целью. Общество, признанное юридическим лицом, не во всех отношениях приравнивается к лицу физическому; усыновленный, особенно при adoptio minus plena, также не во всех отношениях обсуждается как сын законный. Разумеется, раз известное общество признано юридическим лицом, нет уже надобности каждый раз вымышлять вновь его юридическую личность при каждом совершаемом его органом акте; а для иностранца приходилось в каждом новом процессе, который он начинал, вымышлять право гражданства; но это различие, очевидно, вытекает из различия между самими целями, преследуемыми указанными фикциями, а никак не из того обстоятельства, что первая есть создание законодательной, а вторая — судебной власти. Наконец, утверждение автора, что легальная фикция не есть обход закона, тоже неосновательно. Фикция усыновления, относимая Дюмерилем к легальным, несомненно, имела целью обход закона, основывавшего родственные отношения исключительно на кровной связи. Фиктивный процесс о свободе при отпущении на волю раба вовсе, наоборот, не имел целью в чем-либо обойти закон. Да и при многих фиктивных исках имелся в виду не обход закона, а лишь расширение его действия. Последнюю цель преследуют и фикции, называемые автором легальными. Таким образом, установленное Дюмерилем различие между фикциями судебными и легальными не выдерживает критики. К третьему классу, к фикциям внесудебным, автор относит, во-первых, те мнимые действия, которые не вошли в класс фикций судебных, например манципацию, а во-вторых, действия притворные. При этом автор сам указывает, что все отличие мнимых действий, отнесенных к фикциям судебным, от внесудебных фикций лишь в том, что первые имеют место в присутствии магистрата <1>. ——————————— <1> Id. С. 18, 19.
Из всего сказанного легко понять все неудобство данной Дюмерилем классификации. Держась ее, приходится явления, тождественные по своему внутреннему содержанию и значению, разбивать на разные классы, а явления, различные по сущности, соединять в один класс по чисто внешним признакам. Вот почему, соглашаясь вполне с упомянутым сейчас автором относительно необходимости классифицировать все подводимые под понятие фикций в обширном смысле явления юридического быта и установить относительно них точную терминологию, мы не можем принять предлагаемой им классификации и терминологии и предпочитаем в этом отношении ближе держаться Мейера, внеся лишь некоторые необходимые видоизменения и дополнения в указанные последним категории явлений юридического быта, имеющих связь со случаями применения фикций. Приведем для сравнения классификацию фикций, данную Дюмерилем <1>, и указанное нами перечисление ненормальных явлений юридического быта, в которых иногда по тем или другим основаниям усматривают родство с фикциями. ——————————— <1> Id. С. 20.
Классификация Дюмериля: фикции. I. Фикции материальные (символы): 1) законодательные: a) уподобление; b) законные презумпции: — допускающие доказательство противного; — не допускающие доказательства противного; c) фикции юридической личности. II. Фикции интеллектуальные: 1) судебные: a) мнимые действия; b) фикции в собственном смысле; 2) внесудебные: a) мнимые действия внесудебные; b) симуляции: — дозволенные; — недозволенные. Видоизмененная классификация Мейера: 1) фикции; 2) презумпции; 3) символы и символические действия; 4) притворные; 5) мнимые действия и 6) фидуциарные сделки <1>. ——————————— <1> Упоминалось уже, что некоторые из этих категорий явлений юридического быта допускают дальнейшие подразделения.
Хотя классификация Дюмериля и не может быть никоим образом названа удачной, но нельзя не обратить внимания на то обстоятельство, что она обнимает все те же именно явления, которые рассмотрены нами выше. Разница только в том, что Дюмериль не выяснил так определенно объединяющего признака рассматриваемых им явлений, как это сделал Мейер. Дюмериль выставил другой признак, а именно он понимает под фикцией в обширном смысле противоречащее действительности принятие факта или качества, рассчитанное на достижение известных юридических последствий. Признак этот не совпадает вполне с установленным Мейером, и под него не подходят некоторые из относимых Дюмерилем к фикциям явлений (например, praesumptiones juris). Тем не менее этим автором рассматривается одна и та же область явлений, что и нами, и пределы ее указываются одинаково с теми, которые мы выше установили. Дюмериль не говорит о фидуциарных сделках, но эти последние, смотря по взгляду на их сущность и значение, можно или отнести к мнимым действиям, или наконец вовсе исключить их из указанного рода явлений. Мы уже говорили, что не будем относить все эти явления к случаям применения юридических фикций, так как на это нет никаких оснований. Повторим еще раз, что под юридической фикцией мы разумеем лишь прием, употребляемый в объективном праве и в юриспруденции и состоящий в признании существующим несуществующего, и обратно.
§ 12. Обзор литературы о фикциях в тесном смысле. Заключение
То определение понятия юридических фикций в тесном смысле, которое, по нашему мнению, вполне соответствует сущности приема, носящего это название, далеко нельзя, как мы уже упоминали, назвать бесспорным. Хотя специальная литература о юридических фикциях в собственном смысле и очень небогата, однако в разное время различными авторами высказано немало разнообразных мнений относительно сущности и значения фикций <1>. Первой по времени заслуживающей упоминания работой, посвященной вопросу о фикциях, является небольшая статья Людена в Weiske’s Rechtslexicon <2>. Этот автор справедливо указал на целесообразность совместного, так сказать, обсуждения вопросов о фикциях и презумпциях. Сущность фикций Люден видит в том, что «по законному предписанию при известных обстоятельствах факт, который в действительности не наступил, принимается за наступивший для того, чтобы к случаю, в котором имеет место фикция, получило применение то юридическое последствие, которое законы, собственно, и определяли только на случай, когда вымышленное событие действительно имело место». ——————————— <1> Относительно старой литературы о фикциях см.: Demelius. Die Rechtsfiction in ihrer geschichtlichen und dogmatischen Bedeutung. С. 83 (прим. 1). <2> Rechtslexicon fur juristen alter deutschen Staaten etc., red. von Dr. Julius Weiske, Bd. IV, 1894, 5. С. 275 — 280.
На это определение довольно часто нападали, и оно действительно не может быть названо удачным уже по той причине, что юридическая фикция употребляется, несомненно, не только с тою целью, на которую указывает Люден, и сам определяемый прием не состоит непременно в признании со стороны закона наступившим события ненаступившего. Достаточно указать на фикцию юридической личности, чтобы выставить на вид ошибочность люденовского определения юридических фикций. Равным образом и процессуальные фикции преторского права направлены не на принятие наступившим события ненаступившего, а на признание существования у данного лица или отношения такого качества, свойства, которое необходимо признать для применения к этому лицу или отношению существующих юридических определений. Помимо этого, в указанном определении фикции недостаточно ясно отличены от предположений. Определение понятия последних, данное Люденом, также неправильно. Он разумеет под презумпцией законное принятие доказанным факта, который по обыкновенным правилам о приведении доказательств не может быть принят за таковой, а лишь за вероятный. Некоторые авторы определяли фикцию как «принятие неслучившегося или не имеющегося в наличии за наличное, чтобы без вреда для юридической последовательности применять старое право к новым отношениям» <1>. Подобное определение, во-первых, может относиться только к историческим фикциям, а во-вторых, и оно не отличает ясно фикции от предположений. ——————————— <1> Muhlenbruch. Pand. I, § 83, S. 169; ср.: Savigny. Vom Beruf unsrer Zeit fur Gesetzgebung etc., 1840, 3. Aufl., S. 32: «Entsteht eine neue Rechtsform, so wird dieselbe unmittelbar an eine alte, bestehende angeknupft, und ihr so die Bestimmtheit und Ausbildung derselben zugewendet. Dieses ist der Begriff der Fiction, fur die Entwicklung des Romischen Rechts hochst wichtig und von den Neuern oft lacherlich verkannt».
Несколько очень оригинальных и хотя весьма вычурным слогом, но горячо и талантливо написанных страниц посвятил учению о фикциях покойный лейпцигский профессор Кунтце в одной юношеской еще работе <1>. Над чрезмерной вычурностью слога <2> Кунтце много смеялись, особенно подхвачена была и на разные лады повторялась и извращалась в укор автору фраза о «damonischen Walten in dem wundersamen Reiche der Fictionen», но тем не менее многим из того, что высказано было им, позднее воспользовались. Так, ему принадлежит указание на существующее различие между фикциями с догматической функцией и фикциями, имевшими целью лишь вспомоществование историческому развитию права. ——————————— <1> Kuntze. Die Obligation und Singularsuccession, 1856. <2> В качестве образчика этого слога, много помешавшего успеху высказанных в цитированной сейчас книге мыслей, приведем следующее место из нее (с. 88, 89): «Die pratorischen Fictionen blitzen auf von Tribunal des Magistrats, gleich den Wettern, in denen die Natur sich entladet, um den aufbrechenden Lenz auf die Gefilde zu locken und die aussetzende Bluthe zur Frucht zu zeitigen; sie erinnern an die Donnerkeile des Olympischen Zeus, der mit ihnen bewaffnet vom Throne der Allmacht herab die Welt in ihren Augeln bewegte und die schwere Atmosphere reinigte, denn das Tribunal des Prator ist der Olymp des romischen Rechtslebens, das unter der neuen Herrschaft von der Muhsal titanischer Urzeit erlost wird. Sie reihen sich nicht den frei organischen Gebilden der Natur ein, sondern gleichen den Ausbruchen der Vulkane, oder dem Voruberrauschen der Orkane und werden als entbehrliche Hulsen abgestreift, wenn der in ihnen grossgezogene Rechtsgedanke zur Reife gedichen ist, um durch eigene Energie seinen Platz in dogmatischen Bau zu behaupten; sie sind die beweglichen schwirrenden Bienen, welche regsam und fleissig die Bluthenfulle des gesunden Baumes umschweben und sich festsangend von dem Safte trinken, als seien sie organisch mit der Bluthe verwachsen. Es ist Tauschung». Разумеется, не все сочинение написано в самом высоком стиле. Подобные напыщенные тирады, встречающиеся по местам и в позднейших сочинениях этого год тому назад скончавшегося автора, были с его стороны невольной данью его действительно поэтическому настроению, которое ему, несомненно, наш взгляд, было присуще очень часто и благодаря которому отчасти его лекции слушались с большим интересом. С удовольствием вспоминаю два семестра 1882 г., проведенные в аудитории покойного профессора в Лейпциге. И лекции, и оживленные беседы с лектором на дому убедили меня как в глубоких познаниях самого лектора, так и в том, что сильно развитое воображение было отличительным свойством этой богато одаренной натуры. Естественно сдерживаемое при строгом изложении юридических определений поэтическое одушевление прорывалось иногда невольно у Кунтце наружу. Тогда он давал волю своему воображению, и оно легко выходило за общепринятые в науке пределы. Это обстоятельство много вредило успеху сочинений покойного ученого, особенно вне Германии; а между тем это был несомненно один из наиболее видных представителей немецкой юриспруденции второй половины истекающего столетия — один из представителей того поколения немецких ученых, которое ранее и прочнее прусских солдат и крупповских пушек создало истинное величие Германии. Пусть извинят мне читатели эту дань памяти человека, которому я обязан и как учителю, и как радушному хозяину, всегда ласково принимавшему приезжавших в Лейпциг учиться и работать иностранцев.
Юридическую фикцию вообще Кунтце определяет как юридическое принятие факта в противоречии с действительностью. Функция догматической фикции, по его мнению, состоит в том, что она представляет собою в системе права, так сказать, спайку или соединительное звено (systematisches Gelenck) для чрезвычайных юридических правил, т. е., говоря иначе, Кунтце видит в догматических фикциях средство или орудие для приведения в систему правил, без посредства «принятия противоречащего действительности факта» в эту систему не укладывающихся. В остальных же фикциях Кунтце усматривает лишь орудия исторического развития права. От этих взглядов почтенный ученый не отказался и много позднее, изложив их сжато и стройно в своем позднейшем сочинении «Excurse uber romisches Recht», где он рассуждает так: задача права — быть порядком жизни, а жизнь состоит из действительных фактов, и поэтому право имеет собственно дело лишь с фактическими происшествиями, состояниями и отношениями. Однако право вследствие того, что оно имеет тенденцию складываться из себя самого в систему, не может всюду и во всякое время вполне поспевать за фактическими явлениями. Тогда наступает в праве как бы состояние крайней необходимости, в котором дозволительно прибегать к чрезвычайным мерам. Такими мерами и являются, по словам автора, фикции и презумпции: «Фикция есть юридическое принятие факта (положительного или отрицательного) в противоречии с действительностью с целью создать искусственным путем историческое или догматическое основание для известных юридических правил, которые требуются с точки зрения справедливости (aequitas) или пользы (utilitas), но не могут быть обоснованы средствами доселе действующего права». «Презумпция есть юридическое принятие факта (положительного или отрицательного) в случае сомнения и впредь до доказательства противного. Юридическая презумпция есть правило объективного права, которое указывает, что при известных обстоятельствах данный факт должен быть принимаем за действительный, пока не приведено полного доказательства противного. Середину между фикциями и презумпциями образуют praesumptiones juris et de jure» <1>. ——————————— <1> Kuntze. Excurse uber romisches Recht, 2. Aufl., 1880. S. 460, 461.
Против этих взглядов, изложенных Кунтце еще в его чуть ли не первой более значительной работе, высказался австрийский юрист Бергер <1>. Этот ученый видит функцию фикций не в принятии факта как такового в противность действительности, а в принятии известного юридического качества для данного фактического состава, лишенного этой квалификации <2>. При этом сам фактический состав (субстрат) может потерпеть изменения; возможно, что для достижения цели, которой служит фикция, понадобится изменить какой-либо момент фактического состава в противоречии с действительностью. «Однако, — заключает Бергер, — модификация фактического состава есть только побочное последствие фикции, а не главная ее цель» <3>. ——————————— <1> Berger. Kritische Beitrage zur Theorie des osterreichischen allgemeinen Privatrechts, Wien, 1856. VII. S. 67 — 95. <2> Berger. S. 81: «Ueberall also ist der wesentliche Kern der Fiction nicht in der Annahme einer der Wirklichkeit widersprechenden Thatsache, sondern vielmehr nur in der Ideirung einer juristischen Qualitat fur ein Thatsachliches Substrat zu finden, dem eine juristische Qualitat nicht zukommt». <3> Ibid.
Заметить надо, что, подобно Людену и Кунтце, Бергер приводит понятия фикций и презумпций в тесную связь, хотя и расходится в самом определении этих понятий. Путь, которым он устанавливает оба этих понятия, очень оригинален. Прежде всего он справедливо замечает, что напрасно относят учение о фикциях и презумпциях в область процессуального права и что место этого учения в материальном праве, и именно в учении о законе. Фикции, презумпции и диспозиции исчерпывают, по мнению Бергера, все возможные формы законов. Всякий закон, по правилу, связывает с определенным фактическим предположением (Voraussetzung), которое можно назвать фактическим составом закона, правовое распоряжение, правило права. В этом состоит существенное свойство, нормальная функция законов. Юридические определения, называемые презумпциями и фикциями, составляют исключение из этого правила. При презумпции исключение это состоит в том, что с известным фактическим составом закон связывает не регулирующее его правило, не юридическую норму, а предписание, гласящее, что из наличности этого состава должно следовать принятие существования другого факта, причем такой вывод может быть сделан на основании закона причинности путем аналогии или индукции. Презумпция поэтому есть, по определению Бергера, законом установленное, под условием бытия определенного факта, принятие существования другого факта (по основаниям вероятности). Фикция, по словам Бергера, также имеет известный фактический субстрат, но она не имеет никакого дела с выводом из наличного фактического состава другого факта на основании вероятности, а также и не выражает правовой нормы для фактического состава, а устанавливает для известного фактического субстрата юридическое значение, которое само по себе этому субстрату совершенно не подходит <1>. ——————————— <1> Ibid.
Справедливо вполне было указано одним из критиков Бергера, что этим его рассуждениям недостает фундамента, т. е. им не предшествовало ни изучение исторической роли фикций, ни даже исследование определяемых им явлений по положительным законодательствам. Его суждения основаны на одних чисто логических операциях. Отсюда неправильное представление о презумпции как о заключении, основанном на вероятности; отсюда же неправильный взгляд на презумпции и фикции как на исключения из нормального содержания законов и совершенно ошибочное троякое деление законов на презумпции, диспозиции (юридические предписания в собственном смысле) и фикции. Несомненно, что всякий закон придает фактам юридическое качество, и юридические определения, содержащие презумпции или фикции, не составляют в этом отношении исключения. Определение закона, что при совместной гибели отца и детей совершеннолетние дети считаются пережившими отца, а несовершеннолетние — умершими раньше его, есть также юридическая норма, связанная с известным фактическим составом и регулирующая его, как и всякая другая норма. Если от других норм презумпция отличается содержанием, то по содержанию все нормы отличаются одна от другой. Что же касается даваемого Бергером определения фикций, то в нем представляется неясным выражение, что «закон придает фактическому субстрату юридическое качество, которое само по себе ему не принадлежит». Пока закон не придает факту юридической квалификации, она сама собой принадлежать ему не может, и с этой точки зрения под бергеровское определение фикций подошел бы всякий закон. Мы не станем останавливаться здесь на дальнейшем изложении мыслей Бергера, предоставив себе изложить и разобрать их подробнее в следующих частях нашей работы, когда для правильной оценки этих мыслей мы будем иметь на руках больше данных. Заметим только, что многое из того, что высказано Бергером, нам кажется заслуживающим внимания. Так, бесспорно, правильно то заявление Бергера, что учение о фикциях и презумпциях должно быть относимо в область не процессуального, а материального права; равным образом нам кажется вполне основательным так часто оспариваемое и признаваемое неправильным стремление Бергера понять фикции и презумпции как явления родственные и рассмотреть их как таковые совместно. Двумя годами позже указанного сочинения Бергера появился труд Демелиуса <1>, представляющий собою единственную специальную монографию о юридических фикциях в немецкой литературе последней половины этого столетия. ——————————— <1> Demelius. Die Rechtsfiction in ihrer geschischtlichen und dogmatischen Bedeutung, 1858.
Демелиус приписывает появление в римском праве юридических фикций влиянию жрецов, которые ранее в сфере религиозно-обрядовой создали правило: «In sacris simulata pro veris accipiuntur» <1>, а потом перенесли это правило в область права, причем соединительным звеном, так сказать, являлась, по мнению Демелиуса, фикция усыновления <2>. Сообразно этому сущность фикций вообще и в частности фикций юридических, по мнению Демелиуса, состоит в уподоблении или, вернее, в приравнивании того, что фактически существует, к тому, чего в действительности нет налицо в данном случае, но что бывает и юридически нормировано уже ранее. Вымысла, по взгляду Демелиуса, нет ни при религиозно-обрядовых фикциях, в которых мы видим симуляцию жертвы, ни в фикциях юридических <3>. Жрецы вовсе не стремились к тому, чтобы восковая или пряничная фигура животного, приносившаяся богам в жертву, принималась за настоящее жертвенное животное; подобно тому и в юридических фикциях речь идет не о том, чтобы дать несуществующему факту действительное или юридически вымышленное бытие <4>. Все формы проявления фиктивной мысли в римском праве, говорит цитируемый автор, могут быть характеризуемы как нормы права, посредством которых фактическое отношение при помощи приравнивания его к другим, юридически нормированным обращается в юридическое отношение и приравнивается в своей юридической природе и в действии (т. е. в последствиях) к своему образцу и обозначается как подобное <5>. Но при этом надо различать, по указанию Демелиуса, фикции в римских законах (leges) и исковых формулах, облекавшиеся в определенную форму выражения (в законах: «siremps», «perinde habetur ac si»; а в формулах: «si — esset», «tum si — oportet»), и фикции в императорских указах и сочинениях юристов, которые могут быть открываемы и указываемы лишь путем толкований <6>, вследствие чего ныне каждый раз там, где находят фикцию, идет непременно спор о ее существовании или несуществовании <7>. Демелиус горячо восстает против применения фикции как средства юридической конструкции, чем до того сильно злоупотребляли немецкие юристы <8>. В этом неоспоримая заслуга его сочинения. Далее, однако, Демелиус оказывается непоследовательным. ——————————— <1> Это правило Демелиус находит выраженным у комментатора Вергилия Сервия (Serv. ad Aen., II, 116: «Virgine causa non vere, sed ut videbatur; et sciendum in sacris simulata pro veris accipi…»; IV, 512: «in sacris ut diximus, quae exhiberi non poterant, simulabantur et erant pro veris»). <2> Demelius, op. cit. § 4. S. 25 fg. <3> Ibid. § 5. S. 37 — 38. <4> Ibid. S. 39. <5> Ibid. S. 75 и 76. <6> Ibid. S. 76. <7> Ibid. S. 78. <8> Ibid. S. 79.
Присоединяясь, с одной стороны, к мнению Кэпнена и Виндшейда, что фикции не могут быть не чем иным, как техническим выражением для положительных предписаний права <1>, и стремясь доказать, что уже в римских законах и исковых формулах фикции сделались лишь средством юридической терминологии, что в настоящее время тем более без надобности повторять приемы жрецов и авгуров для спасения нашей юридической догмы <2>, в то же время Демелиус заявляет, что вовсе не думает отказывать фикциям в очень большом значении и отрицать нужду в употреблении фикций даже для современной науки <3>. На эту непоследовательность не раз позднее указывали как противники, так и защитники юридических фикций. ——————————— <1> Ibid. S. 80. <2> Ibid. S. 81. <3> Ibid. S. 81 и 82.
Время появления этой монографии Демелиуса можно считать поворотным пунктом в истории отношения германской юриспруденции к фикциям. До этого времени юристы охотно прибегали к помощи вымысла и охотно отыскивали фикции в источниках, причем, с другой стороны, каждая найденная кем-либо в источниках фикция оспаривалась другими юристами. Достаточно припомнить читателям в этом отношении хотя бы бесконечные споры о фикции личности в лежачем наследстве или вспомнить фикцию поручения при negotiorum gestio, фикцию исполнения договора в случае, когда последнее сделалось невозможным без вины лица обязанного, и т. д. и т. п. Демелиус с полным правом мог сказать, что «очень мало оставалось такого, что не должно бы было вымышляться». Юристы как будто соперничали между собою в отыскании и создании новых фикций <1>. ——————————— <1> Ibid. S. 78 (Anm. 7).
Около времени выхода книги Демелиуса как-то разом оканчивается та пора, когда «волшебное слово fingirt служило юристам паспортом для выхода за пределы всех правил здравого рассудка», а начинается в науке все усиливающееся стремление к устранению излишних вымыслов и даже к окончательному изгнанию фикций из области права. Бринц еще до выхода монографии Демелиуса в предисловии к первому изданию своих Пандект заявил, что в учении о лицах он не говорит о лицах, юридических на таком-то основании, на каком естественная история не причисляет огородное пугало к людям, хотя оно также должно изображать собою лицо <1>. Демелиус поспешил согласиться с этим заявлением и, оспаривая слова Кунтце, что «фикции суть соединительное колено для приведения в систему исключительных правил», заявил, что Бринц сломал одно такое колено, вычеркнув из ряда лиц юридическое лицо, как «огородное пугало». Юридическое лицо нашло, однако, скоро своих «защитников» <2>: за и против «огородного пугала» было поломано немало копий, вернее, иступлено перьев и пролито чернил. За юридическим лицом настала очередь других догматических фикций. В два десятилетия учебники римского права освободились от тех из них, которые были только произвольными измышлениями их изобретателей. В желании изгнать из системы права все не соответствующее действительности и придать юридической науке исключительно реальное, так сказать, содержание зашли так далеко, что, не удовольствовавшись вычеркиванием отдельных фикций (юридического лица, лежачего наследства, усыновления и т. п.), стали требовать устранения всех вымыслов в области права. Раскрытие и указание Иерингом причин появления фикций в римском праве (причем, как известно, он разошелся с Демелиусом во мнении относительно их происхождения и исторической роли), скорее, дало толчок к тому, чтобы признать за ними лишь одно историческое право, хотя сам Иеринг не отрицал еще совершенно необходимости их и для современного права. Сравнение фикций с клюшками, на которые вынуждена опираться не умеющая еще ходить на собственных ногах наука, должно было вызвать, естественно, желание скорее стать на свои ноги и показать всем, что клюшки уже излишни. ——————————— <1> Brins. Pandecten I, Aufl. 1857, Vorrede. S. XI. <2> Demelius. Op. cit. S. 85. См. также рецензию Арндтса на это сочинение в: Kritische Vierteljahrsschrift, Bd. I, 1859. S. 93 — 104.
Начавшееся в области материального права, это движение довольно долго не касалось науки гражданского процесса, где фикции продолжали еще иметь широкое применение. Энергичным противником применения их здесь выступил известный процессуалист Бюлов, напечатавший в 1879 г. обратившую на себя общее внимание в среде немецких юристов статью под заглавием «Civilprocessualische Fictionen und Wahrheiten» <1>. Принимая указанное Демелиусом объяснение происхождения фикций и по странному недоразумению объединяя мнение последнего с мнением Иеринга, не забыв усмехнуться по поводу «иллюзий относительно демонической власти фикций», Бюлов, однако, спешит признать, что фикции, т. е. привлечение на помощь воображения и принятие того, что не случилось, за случившееся, несуществующего за существующее, может быть удобным орудием в руках законодателя, давая последнему возможность посредством краткого указания распространять связанные с известным фактическим составом правовые последствия также и на другой фактический состав, избавляя его при этом от труда повторять все предписания, изданные и образовавшиеся для первого <2>. И не только законодательно фикция облегчает и упрощает его задачу, она, по словам Бюлова, полезна и судье, так как сведенный благодаря ей к меньшему объему сборник законов легче обозреть и так как фикция облегчает для судьи переход от известного к неизвестному. «Она, как всякая притча, как каждая, хотя бы даже грубая, спекуляция на свойственную человеку силу воображения, имеет свойство закреплять впечатления отвлеченных сообщений и возвышать живость представления. Законодательству фикция служит как аппарат для упрощения и пояснения (Vereinfachungs — und Veranschaulichungsapparat)». Но такое значение фикция имеет лишь для законодательства, а не для науки. Для последней каждая фикция, по словам Бюлова, является явным напоминанием необходимости открыть и обосновать истинное фактическое и юридическое отношение, которое сокрыто признаком неправды. Каждая фикция есть неразрешенная проблема и сама представляется как таковая. «Короче, — говорит Бюлов, — имеет смысл и полезно, когда закон или подобный закону орган выставляет фикции. Научная же или так называемая догматическая фикция есть contradictio in adjecto, самообман, даже банкротство науки»! <3> ——————————— <1> Bulow. Civilprocessualische Fictionen und Wahrheiten, Arch. fur die civ. Praxis, Bd. 62, 1879. S. 1 — 96. <2> Ibid. S. 4 и 5. <3> Ibid. S. 6 и 7.
Указав затем на начавшуюся по почину Бринца и успешно идущую работу очищения от фикций науки гражданского права, Бюлов предпринимает такую же работу для науки гражданского процесса, где действительно в этом представлялась надобность. Ниже мы будем иметь случай познакомиться с результатами этой работы Бюлова и с вызванными ею возражениями <1>, здесь же нас интересует лишь общий взгляд автора на сущность юридических фикций и их значение в праве. Спрашивается: как примирить признание не только возможности, но даже полезности фикций в законодательстве с полным изгнанием их из науки права? Ведь наука должна же передать содержание юридических определений, заключающих фикции? ——————————— <1> Мысли Бюлова об изгнании фикций из науки гражданского процесса встретили некоторые возражения со стороны Леонгардта и Ваха.
На этот вопрос Бюлов не дает ответа. Он только горячо старается, во-первых, снять с законодателя обвинение в том, что, допуская фикции в законе, он вносит их этим самым и в юриспруденцию, а во-вторых, стремится доказать, что достоинство законодательства не страдает от того, что законодатель прибегает иногда к этому приему <1>, так как он при этом дает-де всегда ясно понять, что то, что он вымышляет и что судья должен себе представить как существующее на самом деле, не верно, но истинно, и законодатель далек от намерения заставить кого-либо в действительности верить тому, например, что молчавший говорил, а отсутствующий присутствует <2>. На этом основании Бюлов отказывается согласиться с Иерингом, определяющим фикцию как вынужденную техническую ложь <3>. ——————————— <1> Ibid. S. 7: «Конечно, законодатель, который стремится помочь себе при помощи вымысла, неповинен в том, что наука позволяет себе обманываться этим и соблазняться на то, чтобы выдуманное принимать на веру и верность как нечто действительное, в юридическом смысле существующее. Он столь же в этом неповинен, как автор драматического произведения или актер неповинен в том, что кому-нибудь придет в голову вообразить, будто представляемые на сцене исторические события происходят перед ним в действительности»! Очевидно, что автор неповинен будет в том, что кому-нибудь вздумается принять все это его рассуждение за серьезное доказательство; но зато и юриспруденция не виновата в том, что автору вздумалось приписать ей такое странное поведение, какое он ей приписывает. <2> Ibid. S. 8. <3> Ibid. S. 8 (Anm. 7).
Итак, законодатель, по мнению Бюлова, даже хорошо поступает иногда, выставляя фикции в интересах упрощения и уяснения, но юриспруденции позволять этот вымысел непозволительно: «Кто обращает законодательную фикцию в научную и думает, что законно выдуманное держится в области права как истинное и существующее, тот приписывает законодателю власть и вольное намерение делать неслучившееся случившимся и несуществующее существующим» <1>. И, по мнению Бюлова, подобную нелепость часто позволяла себе наука, которая слишком с большим доверием и готовностью усвоила будто бы себе бесчисленные фикции не в смысле простого повторения законом употребляемых оборотов речи и не в смысле средства, употребляемого с дидактическою целью, а в убеждении понять при их помощи и иметь возможность объявить и доказать, что факты несуществующие все-таки в области права существуют. И затем автор, конечно, жалуется, что такое отношение науки к законодательным фикциям, т. е. обращение последних в догматические, окутало таким густым туманом многие юридические истины, что не раз приходилось «отыскивать последние чутьем по следам». Одну только заслугу признает он за догматической фикцией, что она необыкновенно облегчает ученым придумывание значительных по объему юридических тем <2>. Эти мысли Бюлова в связи с его основательной попыткой очистить общий гражданский процесс в Германии от накопившихся в нем излишних фикций были встречены благосклонно в немецкой литературе. Известный юрист, профессор Kohler поспешил заявить о своем согласии с мнением Бюлова относительно полной ненужности догматических фикций <3>. «Золотое время миновало, — писал этот ученый. — От того времени, когда последствия деликта сводили то к действительной, то к мнимой воле участников его, когда утверждали, что преступник, если не в действительности, то фиктивно согласен на применение к нему наказания, наука ушла далеко. Последней областью, где продолжал в майской красе разрастаться иванов цвет фикций, оставалась область науки гражданского процесса, но Бюлов изгнал фикцию и из этой области». Этой указываемой Kohler’ом заслуги Бюлова мы не станем отрицать <4>, но вообще нападки Бюлова на догматические фикции нам не представляются удачными. Несколько раз читали мы и перечитывали цитированные сейчас страницы Бюлова и, признаюсь, только удивлялись, как можно было увидеть в них то, что некоторые увидели, а именно доказательство необходимости изгнания фикций из юриспруденции. Все приведенные рассуждения Бюлова, напротив, остаются недоказанными с начала и до конца. Во-первых, ничем не подтверждается заявление автора, что законодатель вводит фикции лишь как аппарат для упрощения и уяснения. Возможны случаи, когда фикция допускается законодателем совершенно с иною целью, без всякого намерения упрощать, а, напротив, с намерением утвердить в умах известную идею, воспитать известное чувство (например, чувство солидарности и крепкой связи между членами корпорации, чувство уважения к известному учреждению). Что такое, например, честь полка и награда полку? Разве это говорится только для упрощения понимания? Монастырю или городу жалуются известные угодья. Разве только для упрощения понимания в жалованной грамоте пишется, что угодья эти отводятся в собственность обители или города? Но, положим, мы согласимся, что фикции суть действительно только аппарат для уяснения и упрощения; тогда остается непонятным, почему науке нельзя воспользоваться этим аппаратом для своих целей. У Бюлова сложилось какое-то странное представление, что законодатель, вводя фикцию, открыто признает, что принятое им не соответствует истине, действительности, а наука, принимая эту же фикцию, непременно будто бы скрывает это несоответствие и старается всех уверить, что вымышленное истинно. Разумеется, толкуя предписание законодателя, вводящего или признающего фикцию, юрист может увлечься и пойти далее той цели, которую имел в виду законодатель, принимая фикцию, но от подобных увлечений и ошибок не гарантирован и сам законодатель, например при аутентическом толковании закона, а равно при издании новых законов и распоряжений, в которых ему приходится оперировать с ранее установленной фикцией <5>. ——————————— <1> Ibid. S. 9. <2> Ibid. S. 10. <3> См. рецензию этого автора на указанную статью Бюлова в: Krit. Vierteljahrsschrift fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, Bd. XXII, 1885. S. 355 fg. <4> См. выше: прим. 29. <5> Запрещение в византийском праве браков в духовном родстве и в родстве по усыновлению до тех же степеней, как и в кровном родстве, может быть приведено в пример подобного увлечения законодателя фикцией (Бердников. Краткий курс церковного права. 1888. С. 78 — 80).
Раз составлено и принято известное фиктивное представление, человеческому уму свойственно идти проторенным путем и применять это представление вообще в своих суждениях, заменяя им действительность. Это и есть главная опасность, представляемая фикциями вообще. Они легко овладевают умами и могут иногда заставить людей приходить к нелепым выводам и нелепым поступкам <1>. Замечание Бюлова, что «фантазия, издеваясь, мстит праву за ту игру, которую оно позволяет себе с ней», совершенно верно <2>. Но оно относится одинаково как к науке права, так и к законодательству. Стало быть, если уж изгонять фикции ввиду представляемой ими опасности для права, то надо изгонять их не только из науки, но и из кодексов. Это было бы по крайней мере последовательно. Так и поступил, между прочим, задолго до Бюлова Мейер, который именно доказывал, что фикции в законодательстве суть явление случайное, вызванное формализмом древнего римского права, что в настоящее время законодателю нет надобности прибегать к ним, так как они стали излишни и могут быть вредны, как вторжение в чуждую увлечений область права нежданного и незваного здесь, по мнению Мейера, гостя-воображения. Мнение русского ученого до известной степени обоснованно, и он старается доказать его, указывая на примерах, что там, где римское право (не только наука) прибегало к фикциям, можно достигнуть той же цели (т. е., по мнению Мейера, простого распространения правила с одного предмета на другой) без всякого вымысла. С Мейером можно не согласиться, можно доказывать, что он неправильно понимает происхождение, сущность и цель отрицаемого им приема фикций, но нельзя ни отказать ему в последовательности, ни обвинить его в бездоказательности мнений. Про Бюлова, как видит читатель, приходится сказать иное <3>. ——————————— <1> Эта опасность особенно велика, конечно, в обществах варварских, но и цивилизованные народы не гарантированы от нее. С другой стороны, сама привычка часто прибегать к приему фикций в области права может повести к нежелательным последствиям. <2> Бюлов не замечает, что этим своим заявлением он лишь подтверждает много просмеянное, несколько, может быть, напыщенное, но в сущности выражающее верную мысль заявление Кунтце о демоническом господстве фикций. <3> Вот почему мы считаем долгом указать на некоторое, на наш взгляд, недоразумение, вкравшееся в приложенный г. Гольмстеном к выпущенному им 6-му изданию «Русского гражданского права» Мейера очерк жизни и деятельности этого ученого. Говоря о сочинении Мейера «О юридических вымыслах и предположениях» и справедливо указав, что оно прошло в свое время у нас незамеченным, г. Гольмстен пишет: «То, что Мейер высказал в начале пятидесятых годов в далекой Казани, через тридцать лет снова открыто на Западе; например, взгляд его на фикцию всецело приписывается Бюлову». Приписывать можно, пожалуй, всякому, что вздумается; но несомненно, что взгляд Мейера на фикцию совершенно чужд Бюлову и что между мнениями обоих авторов слишком мало общего (ср.: Мейер. О юридических вымыслах и пр. С. 7 — 10 и 30, с приведенными выше взглядами Бюлова).
Но, разумеется, движение в пользу изгнания фикций в немецкой юридической науке не остановилось на подобных малодоказательных заявлениях о необходимости изгнания фикции из науки, удерживая ее в законодательстве. За и против фикций продолжают писать доселе, и все еще не условились, что надо понимать под фикцией. Так, недавно сравнительно было заявлено, что «фикция есть не что иное, как расширение одного правила права на факты, к которым оно первоначально не имело применения; подведение различных фактов под ту же норму права или уравнение различных фактов в правовом отношении». Это заявление Гольдшмидта <1> напоминает вышеприведенное определение Демелиуса и совпадает со взглядом покойного Д. И. Мейера, который писал: «В случаях вымысла, представляющихся в источниках римского права, мы усматриваем лишь обобщение известного правила, распространение его с одного предмета на другой» <2>. Из этого следует, что в случаях, когда говорят о применении фикций, на самом деле ничего не вымышляется. Это и заявляют как Демелиус, который прямо говорит, что в юридических фикциях нет вымысла <3>, так и Мейер, который после сейчас приведенных слов дальше пишет: «Как ни различны, может быть, эти предметы между собою, но оказывается, что некоторые черты в них общие, и именно те, которые собственно имеет в виду относящееся первоначально к одному предмету юридическое определение; поэтому, встречая их же в другом предмете, оно и его себе подчиняет. Итак, в отношении к данному правилу оба предмета действительно однородны, и не требуется вымысла, чтобы представить их таковыми» <4>. ——————————— <1> Goldschmidt. Kritische Beleuchtung der Uebergriffe der historischen Schule und der Philosophie in der Rechtswissenschaft, 1886. S. 31. <2> Мейер. С. 5. <3> Demelius. Die Rechtsfiction. С. 39. <4> Мейер. С. 6; ср.: Ihering. Geist III, 1, S. 310, где этот последний автор указывает, что уже классическая римская юриспруденция прибегала вместо фикции к аналогии.
К вымыслу, как мы видели, по мнению Мейера, власть законодательная вынуждена была прибегать в римском праве лишь для примирения формализма с требованиями действительной жизни. Но если отрицать само применение вымысла в тех случаях, когда говорят о юридических фикциях, то не только нет надобности, но и нельзя уже больше говорить о последних. Понимать сущность явлений, где применяются фикции, так, как понимают ее Мейер, Гольдшмидт или Демелиус, — это значит если не вовсе отрицать применение здесь фикций, как делает это Мейер, то сознательно или бессознательно ставить на место фикций что-то другое и прилагать к этому другому чуждое ему в сущности название фикций. Это и случилось с Гольдшмидтом и Демелиусом. Оба этих автора не замечают, что в своем определении юридических фикций они имеют в виду вовсе не случаи применения их, а те случаи, когда закон прибегает к приравниванию или уподоблению и создает по образцу одного, готового уже юридического понятия другое, аналогичное. Римскому праву этот прием был хорошо известен. И в нем он выражался обыкновенно словом quasi. С фикцией, т. е. представлением несуществующего существующим, или наоборот, этот прием не имеет ничего общего по существу, так как при применении его действительно ничего не вымышляется, но этот прием во многих случаях может служить той же цели, для достижения которой иногда прибегают и к фикции. Поясним это примерами. Для того чтобы усыновленный обсуждался в праве как сын усыновителя, возможны два пути: первый состоит в том, что акт усыновления вымышлено считают за акт рождения, стараясь возможно ближе подражать природе, а второй — в том, что, не вымышляя родства между усыновителем и усыновленным, обсуждают последнего по отношению к его правам в известных случаях одинаково с сыном законным. Древнеримское право знало первый путь, юстиниановское перешло уже ко второму, а византийское законодательство с введением церковного усыновления вернулось опять к первому. Другой пример. Чтобы обосновать ответственность negotiorum gestor’а за ведение дел отсутствующего можно было или вымыслить, что он состоит поверенным отсутствующего, или же, не прибегая к этому вымыслу, признать отношение в данном случае однородным, хотя и не тождественным с отношением, вытекающим из договора доверенности. Этим последним путем создались в римском праве не только quasi-контракты и quasi-деликты, но и многие иски с эпитетом quasi-. Так как создание фикций и образование quasi-понятия могли иногда вести к одной и той же цели, то и нередко, понятно, смешивали или, вернее, часто юристы не давали себе труда различать точно, который из данных приемов применен в известном случае правосоздающим органом. Замеченная возможность употребления вместо фикции другого приема для достижения той же цели и дает ныне основание утверждать, что прием фикций совершенно излишен и может быть с успехом заменен. Мейер первый, как мы уже знаем, указал на возможность обойтись без помощи вымыслов, а следовательно, и на ненадобность их в праве. Демелиус и особенно Гольдшмидт саму фикцию поняли так, что видят сущность ее в применении quasi-понятия. Наконец, Валлашек, указывая на это смешение Гольдшмидтом фикции и quasi-понятия и на отличительные признаки обоих этих приемов, подобно Мейеру, прямо говорит, что прием фикций излишен и что фикция всюду может быть заменена quasi-понятием. В доказательство возможности такой замены Валлашек приводит несколько примеров. Так, австрийский Гражданский кодекс 1811 г. в ст. 293 определяет, что вещи, сами по себе движимые, будут в юридическом смысле считаться за недвижимые, если они в силу закона или определения собственника составляют принадлежность недвижимой вещи. Позднейшие законы присоединили сюда передвижные судовые мельницы, палатки на базарах и паи в горнозаводском деле (Kuxe). Во всех этих случаях закон вводит фикцию, в которой совершенно нет нужды. Вместо того чтобы вымышлять для поименованных вещей свойство недвижимости, можно было только обсуждать их как недвижимые. На этом примере автор выясняет саму сущность фикции и quasi-понятия. Фикция, говорит он, во всяком случае не имеет силы преобразовывать фактические отношения. Эту силу имеют всегда только факты, но она делает так, как будто бы ей такая сила принадлежала. Quasi-понятие основывает одинаковое обсуждение различных случаев и различное — одинаковых на суверенитете законодательства; фикция же полагает, что такое обсуждение должно всегда выводить прежде всего из фактических обстоятельств и вымышляет поэтому то, что она желает иметь, но не находит в области фактов. Но именно из этого, по мнению цитируемого автора, ясно видно, как бесполезно прибегать к помощи фикций: фикция не может достигнуть именно того, чего она хочет, т. е. управомочия выводить юридическое правило из особого свойства фактического отношения, так как она не в состоянии создать именно это отношение <1>. ——————————— <1> Wallaschek. Studien zur Rechtsphilosophie. Leipzig, 1889. S. 137 — 140. Таким образом, не Бюлов, а Демелиус, Гольдшмидт, Иеринг и Валлашек, из русских авторов — г. Муромцев — вот писатели, о большей или меньшей близости которых к Мейеру по взглядам на сущность и современное значение юридических фикций можно говорить. Это примечание для почтенного А. Х. Гольмстена. Мнение Валлашека, что законодателю нет надобности прибегать к фикции, так как цель, с которой она применяется, легче достигается с помощью quasi-понятия, ближе всех других к мнению Мейера. Исторически quasi в юридических конструкциях римской юриспруденции императорской эпохи играло ту же роль, как фикции в праве преторском (см.: Kuntze. Excurse. S. 384, 385).
Сочинение Валлашека представляет собою, таким образом, крайний пункт, которого достигла немецкая юриспруденция в отрицании фикций. Для того чтобы доказать справедливость мнения этого автора о возможности и удобстве замены всех юридических фикций при помощи quasi-понятия, надо было обратиться к рассмотрению в отдельности всех случаев применения фикций в положительных законодательствах, чего Валлашек не мог сделать уже потому, что сам вопрос поднят им не в специальной монографии, а в кратком курсе философии права. Два-три удачно выбранных примера, из которых особенно обращает на себя внимание попытка прибегнуть к quasi-понятию для объяснения правоспособности юридических лиц <1>, хотя и достаточны для пояснения мысли автора, но еще не достаточны для полного убеждения в ее справедливости. В этом отношении заслуживает большого внимания перечисление и разбор случаев применения юридических фикций у Мейера. Просматривая приведенные этим последним примеры, мы видим, однако, что для объяснения излишества в них вымысла он не прибегает непременно к quasi-понятию или аналогии. Так, правоспособность юридических лиц он выводит прямо из закона, вполне уравнивая их с лицами физическими: «Как физическое лицо только потому лицо, что общество приписывает ему значение субъекта прав, так и юридическое лицо становится таковым не потому, что вымышляется его личность, а потому, что оно одаряется правами» <2>. Понятно, что в этом рассуждении нет ответа на то, нужно ли придавать значение личности субстрату юридического лица. Во всяком случае вопрос о том, прибегают ли положительные законодательства к фикции по необходимости или же только ввиду удобства и не лучше ли вовсе бросить это средство как ненужное и даже опасное, остается еще открытым. ——————————— <1> Wallaschek, соч. цит. С. 143 — 144. <2> Мейер. С. 30.
После довольно длинного периода, в продолжение которого господствующее течение юридической мысли направлялось к устранению из права фикций как продукта воображения, которое должно быть изгнано из права, наступает реакция. Начинают раздаваться голоса за то, что право и юриспруденция не должны лишать себя помощи такого могучего средства, как воображение. Заговорили о возможности «фантазии в праве» и вместе с тем о законности и возможности допущения в юриспруденцию приема фикций. Из числа новейших защитников фикций подробнее других высказался упоминавшийся нами уже Бирлинг <1>. Этот автор, не разделяя мнения Демелиуса, что фикция есть лишь приравнивание или уподобление, и принимая мнение Иеринга относительно происхождения и значения исторических фикций, не согласен с писателями, высказавшимися против употребления фикций догматических. При этом он удачно указывает причину, побуждающую многих восставать против догматических фикций, — причину, которая коренится в ошибочном мнении, что фикции составляют будто бы прием, употребляемый исключительно в одной юриспруденции, в чем видят даже доказательство ее отсталости по сравнению с другими науками; а между тем на самом деле фикции во всех науках употребляются как вспомогательное средство для исследования и изложения, и в особенности в так называемых точных науках. Правда, физики, говоря о «цвете тел», о «звучащих струнах», даже о «невидимых световых лучах» и «неслышных тонах», не вымышляют, а оговариваются в своем месте относительно того, как в действительности надлежит понимать те способы представления, которыми они пользуются в речи, но это не изменяет сущности дела, которая состоит в том, что «нечто мыслится иначе, чем оно есть в действительности, и это признается законным научным приемом даже в логике» <2>. Следовательно, и для юриста вопрос лежит не в том, допустимы ли вообще фикции в науке, а в том, под какими условиями они могут быть допускаемы. Отвечая на этот вопрос, Бирлинг говорит, что фикции не могут иметь самостоятельного научного значения, что такое значение может иметь только истина, и употребление фикций в предположении, что они могут заменять истину и иметь с нею одинаковую ценность, конечно, должно быть отброшено. Напротив, фикции должны считаться вообще допустимыми там, где они служат целям облегчения юридического мышления или изложения и являются в качестве вспомогательных средств для связывания известных истин или для разыскания новых <3>. ——————————— <1> Bierling. Zur Kritik der juristischen Grundbegriffe, Th. 2, 1884. S. 84 — 117, а также см. статью этого автора в: Holtzendorft’s Rechtslexicon, I. S. 829 fg. <2> Bierling. Zur Kritik etc., Th. II. S. 85 — 90. Эта мысль ранее высказана уже Шассаном (см.: Essai sur la symbolique du droit. P. 47). <3> Bierling. Zur Kritik etc., Th. II. S. 85 — 90. Бирлинг очень удачно замечает, что многие, отрицая фикцию, бессознательно создают на ее месте новую (см.: Hollzendorff’s Rechtslexicon, I. S. 830). Близок по взгляду на фикции к Бирлингу проф. Шершеневич (см.: Курс гражданского права. С. 77).
Из приведенного изложения мыслей Бирлинга, отстаивающего, вопреки Бюлову и другим, допустимость фикций в науке правоведения, видно, что автор этот близок к Бюлову в вопросе о допущении фикций в законодательстве, т. е. считает их допустимыми, говоря словами Бюлова, в качества «аппарата для упрощения и уяснения» <1>. Поэтому против мыслей Бирлинга применимо то же замечание, которое мы сделали выше, излагая взгляды Бюлова, т. е. что законодатель, создавая юридическую фикцию, может иметь в виду вовсе не облегчение юридического мышления, не упрощение представления, а иные цели, не имеющие с уяснением и упрощением ничего общего <2>. С отвлеченной точки зрения нет оснований отрицать возможность подобных предписаний законодателя, а в положительных законодательствах найдутся, может быть, и примеры подобных фикций, о чем мы еще будем говорить впоследствии. ——————————— <1> См. выше. С. 120. <2> См. выше. С. 123 — 125.
Вот почему нам представляется правильным в этом отношении взгляд Гельдера <1>. По мнению этого автора, фикции, которые Иеринг и другие относят к историческим, на самом деле вовсе не суть фикции, так как в них не содержится вымысла, а имеется лишь указание на ранее действовавшее правило, под которое подводится новый случай. Известный пример Иеринга, касающийся пропущенного в железнодорожном тарифе кокса, относительно которого правление железной дороги поэтому объявляет, что он будет оплачиваться как каменный уголь, объясняется Гельдером именно в этом смысле, т. е. что в этом случае имеет место не фикция, а лишь подведение данного предмета под установленную рубрику. Единство этой рубрики не вымышленное, а действительное, и только относимое к ней собрание предметов шире обозначаемого ее названием. ——————————— <1> Holder. Pandecten, 1891. S. 18 (Anm.). См. также статьи этого автора в: Arch. fur civ. Praxis, Bd. 69. S. 221, 225.
Равным образом Гельдер не усматривает фикции в усыновлении и отрицает фикцию Корнелиева закона <1>, так как здесь также лишь приравнивается умерший в плену к умершему в свободном состоянии. Фикция в этом и подобном случаях, к которым относятся actiones fictieiae, есть результат лишь способа выражения закона, результат внешней формулировки данного правила, вызванной или чувством уважения к прежнему праву, или соображениями удобства, или какими-либо иными соображениями. Что касается фикций, называемых догматическими, или теоретическими <2>, то, по мнению Гельдера, если и они, как некоторые заявляют, суть лишь вспомогательные средства для науки, тогда они не суть фикции в действительности, фикции с реальным содержанием. Если в области права фикция может иметь действительное реальное значение, то она не должна быть простым средством формулирования данного уже юридического правила. Фикцией же с реальным значением, по словам Гельдера, можно признать только такую, которая установлена самим содержанием юридической нормы, независимо от того, выражена ли она во внешнем формулировании этой нормы или нет. ——————————— <1> Fictio legis Corneliae (см. § 5 Inst. L, 12 и l, 1 Cod. de postliminio reversis, VIII, 51). <2> «Теоретическими» называет их Unger (Ihering’s jahrb., X. S. 9 (Anm. 12)).
Со всеми приведенными сейчас мыслями мы не можем согласиться, так как, во-первых, думаем, что огульному отрицанию всех исторических фикций должно предшествовать рассмотрение их в отдельности, причем может оказаться, что некоторые из них были результатом не одного только образа выражения закона, а во-вторых, мы полагаем, что даже одно употребление законом такого способа выражения заслуживает внимания и требует каждый раз рассмотрения причины употребления законодателем этого приема и цели, которую он имел в виду, употребляя его. Но указание Гельдера на фикции с реальным, предметным значением (Fictionen von sachlicher Bedeutung) заслуживает, по нашему мнению, полного внимания. Гельдер справедливо говорит, что юридическая фикция как предписание принимать что-либо иначе, чем оно есть в действительности, разумеется, есть акт произвола, но акт, который в праве возможен постольку, поскольку последнее само есть продукт произвола. Конечно, из этого не следует выводить, будто законодатель может создавать фикции без всяких оснований. Напротив, законодательная фикция, как и всякое другое определение положительного права, всегда имеет свое основание. Если законодатель может создавать фикции не только в целях упрощения, то понятно, что и наука права обязана иметь с ними дело не только тогда, когда они служат облечению юридического мышления. Должны ли оставаться чуждыми науке те цели, которые стремился достигнуть законодатель, вводя фикцию? Очевидно, нет. Ее дело истолковать, раскрыть мысль и волю законодателя, выраженную в его предписании; ее дело, стало быть, узнать, для чего законодателем установлена фикция, и этим путем определить пределы применения последней. Очень важная историческая роль фикций в прошлом, в деле развития римского права и подобное же значение ее в английском праве указывают именно на то, что нет надобности и в настоящее время законодательству и науке во что бы то ни стало отказываться от этого средства, которое в древности, особенно в руках римского претора, оказало такие важные услуги человечеству. Только при помощи фикции усыновления и вообще искусственного родства стали возможны другие союзы людей, кроме кровных. Только при помощи фикции в сравнительно короткое время и без особых усилий произведены были римским претором коренные реформы в нормах старого римского положительного права — реформы, которых достигнуть было если не вовсе невозможно, то слишком трудно. Не угодно ли было склонить древних римских граждан на принципиальное признание законодательным путем равноправности с ними иностранцев перед гражданским судом или даже хотя бы на принципиальное уравнение когнатов с агнатами в праве наследования! Только Юстиниан был уже в состоянии решиться на последний шаг. Между тем эти и другие, не менее трудно достижимые цели были достигнуты при помощи вымысла, этого детища воображения. Поневоле приходят на ум слова, где-то сказанные Лабулэ: «Да здравствует воображение, ибо оно есть самая прямая дорога к истине»! Но, разумеется, такому быстроногому коню, как воображение, нельзя давать слишком много воли в сфере права, не следует снимать с него узду, а, напротив, надо крепко держать повода, и пусть он помогает перескакивать через реальные препятствия, а не уносит в заманчивое, но опасное путешествие по царству фантазии. Древние римляне, действительно, были народ вовсе не склонный давать воображению слишком много воли: они умели удерживать его в должных границах и если пользовались им как необходимым орудием в деле правосоздания, то никогда не выходили за пределы здравого смысла и требований необходимости <1>. Поэтому-то и не было опасности как для развития народного правосознания и прогресса правовых идей, так и для поддержания правового порядка в том, что преторы прибегали к такому опасному, на взгляд многих, приему, как фикции. Известно, что рядом с римлянами в этом отношении (т. е. в частом употреблении фикций в праве) могут быть поставлены англичане <2>. Две наиболее практические нации во всемирной истории охотно допускают помощь воображения в деле правосоздания. Факт интересный с точки зрения не одной только народной психологии! ——————————— <1> Другого мнения, по-видимому, Цицерон, но ему в этом случае, конечно, нельзя давать веры (см.: In verrem, II, 21, 12). Юстиниан также вооружается против фикций и заимствует у Цицерона насмешки над ними. Но, как удачно указал Иеринг, тут же и сам прибегает к ним (см.: Geist. S. 310 (Anm. 425), заканчивающееся восклицанием Иеринга: «Der Kobold der Fiction racht sich oft bitterlich an denen die ihn verfolgen»). <2> Мэн. Древнее право. С. 20 — 25.
Итак, обозрение литературы вопроса о юридических фикциях показывает нам: что доселе не установилось бесспорных взглядов на причины возникновения юридических фикций и на роль их в современных законодательствах и в науке; что мнения на этот счет крайне разнообразны и что если не доказана необходимость фикций, то, с другой стороны, не доказано, что они вредны и должны быть непременно или отброшены, или допущены лишь как средство для облегчения юридического мышления. Ввиду этого разногласия взглядов ученых остается обратиться к истории права и к положительным законодательствам и, исследовав возможно большее число случаев применения юридических фикций, постараться прийти к решению указанных вопросов на основании тщательного изучения положительного материала. Одновременно с вопросом о фикциях мы считаем необходимым пересмотреть по данным положительных законодательств и находящийся на связи с ними вопрос о презумпциях. Уже из предыдущего изложения видно, как разнообразны мнения ученых по этому последнему предмету, а между тем мы в своих литературных указаниях далеко не исчерпали всего, что высказано по этому предмету. Монографическая литература по вопросу о презумпциях, в противоположность литературе о фикциях, весьма обильна; но несмотря на это обилие, отчасти даже благодаря ему, в этом вопросе царит почти полная неопределенность взглядов. Чуть ли не каждый автор связывает со словом «презумпция» свое собственное представление. Подробное обозрение этих крайне разнообразных мнений мы находим более уместным отнести к третьей части нашего труда, которая специально будет посвящена презумпциям. Обзор литературы о юридических фикциях дает нам возможность утверждать, что выставленное нами ранее <1> определение юридических фикций находится в согласии с наиболее распространенным мнением в науке. Большинство ученых издавна было того мнения, что под фикцией вообще надо понимать, как мы уже не раз заявляли, известный прием мышления, состоящий в допущении признания существующим заведомо несуществующего, или наоборот, а под юридической фикцией — тот же прием, допускаемый объективным правом. Против этого определения, мы надеемся, не будут спорить, так как вышеуказанные отклонения от него объясняются тем, что под именем фикций разумеют собственно случаи, когда применяются последние, и пытаются охарактеризовать эти случаи, а не тот прием, к которому в этих случаях прибегают, или же имеют в виду лишь одну какую-то группу случаев применения фикций, а дают определение юридическим фикциям вообще. ——————————— <1> См. выше: с. 14.
Фикции как прием мышления или изложения мыслей практикуются людьми весьма часто с самыми различными целями. К ним прибегают дети и взрослые в шутках и играх, их постоянно употребляют в разговорной и письменной речи (солнце садится, звезды мигают). Карточные игроки, которым недостает партнера, отыскивают его при помощи фикции, садясь играть в преферанс или ералаш с болваном. Драматические писатели, а равно авторы романов и повестей рисуют нам жизнь воображаемого врага. Даже ученые и притом такие, как математики и физики, пользуются этим приемом. Нельзя сказать, чтобы до всех этих разнообразных случаев применения фикций праву не было уж совершенно дела. Оно вынуждено иногда принимать их во внимание, когда именно возникает вопрос о серьезности намерения и о мотивах действия (солдаты на маневрах, увлекшись воображаемым боем, наносят друг другу тяжкие побои или причиняют один другому увечье; проступок не будет, понятно, так же обсуждаться, как нанесение побоев или увечья с обдуманным намерением); но эти фикции нельзя назвать, конечно, юридическими. По этой причине мы не находим возможным рассматривать притворные действия как случаи применения юридических фикций. Здесь можно говорить о фикции лишь в общем, неюридическом смысле слова, да и то в случаях притворных сделок в тесном смысле правильнее говорить об обмане, а не о фикции. Это последнее обстоятельство часто совершенно упускают из вида. Фикция принимает несуществующее существующим, или наоборот, следовательно, она есть ложь. Отсюда легко доходят до подведения всякой лжи и всякого обмана под понятие фикций. Но это, конечно, неправильно: фикция и обман — понятия несовместимые. О фикции можно говорить лишь тогда, когда вымысел допускается всеми и когда никто на этот счет не обманывается. Оба партнера знают, что они играют с болваном, и это известно и понятно всякому, кто видит их играющими. Целый корпус войска знает, что они выступили в поход со всеми предосторожностями против воображаемого неприятеля, обладающего по условию маневров известными силами, занимающего известную позицию, и т. д. В притворных действиях мы этого общего соглашения и сознания относительно применения вымысла не видим. Напротив, симулянты стараются убедить других, что они делают дело не для видимости, а вполне серьезно, и желают придать вымышленному ими в глазах других, если не всех, то тех, кого это касается, характер полной истины. Притворные действия, таким образом, никак нельзя относить к числу случаев применения юридических фикций. Фиктивная сделка даже дальше по существу от этих случаев, чем игра в карты с болваном или детская скачка верхом на палочках, изображающих лошадок. Таким образом, мы считаем невозможным допущение каких-либо юридических фикций, кроме признаваемых объективным правом, т. е. прямо указанных в законе или обычае или выведенных путем толкования юристами. В числе случаев применения юридических фикций особую группу составляет применение их в связи с символами, символическими и мнимыми действиями: фикция кровного родства, скрепляемая смешением крови желающих породниться; фикция усыновления, облекаемая в форму троекратной продажи в mancipium, и т. д. Конечно, из этого не следует, чтобы символические и мнимые действия нужно было подводить под понятие фикций. Смешение крови двух лиц, желающих породниться, не есть фикция. Не всякое символическое и мнимое действие соединяется непременно с фикцией. Отношения их разнообразны: иногда фикция необходима для самого совершения мнимого или символического действия; иногда символическое или мнимое действие требуется для признания за фикцией юридического значения и для наступления ее практических последствий. Те случаи, где фикция нужна лишь для совершения мнимого или символического действия или является лишь естественным следствием его совершения, обыкновенно выделяются из числа случаев применения фикций. Никто не говорит обыкновенно о фикции обязательства при sponsio praejudicialis, о фикции брака при coemptio fiduciae causa, о фикции установления mancipium’а при отдаче в adoptio или при emancipatio, наконец, о фикции купли-продажи при mancipatio и иска о собственности при in jure cessio, и т. п. Несомненно, однако, что эти случаи могут быть отнесены к числу юридических фикций. Выяснив, что мы понимаем под юридическими фикциями, напомним об отношении их к презумпциям и о том, что было нами говорено выше <1> о близком родстве обоих этих приемов. Мы видели, что это родство оказывается довольно тесным и что хотя различие между фикциями и презумпциями на первый уже взгляд очень заметно, однако грань между случаями применения тех и других представляется настолько трудно поддающейся определению, что одни и те же случаи относят то к одной, то к другой категории. Это сходство между фикциями и презумпциями в самом существе, так как и те и другие суть родственные друг другу приемы юридического мышления, заставляет нас рассмотреть рядом случаи применения тех и других, проследить как историческую роль обоего рода приемов в праве, так и их современное значение, что мы и предполагаем исполнить в следующих двух выпусках нашего труда. ——————————— <1> См.: с. 26 — 35.
В настоящем же выпуске, как мы надеемся, нам удалось выделить случаи применения юридических фикций и презумпций из ряда им родственных в известных отношениях явлений юридического быта и установить в то же время, какие именно явления сюда относятся. Рассматривая выведенный нами ряд этих явлений <1>, легко заметить, что в нем резко различаются две группы: первую составляют случаи применения фикций и презумпций, а вторую — известные случаи совершения юридических действий (совершение их по видимости или для видимости). Обе группы столь различны по существу, что обсуждать входящие в них явления как сродные можно лишь с точки зрения, указанной Мейером, и только некоторые из них еще с точки зрения их цели и, пожалуй, их исторического значения в развитии права. При изучении же природы и свойств указанных явлений объединение их невозможно. ——————————— <1> См. выше: с. 108 — 109.
В заключение дадим наглядное изображение принимаемой нами классификации. Случаи, когда юридические определения применяются к фактам, которых мы в действительности не усматриваем, так как они не существуют или существуют в другом виде или же существование их сомнительно: 1 группа: 1) случаи применения юридических фикций; 2) случаи применения презумпций вообще и презумпций воли в частности. В первой группе применяются особые приемы юридического мышления: a) юридические фикции; b) презумпции; 2 группа: 1) случаи символической замены предмета или действия; 2) случаи применения мнимых действий; 3) притворные действия; 4) фидуциарные сделки. Во второй группе применяются действия, совершаемые для видимости: a) символические; b) мнимые; c) притворные. Юридические фикции в тесном смысле, в свою очередь, можно делить: на 1) фикции исторические и 2) фикции догматические, или на 1) фикции материальные и 2) фикции процессуального права, или, наконец, на 1) фикции, применяемые при символических действиях и при действиях мнимых, и 2) применяемые в других случаях. Обо всех этих явлениях, так же как о подразделениях презумпций, речь будет впереди.
Приложения
I
К § 5
Господствующее мнение корифеев германской юриспруденции, от Савиньи до Виндшейда, учит, что всякое действие лица есть изъявление его воли и что юридическое действие есть изъявление воли, влекущее юридические последствия. Особо важным видом юридических действий являются юридические сделки, которые, по этому мнению, суть также изъявления воли частных лиц, направленные на достижение этими лицами известных юридических последствий, именно на установление, изменение или прекращение их юридических отношений <1>. С точки зрения этого учения юридические последствия сделки суть всегда результат воли лица действующего и определяются существенно этой волей и ее содержанием. ——————————— <1> Windscheid. Pandect., Bd. 1, § 69, Anm. 1; Dernburg, Pandect., 4. Aufl., 1894, Bd. I, § 91.
В недавнее время, как известно, все это господствующее учение подвергалось не раз строгой критике. В возникшей полемике высказано было столько различных мнений, что в них крайне трудно разобраться. Однако главные возражения против господствующего мнения исходят из того, что все вытекающие из юридических фактов юридические последствия определяются объективным правом. Последнее определяет, в чем эти последствия состоят и с какими фактическими обстоятельствами они должны быть связаны. Объективное право должно заранее наперед определять совокупность всех фактических моментов, которые обусловливают наступление юридического последствия, иначе говоря, указывать необходимый для того фактический состав (Thatbestand) <1>. Юридические последствия, связанные с фактами, создаются исключительно положительным правом. Частные лица могут только выставлять фактические основания для наступления последствий. ——————————— <1> Учение о значении фактического состава частноправовой нормы ранее других, сколько нам известно, выдвинули Kierulff и Thol еще в 40-е годы, но общее внимание цивилистов обращено было на этот вопрос лишь много позднее (см.: Kierulff. Theorie des gemeinen Civilrechts, 1839. S. 27 ff.; Thol. Einleitung in das deutsche Privatrecht, 1851, § 32, 33. S. 91 ff.; ср.: Regelsberger. Pandect., 1893, Bd. 1, § 118, с. 436 и 437: «Из этого фактического состава выдвигается внешнее событие, происшествие (или совокупность событий, более доступных нашему чувству) в качестве в известной степени указующего момента, и оно-то обыкновенно одно поэтому обозначается как основание юридического последствия»).
Подверглось критике и объявлено было неправильным само понятие действия как юридического факта <1>. Оно признано лишь моментом фактического состава, так что обыкновенно оно одно само по себе не может быть рассматриваемо как юридический факт, а составляет таковой лишь в соединении с другими моментами фактического состава. Отсюда, конечно, следовало, что нельзя говорить о воле частных лиц как о правосоздающей силе, нельзя говорить об устанавливающих и прекращающих правоотношения действиях отдельных лиц. Были высказаны и такие крайние мнения, что вовсе следует отказаться от понятия юридической сделки, так как в жизни-де выступают лишь отдельные виды, типы юридических сделок, различные по своему основанию, т. е. по своему фактическому составу, и нельзя-де поэтому установить какие-либо правила, общие для всех них <2>. Другие, удерживая понятие юридической сделки, отказались признавать значение воли лица для последствий совершенной им сделки, так как последствия юридического действия вполне зависят от правового порядка и никоим-де образом от воли действующего <3>. ——————————— <1> Bekker. System. des heut. Pandectenrechts, Bd. II, 1889, § 82, Beil. I: «Действие (Handlung), как замкнутое, извне точно ограниченное целое, есть скорее школьное понятие, ибо в жизни такое действие или вовсе не встречается, или встречается редко. Обыкновенно нам представляется целый комплекс действий, и пока я что-нибудь делаю, т. е. произвожу согласно моей воле телесные движения, выбегают целые ряды моих хотений, из которых одни твердо удерживаются, другие подавляются. Точное обособление всех друг за друга цепляющихся действий невозможно». Только в силу привычки, объясняет далее Беккер, мы целые комплексы действий и даже совокупность действий нескольких лиц обозначаем как одно действие. Так, мы называем юридическим действием договор, а между тем здесь имеются по крайней мере два действия. Хотя такое словоупотребление и привычно и даже неизбежно, но «понятно, — замечает Беккер, — что оно влечет за собой значительную опасность». Для устранения последней Беккер рекомендует помнить, что юридическая сделка есть то одно действие, то множество действий, а что под изъявлением воли надо разуметь единичное выступление воли в действии и что неправильно поэтому Савиньи, а за ним и другие как бы отождествляют юридическую сделку с волеизъявлением (Graf Pininski, Thatbestand des Sachbesitzerwerb, II, с. 443: «Ошибочно понимать волеизъявление как действие и извлекать отсюда последствия»). <2> См.: Schlossmann. Vertrag, 1876, с. 159 сл., где этот автор объявляет понятие юридической сделки не имеющим научной цены, а также статью этого автора в: Grunhut’s Zeitschr. fur priv. und offent. Recht, Bd. 7, с. 543 сл. Против него см. статью Pernice в том же журнале (Bd. 7, с. 467 сл.), а также монографию одного из видных за последнее время защитников господствующего учения: Enneccerus. Rechtsgeschaft, Bedingung und Anfangstermin, 1889. См. также: Karlowa. Rechtsgeschaft und seine Wirkung, 1877. <3> С обнаружением воли правовые последствия связываются лишь в силу предписаний права, а потому само желание действующим правовых последствий должно быть признано безразличным, не оказывающим никакого влияния на последние. Желания лица, будучи изъявлены, приводят лишь этим изъявлением в движение правовой порядок, дают последнему как бы механический толчок. Эта мысль впервые высказана у Лотмара (Lotmar. Ueber die Causa im rom. Recht, Munchen, 1875, с. 15 и сл.). Особенно энергично отрицают значение воли для юридических последствий сделки Тон и Колер (Thon. Rechtsnorm. und subjectives Recht, 1878, с. 371; Kohler. Ueber den Willen im Privatrechts в: Jahrbucher fur die Dogmatik des heut. und deutsch. Privatrechts, 1889, Bd. XXVIII, с. 189 сл.; см. также: статьи этого автора в том же журнале: Bd. XVI, с. 100 и сл. и Bd. XVIII, с. 134 сл.). Против Тона см.: Zitelmann. Irrthum und Rechtsgeschaft, с. 76. Как много вообще мнений высказано было по этому вопросу в новейшей германской литературе, об этом см. в примечаниях Лотмара ко 2-му изданию Пандект Бринца (Brinz. Lehrbuch der Pandecten, Bd. IV, § 524, Anm. 1, с. 18 — 20), где между прочим Лотмар указывает вполне верно на причины, затруднившие разрешение вопроса и породившие столько разногласий.
Конечно, крайние мнения встретили соответствующую оценку, но представители их успели все-таки обнаружить слабые стороны господствовавшего со времен Савиньи учения, и в результате образовываются средние мнения, приобретающие все больше приверженцев. Представители этих средних мнений далеко еще не во всем согласны между собой, и господствующего мнения <1> еще не образовалось, но постепенно, однако, отмечаются уже те пункты, на которых представляется возможным соглашение между господствовавшим ранее учением и новыми, в последнее время высказанными взглядами <2>. Так, несомненно, учению о фактическом составе (Thatbestand), с которым закон (правовой порядок) связывает юридические последствия, отныне навсегда отведено видное место в науке гражданского права <3>. Наиболее интересными моментами фактического состава, юридическими фактами, особенно обращающими на себя внимание, являются, конечно, юридические действия, в учении о которых ныне можно считать бесспорно признанным деление их на действия, состоящие только в обнаружении воли, т. е. имеющие целью сделать эту волю известною другим (завещание, например), и на реальные обнаружения воли, т. е. на действия, служащие осуществлению желаемых последствий, — действия, при которых изъявление воли связывается с другим фактом (овладение, например, дача взаймы и т. д.) <4>. ——————————— <1> Этим именем по привычке, так сказать, продолжают обозначать учение, сложившееся еще во времена Савиньи и до последнего времени поддерживавшееся многими известнейшими юристами: Арндтсом, Вехтером, Виндшейдом, Унгером и др., а ныне постепенно утрачивающее своих представителей. <2> Из современных писателей, старающихся, с одной стороны, избежать крайностей некоторых новых учений, а с другой — признавших невозможным следовать за так называемым господствующим мнением, можно отметить Дернбурга и Регельсбергера, из которых первый старается по возможности менее отклоняться от господствовавшего ранее учения, хотя и не выказывает стремления отстаивать его во что бы то ни стало, уступая, где это кажется ему необходимым, новым взглядам, а второй везде более склоняется в пользу новых учений, стараясь, однако, не только избегать их крайностей, но также и примирить, насколько возможно, старые учения с новыми (см.: Dernburg. Pandecten, 4. Aufl., 1894; Regelsberger. Pandecten, Bd. 1, 1893). <3> Dernburg. Pandect. I, § 79, с. 184; Regelsberger. Pandect. I, § 118, с. 436; ср.: Windscheid, I, § 63. <4> Dernburg. Pandect. I, § 79, с. 185; Regelsberger. Pandect. I § 129, с. 473. Дернбург признает, однако, что это деление не обнимает всех действий, подлежащих рассмотрению права.
Согласны все в том, что действие человека обыкновенно в связи с другими моментами фактического состава может вызывать юридические последствия, но лишь потому, что объективное право связывает эти последствия с действием, а не по воле лица действующего <1>. Конечно, удержалось и бесспорно удержится в системе гражданского права понятие юридической сделки, но в изложении этого учения ныне уже значительно отступают от ранее господствовавших взглядов. Даже те, которые в согласии с прежним учением определяют юридическую сделку как «орудие самоопределяющей деятельности лица в сфере его частных правовых отношений», которые видят в сделках «изъявления частной воли, направленные на установление, изменение или возникновение юридического отношения», признают, что одного изъявления воли не всегда достаточно для бытия сделки, что оно действует часто лишь в связи с другими фактами, и поясняют, что под частной волей не следует понимать произвол, своеволие индивидуума, а что обыкновенно воля, выражаемая в сделке, вызывается экономическими потребностями, жизненными отношениями и т. д. <2>. Другие еще более настаивают на преимущественных перед волею или намерением лица значении фактического состава в юридических сделках и если не отрицают вовсе значения намерения действующего для наступления последствий сделки <3>, то учат, однако, что юридическое последствие лишь только представляется как осуществление выразившегося в сделке стремления сторон к упорядочению их правоотношений, что на самом деле положительное право берет сделки, которые находит пригодными для осуществления разумных целей сторон, под свою охрану, и лишь оно снабжает их юридическими последствиям, поднимает их до значения юридических сделок <4>. Вместе с этим не соглашаются понимать и определять сделку как изъявление или обнаружение воли <5> и отрицают даже то, что юридические сделки непременно направляются на установление, изменение и прекращение юридических отношений <6>. И те и другие одинаково признают, что в редких лишь случаях сознанием действующего обнимаются все правовые последствия юридической сделки и что эти последствия, вопреки прежнему мнению, не могут быть сведены к одной воле действующего, ибо весьма часто юридическая сделка влечет вовсе не те последствия, которых желал бы и которых намеревался достигнуть действующий <7>. ——————————— <1> Понятно, что объективное право является здесь, по меткому замечанию Дернбурга, не как deux ex machina и что оно не произвольно устанавливает связь между фактическим составом и правовыми последствиями, а руководствуется необходимыми нуждами человеческого общежития. Нужно, однако, заметить, что вопрос о том, чем и как определяется и должна определяться и ограничиваться сила объективного права в установлении правовых последствий юридических фактов, представляет одно из темных мест современных учений: «Самим юридическим фактам присущи правообразующие силы, которые требуют признания права». Какова же, спрашивается, роль объективного права по отношению к этим фактам? Должно ли оно ограничиваться одним утверждением, или, иначе, одобрением того, что создается в силу самого факта, или же ему принадлежит самостоятельная творческая роль? <2> Dernburg, I, § 91, с. 215 и сл. <3> См. выше: прим. 5 этого приложения. <4> Regelsberger. Pandect. I, § 135, с. 487, 488. <5> Там же. С. 491, § 135 VII. <6> Там же. С. 491, § 135 VI. <7> Там же, а равно и Дернбург, § цит. Прежде господствовавшее мнение, сводя все правовые последствия сделки к воле индивидуума, в сущности вынуждает прибегнуть, как справедливо не раз заявляли его противники, к фикции этой воли, для того чтобы объяснить наступление тех последствий, которых действующий не имел в виду.
С другой стороны, не находят возможным вслед за представителями крайних мнений утверждать, что от решения лица, изъявляющего волю к сделке, зависит одна только дача волеизъявления и что последствия волеизъявления, напротив, наступают неизбежно в силу закона все равно, хотел их или не хотел изъявитель воли. Даже те, которые склоняются более на сторону новых учений, удерживаются от этого вывода и признают, что при определении понятия юридической сделки нельзя вовсе оставить без внимания намерение лица как элемент фактического состава. Это не фикция, говорит Регельсбергер, а соответствует житейскому опыту, что при юридических сделках в основании лежит воля, направленная на юридические последствия, не только хозяйственная (Lenel) или эмпирическая (Bechmann). Нужно только помнить, что регулирующим для сделок является не то намерение, которое лицо имело на самом деле, ибо последнее иногда не может быть даже точно узнано, а то намерение, которое по житейскому опыту обыкновенно связывается со сделкой данного свойства, типическое намерение, поскольку иное намерение не выразилось ясно <1>. ——————————— <1> Regelsberger, I, § цит.; Дернбург (см. выше: прим. 11).
Таким образом, хотя и не понимают сделку как изъявление воли, но все-таки признают, что намерение лица, направленное на достижение юридических последствий сделки, является главнейшим и необходимым моментом фактического состава, требуемого для достижения результата сделки <1>. ——————————— <1> «Хотение правового последствия не в состоянии отметить действие как юридическую сделку, но оно существенно для бытия юридической сделки» (Regelsberger, I, § 155 IV).
Говоря иначе, прежде учили, что воля совершителя сделки творит юридические последствия, а ныне учат, что последствия эти создает объективное право, иногда и не справляясь с волею совершителя действия, но создает лишь тогда, когда у совершителя есть намерение на достижение юридического результата сделки, и создает при этом по возможности согласно с намерением сторон <1>. ——————————— <1> Regelsberger прямо признает, что объективное право выказывает большую способность приспособления и далеко простирающуюся готовность идти навстречу желанию сторон (Там же. § цит.).
Те юристы, которые видят в юридической сделке именно средство, служащее лицу к упорядочению его юридических отношений путем, признанным со стороны положительного права, приходят к тому же результату, т. е. признанию необходимой связи юридических последствий сделки с волею ее совершителя, еще более легким путем <1>. ——————————— <1> Dernburg, I, § 91: «Какое юридическое последствие есть продукт воли? Ответ на это должен быть: основание, изменение, отмена правоотношения. Я хочу быть наследником, и я делаюсь таковым. Отношение между волею и этим юридическим следствием явно. Но какие последствия повлечет раз возникшее правоотношение — это не определяется уже исключительно волею того, кто это отношение вызвал к существованию. Это нормируется, скорее, правовым порядком, который до известной степени принимает во внимание волю действующего, но не признает ее исключительно решающею».
II
К § 5. О способах изъявления воли
Из изложенного в предыдущем Приложении видно, что и с точки зрения представителей новых учений отказать воле лица в важном юридическом значении нельзя. Но, чтобы получить это значение, воля должна обнаружиться вовне, т. е. хотящий должен сделать так, чтобы другой или другие могли чувственно воспринять, что у него имеется известное намерение. Вопросы об отношении воли к ее обнаружению и о случаях несоответствия внутреннего содержания воли ее внешнему проявлению также в последнее время подверглись вновь пересмотру. Так, было указано, что нельзя отождествлять волю как внутренний акт с ее чувственными проявлениями вовне. То, что выступает вовне, есть только вестник, оттиск воли. Неправильно поэтому говорить, что изъявление воли есть воля в чувственном (чувствах воспринимаемом) проявлении <1>. Далее указано было на то, что бывают случаи, когда известное поведение человека обозначается как изъявление его воли, которой он на самом деле не имел. В действительности в этих случаях имеется лишь фактический состав, который объективным правом обсуждается наравне с изъявлением воли <2>. Что касается вопроса о самих способах обнаружения воли, то здесь издавна уже существуют разногласия, значительно увеличившиеся в последнее время. ——————————— <1> Regelsberger, I, § 136: «Неправильность здесь не более велика, как, например, при суждении о лесе, что он зелен, хотя он таким лишь отражается в чувстве говорящего». <2> Там же.
Основание современному учению об этом предмете положил Савиньи (System III, § 131, 1850), который принял для обозначения различия между способами изъявления воли до него употреблявшиеся термины «явное» и «молчаливое изъявление воли», указав, однако, что выражение «молчаливое изъявление воли» не совсем точно. Название «непосредственное» и «посредственное изъявления воли» Савиньи называет «новыми» и «малоупотребительными». Гешен (Vorlesungen uber das gem. Civilreicht, 2. Aufl, 1843, Bd. I, § 95. S. 273) в то же время оказывал предпочтение терминам «непосредственное» и «посредственное изъявление воли». Глюкк (Pand. IV, с. 87), Маккельдей (Lehrbuch, § 163), Венинг-Ингенгейм (Gem. Civilr., Bd. I, § 129), Мюленбрух (Pandecten, § 98) употребляли термины «явное» и «молчаливое волеизъявление», разумея под явным всякое непосредственное изъявление воли, хотя бы и не в словах, а другими знаками, имеющими твердо определенное значение. Молчаливое же волеизъявление понималось уже тогда весьма различно. Одни понимали под этим всякое непосредственное или посредственное изъявление воли не словами, а в каких-либо действиях, другие — всякое непосредственное изъявление воли (Gluck, IV, с. 89 сл.; Muhlenhruch, § 98), так что и словесное изъявление воли относилось к молчаливому в тех случаях, когда в этом изъявлении скрывается намерение, которое может быть узнано лишь посредством умозаключения. Третьи под молчаливым изъявлением воли понимали лишь посредственное изъявление воли не словами, а через какие-либо действия. Наконец, молчаливым называлось также изъявление воли молчанием. Понятно, что различное понимание того, что надо разуметь под молчаливым волеизъявлением, вело к разного рода недоразумениям и спорам. Мейер поэтому имел серьезное основание признать неудачным название «молчаливое изъявление воли» в том смысле, какой он сам имеет в виду, и заменить его названием «скрытное изъявление воли». Хотя это название, в противоположность выражению «скрытные действия», не может быть названо удачным, но оно удержалось в русской юридической терминологии. Выражения «явное» и «скрытное изъявление воли» у нас со времен Мейера употребляются одинаково с выражениями «непосредственное и посредственное» или «прямое и косвенное», «явное и молчаливое изъявление воли» (см., например: Шершеневич. Учебник гражд. права. С. 105 сл.; Анненков. Русское гражд. право. С. 122; Загурский. Элементарный учебник римск. права. Общая часть II. С. 343 — 345). В немецкой литературе последних двух десятилетий (с конца 70-х годов) вопрос об изъявлении воли вообще, а равно о способах этого изъявления, об отношении внутреннего намерения к обнаруживаемому вовне проявлению воли, о случаях несоответствия воли и ее изъявления сделался предметом горячих дебатов. Подробное рассмотрение всех высказанных за последнее время по этому предмету мнений может быть сделано только в сочинении, специально посвященном этому предмету. Нам же здесь можно удовольствоваться беглым обзором всей этой литературы, полный перечень которой имеется в 7-м издании Пандект покойного Виндшейда (Lehrbuch des Pandectenrechts, Bd. I, § 72, с. 178, прим. 9; ср.: Regelsberger. Pandect., § 135, 136, 138 (см. литерат. указания в прим. к этим параграфам); Brinz. Lehrbuch der Pandect. Bd. IV, 2. Aufl, с. 267 и сл.; Bekker. System des heut. Pandectenrechts II, с. 73 сл.). Личное ознакомление со всей этой обширной литературой приводит к убеждению, что хотя основная причина несогласия лежит в различии взглядов на отношения между волей и ее обнаружением вовне, а также в различии исходных точек зрения, с которых рассматривают вопрос о последствиях волеизъявления, но в образовании существующей доселе путаницы мнений много повинно также и отсутствие твердо установившейся терминологии. Так, одни (например, Савиньи (System, с. 442), Виндшейд (до 5 изд. своих Пандект), Burckhard (Civ. Praesumptionen, с. 270)) говорят об изъявлении воли — Willenserklarung, разумея под этим всякое проявление воли; другие (например, Holder (Pandect., § 41), Regelsberger (Pandect., § 136), Bekker (Syst. d. heut. Pandechtenrechts, § 93, с. 73 сл.)) употребляют в этом значении «обнаружение воли» (Willensausserung), а изъявлением воли не без основания называют лишь вид обнаружения воли, намеренное оповещение воли другим лицам, различая при этом изъявления воли, рассчитанные на определенное лицо, и оповещения о воле, рассчитанные на всех. От этого изъявления воли отличают реальное обнаружение воли, т. е. обнаружение ее в действиях, служащих к выполнению желаемого последствия (Regelsberger. Pand., § 129, I, § 136, III; Bekker. System, § 93, с. 73). Еще более разноречия в вопросе о способах или средствах обнаружения воли, особенно относительно понимания явного или молчаливого изъявления воли. Так, с одной стороны, признают возможным явное изъявление воли даже молчанием (см.: Zitelmann. Irrthum und Rechtsgeschaft, 1879, с. 262 (прим. 230)), а с другой — молчание указывается как главный случай молчаливого волеизъявления (см.: Schliemann. Lehre vom Zwange, 1861, с. 106). Одни, как это делал еще Савиньи (см. также: Arndts. Pandect., § 64), говорят о явном обнаружении воли тогда, когда оно имеет непосредственное значение; если же действие лица, в котором обнаружилась воля, предназначено, кроме достижения ближайшей цели, служить средством для достижения другой дальнейшей цели, относительно намерения достигнуть которую действие лица дает основание заключать, тогда говорят о молчаливом волеизъявлении. Молчаливым будет, таким образом, с этой точки зрения только изъявление, преследующее двоякую цель. Изъявление же воли молчанием никоим образом нельзя, следуя этому мнению, отнести к случаям молчаливого изъявления воли. Другие (Windscheid в его монографии «Wille und Willenserklarung» (1878, Arch. fur civ. Praxis, Bd. 63, с. 74)) придают особое значение в обнаружении воли намеренности или ненамеренности и называют «явным» намеренное изъявление воли, а молчаливое волеизъявление имеет по этому мнению место в том случае, когда о воле лица заключают из действий, предпринятых не с целью выразить эту волю (так учил еще Goschen (Vorlesungen, l. c.)). Некоторые ограничивают понятие явного волеизъявления случаем выражения воли определенными для того по законам речи словами или знаками, которые заменяют слова, а молчаливым называют каждое обнаружение воли не в определенных по законам речи для этого словах, а в иной какой-либо форме. Так поступает Leonhard (Der Irrthum bei nichtigen Vertragen, 1872, с. 190 сл.). Против него — см.: Lotmar. Kritische Vierteljahresschrift fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, Bd. XXV (Neue Folge Bd. IV), с. 415 — 422. Иные же говорят, что в случаях так называемого молчаливого изъявления воли последнее вовсе не имеет места и допускается лишь как фикция (Schlossmann. Der Vertrag, 1876, с. 48). Против этого: Eisele. Zur Theorie der Rechtsgeschafte, Krit. Vierteljahresschrift, 1878, Bd. XX, N 1, с. 17. Выставлено, далее, в новейшее время такое положение, что решающий критерий при суждении о способах изъявления воли надо искать не в психическом моменте на стороне действующего, зависящем от субъективных случайностей, а в том объективном определении, которое дают действию нравы, обычаи, право. Правилом в этом случае является то, что общепринято по господствующим житейским понятиям в обороте. Все то, что обыкновенно в обороте является общеупотребительным средством изъявления воли, будет в данном конкретном случае явным волеизъявлением, а молчаливое волеизъявление, соответственно этому, может представляться только там, где применено не общеупотребительное средство, а требуется вывод из индивидуальных обстоятельств данного случая. В этом смысле и молчание может быть случаем явного волеизъявления. Так, Виндшейд в 7-м издании своих Пандект (§ 72, с. 178) определяет явные волеизъявления как такие обнаружения воли, которые по народному обычаю или в силу особого установившегося убеждения имеют назначение выразить эту волю <1>. Сходно с этим определяют понятие явного волеизъявления Цительман (см. выше, цит. соч., с. 261) и Шлиман (цит. соч., с. 103 сл.). Гартман (Hartmann. Werk und Wille bei dem sogennanten stillschweigenden Consens, Arch. fur civ. Praxis, LXXII, 1888, с. 161 сл.) пришел к заключению, что только при строго односторонних юридических действиях может идти речь об узнавании воли вообще. В двусторонних же сделках решающим является такое поведение, из которого другой участник сделки почерпает убеждение о принятии договорной воли. Попытка провести строгое различие между явным и молчаливым волеизъявлением Гартману представляется неправильной и тщетной (с. 174). ——————————— <1> В 5-м изд. 1879 г. (с. 185, § 72) Виндшейд определял явное волеизъявление как проявление воли, не имеющее никакого иного намерения, кроме намерения выразить эту волю. Понятие молчаливого волеизъявления определяется в обоих изданиях одинаково: воля рассматривается как надлежащим образом обнаруженная, если представляется поведение (действие или упущение), которое дает несомненное заключение о наличности воли.
Подобные же взгляды высказывал граф Пининский (в соч. «Der Thatbestand des Sachbesitzerwerbs» (1885 — 1889, Bd. II, с. 430 сл.)). Вендт (Wendt. Pandect., § 44, с. 105 и сл.) поясняет, что молчаливое изъявление воли имеет место тогда, когда кто-либо обнаруживает свое решение (Willensentschluss) тем, что сообразовывает с ним свое поведение и, следовательно, проявляет свою волю rebus ipsis et factis, non verbis, sed actu. В подобном случае, по мнению Вендта, представляется собственно не волеизъявление, а, скорее, совершение или фактическое выполнение воли, но и оно может быть средством обнаружения воли, хотя только лишь посредством умозаключения. Беккер справедливо указывает, что противно общепринятой речи различие между молчаливым волеизъявлением и изъявлением воли в молчании. Конечно, крайне неудобно говорить о явном изъявлении воли молчанием и о молчаливом — в словах. Ввиду этого Bekker предлагает, во-первых, называть волеизъявлениями только те акты, которые определенно извещают о воле на совершение сделки, и, во-вторых, явным называть изъявление там, где имеет место извещение посредством положительных знаков, а молчаливым — там, где оно имеет место посредством отрицательных знаков неделания, молчания. По поводу этого последнего определения Лотмар в прим. ко 2-му изд. Пандект Бринна (Lehrbuch der Pandect, Bd. IV, 2. AufL, § 564, с. 267, прим. 5) справедливо замечает, что само по себе неделание не извещает. Оригинально и заслуживает внимания изложение учения о способах обнаружения воли у Гельдера (Holder. Pand., § 41, Anm. 2). Этот автор устанавливает прежде всего различие между обнаружением воли посредством изъявления ее, т. е. действием, обозначающим определенную волю, и реальным обнаружением воли, т. е. действием, служащим к осуществлению желаемого последствия. При реальном обнаружении воли мы имеем действие, определенное соответствующей ему волею, хотя и не имеющее назначения служить ее выражением. При волеизъявлении мы имеем действие, служащее именно для обозначения определенной воли. Рядом с этим Гельдер указывает на различие между непосредственным и посредственным обнаружениями воли, разумея под первым обнаружение воли в действии, непосредственно обозначающем известную волю, или в действии, непосредственно ею определяемом, а под вторым — выражение ее в действии, определяемом посредством другой воли или обозначающем другую волю, когда обнаружение данной воли по законам логики, принятому в общежитии обычаю или предписанию права содержит в себе обнаружение другой дальнейшей воли, так как существование одной без существования другой невозможно, неупотребительно или недопустимо. Связь между существованием той и другой воли может быть и необходимая, но в случае сомнения связь эта признается по той причине, что по обычаю или закону обнаружение одной воли без наличности другой считается возможным лишь при положительном обнаружении воли на исключение этой связи. Указав затем на выставляемое различие между явным и молчаливым волеизъявлениями, причем под первым разумеют действие, совершаемое с намерением выразить определенную волю, а под вторым — волеизъявление, содержащееся в так называемых facta concludentia, Гельдер прибавляет, что эта противоположность применима и к случаям реального волеизъявления. «Мною обнаружена, — говорит Гельдер, — не только воля, определяющая мое непосредственное поведение или непосредственно им обозначаемая, но также и та воля, без которой первая не может существовать. Та воля, без которой воля, непосредственно мною объявленная, не может существовать, будет мне приписана правом независимо даже от того, знал ли я это последствие моего волеизъявления». Это же имеет место и в случаях, когда связь между той и другой волями хотя и не необходима, но обыкновенно признается. Значение действия как обнаружения дальнейшей воли обусловливается в этом случае упущением обнаружения воли противоположной. «Только в этом случае возможно, — говорит Гельдер, — обнаружение воли посредством упущения». Лотмар в прим. к Пандектам Бринца (Bd. IV, с. 268, прим. 5) признает гельдеровское изложение учения об обнаружении воли шагом вперед в данном вопросе. Вопросу о молчаливом волеизъявлении посвящена обширная монография Эрлиха (Erlich. Stillschweigende Willenserkl., 1893), который, исследовав, по возможности, все случаи, где источники, литература и практика говорят о молчаливом волеизъявлении, и указав, что эти случаи далеко не одинаковы между собой, а распадаются на различные группы, пришел к заключению, что понятие молчаливого волеизъявления, т. е. состоящего в таких действиях, которые предприняты были не с целью служить выражением воли, не существует. В целом ряде фактических составов, которые принято понимать как молчаливые изъявления воли, вовсе нет никакого изъявления воли (хотя бы римляне и сводили наступающие последствия к молчаливому волеизъявлению и в источниках стояло слово tacite). В другом ряде случаев мы видим, что в фактический состав входят исключительно действия, предпринятые с целью известить о воле. Однако Эрлих сам оговаривается, что эти случаи могут быть подведены под понятие явных волеизъявлений лишь с точки зрения теории изъявления <1>, так как этого рода обнаружения воли «не состоят необходимо в действиях, фактически вызванных этою волей, а в действиях, которые в другой стороне вызвали такое духовное впечатление (Geisteseffect), что в основании их лежит воля на сделку». ——————————— <1> См.: Прилож. III.
Подобно Гартману и Эрлиху, Регельсбергер (Pand., Bd. I, § 138) также не признает возможным установить точное различие между явным и молчаливым волеизъявлениями. Противоположность была бы ясна, говорит Регельсбергер, если бы понятие «молчаливое волеизъявление» ограничивали выражением воли в молчании. Однако именно все согласны, что молчаливое волеизъявление может содержаться в положительном действии. Одни называют волеизъявление явным, если действие предпринято с целью изъявления данной воли, но это возможно и при молчании. И потом, из чего познается намерение? Другие придают значение внешнему свойству изъявляющего действия: явно волеизъявление тогда, когда выбрано для него в житейском обиходе употребительное и особо установленное средство (Виндшейд, Цительман, Леонгардт); но принадлежит ли сюда только язык слов и жестов. При недостаточности указанных субъективного и объективного моментов ничего не выигрывается и посредством связи их обоих. Последними словами Регельсбергер отвергает попытку Бринца (Lehrbuch. Pandect., § 564) точно установить различие между явным и молчаливым волеизъявлениями, причем Бринц учил, что изъявление воли возможно без слов: во-первых, в делах, заменяющих слова, в жестах и знаках, а во-вторых, в действиях, которые рядом с собственным их назначением как сделок или общих действий, слов или деяний выполняют еще сверх того функцию слова. Так, многие из наших действий нам нельзя или трудно представить, но допустим, что кроме желания, которое в них уже осуществлено и выражено, имеет место другое: «Такие действия рядом со словом составляют изъявления воли, так как они выдают иначе не выразившуюся волю, извещают о ней, но изъявления эти суть молчаливые, так как они, что касается этого их сопривходящего смысла, могут быть восприняты не глазом или ушами, а рассудком посредством умозаключения (facta concludentia)». На это последнее определение молчаливых изъявлений воли и указывает Регельсбергер в сейчас приведенном месте, причем он добавляет, что при противоположности между явным и молчаливым волеизъявлениями «идет дело только о большей или меньшей несомнительности (Unzweideutigkeit) волеизъявления. Законы иногда требуют первой, чаще допускают последнюю. Можно называть последнюю молчаливым волеизъявлением, но особой теории на этот счет нельзя выставить». Лотмар справедливо отражает это нападение Регельсбергера на Бринца (Brinz. Lehrbuch der Pandect, Bd. IV, 2. Aufl, с. 270, прим. 8), указав, что случай двусмысленности слов, т. е. сомнительности выраженной в них воли, нисколько не соприкасается с тем определенным Бринцем фактом, что слова или деяния вместе с выраженной или осуществленной в них волею выдают и невыраженную. Кроме того, Лотмар в доказательство необходимости установления различия между явным и молчаливым изъявлениями воли приводит против Регельсбергера собственные слова последнего, что «сами законы иногда требуют первую» (большую несомнительность, соответствующую явному волеизъявлению), «чаще допускают последнюю» (меньшую несомнительность или иначе молчаливое волеизъявление). Если законы то требуют первую, то допускают последнюю, так потребен и отличительный признак между той и другой. Таким образом, необходимость различения способов выявления или обнаружения воли остается неоспоримою, и все дело, с одной стороны, в том, что термины «явное» и «молчаливое волеизъявления» выбраны неудачно, а с другой — в том, что многие из авторов, указывая особое основание для различия между способами волеизъявления, продолжают употреблять для устанавливаемых ими новых делений старые названия, вследствие чего выходит, что термины «непосредственное» и «посредственное волеизъявление» или «явное» и «молчаливое» употребляются в разнообразных значениях. Дернбург, например, отличает специальное изъявление воли, т. е. особо означающее требуемую сделку, от изъявления ее общим образом, причем специальное волеизъявление он называет явным и оговаривается, что так как это слово в общем (т. е. пандектном) праве не имеет легального значения, то каждый автор вправе придавать ему свой определенный смысл для собственного употребления (Dernburg. Pandect. 4. Aufl. § 98, с. 229, прим. 5). Кроме того, как особые виды волеизъявления Дернбург указывает непрямое (косвенное) волеизъявление (с помощью действий, называемых facta concludentia) и изъявление воли простым молчанием (Там же, с. 230). Это мнение одного из лучших цивилистов Германии в связи со всеми приведенными выше литературными указаниями как нельзя лучше подтверждает справедливость заявления Беккера (System II, § 92, Beil. I), что все учение о юридическом значении воли и ее изъявления, а равно и о способах последнего со времен Савиньи и до наших дней вовсе не есть изложение римских правовых воззрений, которые и не могут быть выяснены при противоречии источников, а представляет ряд попыток со стороны ученых вновь построить это учение на основании «природы вещей». Выставляют произвольно известный принцип и выведенные логически из этого принципа последствия обсуждают как действующее право, а в подтверждение подбирают отдельные римские тексты, толкуя их сообразно с заранее принятым принципом. Но если все эти попытки, говоря словами Беккера, «суть не более как естественно-правовые спекуляции, исходящие из произвольно взятой премиссы (посылки)», а потому не обязательные для тех, которые не согласны подчиняться этому произволу, то им все-таки нельзя отказать в большом значении. Они оказали влияние на юридическое мышление целых поколений и, без сомнения, отразились и отражаются на законодательстве и судебной практике. Попытки эти привели, во всяком случае в последнее время, к более правильной постановке вопроса о сущности и юридическом значении воли и ее изъявления — вопроса, решавшегося со времен Савиньи почти всеми наиболее видными представителями немецкой юриспруденции несколько односторонне <1>. ——————————— <1> См.: Прил. I и III.
Если в вопросе о способах изъявления воли не удалось прийти доселе к соглашению, то по крайней мере выяснилось, что решение его нельзя найти в одних источниках римского права и даже в статьях действующих гражданских кодексов. Решение ему дает только сама жизнь — живой, вечно создающий себе новые пути и средства и меняющий их оборот. Юрист, желающий изучить вопрос о способах изъявления воли в юридических действиях, должен иметь в виду не только тот несомненно богатый материал, который имеется в Дигестах, но и овладеть, по возможности, тем материалом, который дает современная судебная практика, обычаи, существующие среди разных групп населения, и жизненный опыт. Самые источники римского права должны быть рассматриваемы не с догматической точки зрения, не со стремлением согласовать во что бы то ни стало между собою противоречивые иногда решения римских юристов, а с намерением тщательно исследовать природу каждого разрешенного в источниках случая. Этим путем можно будет составить себе представление о разнообразных видах обнаружения воли и ее изъявления. Но, разумеется, подметив одно какое-либо основание для различения видов волеизъявления, не следует на этом останавливаться и отбрасывать другие основания, равно как не следует останавливаться на мысли, что раз какое-либо употребительное название не имеет легального значения, так всякий будто бы волен придать этому названию какой угодно смысл, лишь бы он точно определен был для него самого. Такое своеволие далеко не в интересах науки, которая должна стремиться, по возможности, к тому, чтобы различные понятия не обозначались одним и тем же термином, а одному понятию не придавалось в юридическом языке много различных обозначений. История употребления в немецкой литературе терминов «явное» и «молчаливое» в применении к изъявлению воли наглядно указывает, к каким неудобствам приводит слишком свободное обращение с научной терминологией. Если каждый юрист будет употреблять свои термины, хотя бы и объясняя их, или общеупотребительным терминам будет придавать свое значение, то в конце концов мы перестанем понимать друг друга. В частности, обращаясь к терминологии в применении к обозначению способов изъявления воли, мы охотно присоединяемся к мнению тех авторов, которые высказались против общеупотребительного деления способов изъявления воли на явные и молчаливые, но присоединяемся не потому, что будто бы для различения видов волеизъявления нет оснований, а потому, что нельзя отыскать такого именно различия, к которому было бы удобоприменимо это обозначение. В источниках tacite употребляется в разнообразных, далеко не технических значениях, и противоположное этим значениям не может быть обнято одним термином «явное» — термином, которого вдобавок и нет в источниках. Таким образом, вместо того чтобы удерживать деление способов на явные и молчаливые, придавая ему по желанию авторов любой смысл, лучше вовсе его отбросить. Но вместе с этим не следует отказываться от исследования различий между способами волеизъявления и отмечать как основания к таким различиям, так и отличительные признаки отмеченных групп. Единственная нам известная попытка в этом направлении сделана Беккером (System II § 93, с. 68), который отметил следующие указанные в литературе и достойные внимания различия между способами обнаружения воли. I. a) изъявление воли в тесном смысле, вытекающее из желания сделать другому известной волю на сделку, и b) все другие обнаружения воли, которые получают свое значение без воли лица на изъявление (ohne Erklarungswillen); c) если обнаружение воли основано не исключительно на волеизъявлении, то это будет волеизъявление с двойною целью. По поводу последнего Беккер замечает, что внешнее действие, служащее для изъявления воли, «может соответствовать двум целям, может иметь своим назначением извещение о двух волях рядом (например, обещание исполнения условия содержит в себе извещение о воле на принятие обязательства и о воле на исполнение); но изъявление может также быть назначено для выражения одной воли на сделку, а рядом с этим ненамеренно дать возможность обнаружиться другой воле; в первом случае мы имеем стечение двух явных волеизъявлений, а во втором — явного и молчаливого». Первую противоположность можно было бы назвать противоположностью между намеренным и ненамеренным изъявлениями воли. В выделении особой группы волеизъявлений с двойною целью, по нашему мнению, нет надобности. Далее Беккер различает следующие способы обнаружения воли. II. Изъявления, состоящие в положительном действии, в телесном движении изъявляющего, состоящие в неподвижности, в неделании, отрицательные изъявления. Сюда Беккер относит изъявления посредством молчания. III. Изъявление употребительными или неупотребительными средствами. IV. Изъявление понятными и менее понятными знаками (знак может быть недостаточного вида, может указывать слишком много или слишком мало признаков). V. Формальные, торжественные изъявления воли и неформальные, неторжественные. VI. Изъявления, направленные к отдельным лицам, действительность которых зависит от того, что они достигают лица, которому они назначены (получателя изъявления), и все прочие. Таким образом, получается целых шесть делений способов волеизъявления, к которым можно прибавить еще другие, по нашему мнению, не менее заслуживающие внимания. 1. Так, прежде всего припомним указываемое Гельдером различие между обнаружением воли посредством действия, обозначающего определенную волю (иначе, посредством слов, жестов, действий, служащих к выражению воли), и реальным обнаружением воли, т. е. обнаружением ее в действии, служащем к осуществлению желаемого последствия. Это деление не совпадает ни с одним из отмеченных Беккером, а между тем оно, конечно, очень важно. 2. Далее, вместо деления волеизъявлений на волеизъявления с одною и с двоякою целью мы лучше отметили бы непосредственные изъявления воли и посредственные в указанном Гельдером смысле. Иначе это же деление может быть обозначено как деление волеизъявлений на прямые и косвенные. Под первыми разумеются волеизъявления посредством слов, знаков и действий, выражающих прямо данную волю, а под вторыми волеизъявления посредством слов, знаков и действий, имеющих свою самостоятельную цель, но в то же время свидетельствующих о воле лица на другое действие (facta concludentia). 3. Несомненные и предполагаемые. Первые посредственно или непосредственно, но явно, принудительно для изъявляющего свидетельствующие о наличности волеизъявления, вторые — в заявлениях и действиях, из которых лишь по предположению можно вывести изъявление воли лица. 4. Ясные, не возбуждающие сомнений относительно бытия и содержания выраженной в них воли у заинтересованных лиц и сомнительные (неопределенные, двусмысленные, многозначащие), требующие разъяснения и доказательства в случае спора. Это последнее различие, конечно, существует, но дать наперед какие-либо определенные признаки причисления конкретного волеизъявления к той или другой из указанных категорий, разумеется, нет возможности, так как понятие о ясности относительно. Нельзя даже сказать, что ясным может быть названо то волеизъявление, истинный смысл которого бесспорно определяется его грамматическим и логическим толкованием, ибо одним этим толкованием не всегда можно руководствоваться при суждении о присутствии воли, а приходится иногда независимо от толкования принимать внешнюю видимость изъявленной воли за саму волю, сообразуясь с интересами получателя волеизъявления, интересами оборота и т. д. 5. Наконец, волеизъявления могут быть соответствующие истинному намерению действующего и не соответствующие (см. § 7). Могут быть отмечены, конечно, и другие отличия. 6. Так, имеет значение различие между словесными изъявлениями воли, т. е. выраженными в словах (устно или письменно), и выраженными иным образом — безмолвные (в жестах, действиях и в молчании — специально молчаливые) волеизъявления. Если нет возможности обнаружить всех тех признаков, по которым можно различать виды волеизъявлений, то отметить уже замеченные различия необходимо хотя бы для того, чтобы положить предел на будущее время попыткам объединения нескольких неодинаковых по основаниям и потому несовпадающих различий под одним названием.
III
К § 5. Отношение внутренней воли лица к внешнему ее проявлению со стороны значения их для силы юридического действия
Те ученые, которые не признают за волею частного лица правосоздающей силы, как мы видели уже, склонны обыкновенно отрицать и значение различия между непосредственным и посредственным обнаружениями воли или, как иные доселе неправильно говорят, между явным и молчаливым волеизъявлениями. Вместе с тем они склонны придавать более значения выражению воли вовне, чем самому бытию воли. Савиньи и его последователи учили, что между волею и ее изъявлением существует отношение, подобное отношению между духом и телом, и что в праве как одна воля без изъявления ее вовне не может иметь значение, так и, наоборот, не может иметь никакого значения и одно изъявление без воли. Словом, при обсуждении вопроса о силе и действительности совершенного лицом действия принимали во внимание только самого совершителя этого действия и заключали, что раз изъявление было не согласно с волею, оно недействительно, не может быть вменено действующему. Против этого мнения в недавнее время выдвинуто было другое, представители которого указывали на то, что всякое изъявление воли лица имеет целью подействовать на других, вызвать у них представление о существовании у лица определенной воли и побудить их даже к соответствующему этому представлению действию. Эти лица могли судить о бытии и содержании воли действующего только по изъявлению ее вовне, и было бы несправедливо по отношению к ним отрицать потом силу полученного ими изъявления воли на том основании, что оно не соответствовало внутреннему намерению действовавшего <1>. ——————————— <1> Bekker. System, § 92, Beil. I. C. A: «Воля неуловима. Изъявление уловимо. Так как у человека нет органа для познания неуловимого (чисто внутреннего события) в другом человеке, то в обороте и перед судом может быть принята во внимание только воля, воплотившаяся в изъявлении, и ей не может быть приписано никакое другое содержание, кроме того, которое может быть постигнуто из изъявлений воли».
Образовалось, таким образом, два учения. 1. Так называемая теория воли, которая была господствующей со времен Савиньи и по которой изъявление без воли так же не имеет юридического значения, как и воля без изъявления. Эту теорию до конца дней защищал Виндшейд <1>. ——————————— <1> См.: Windscheid. Lehrbuch d. Pandectenrechts, 7. Aufl., Bd. I, с. 194, § 75 и прим. 1. Кроме Виндшейда, этой теории держится Zitelmann (Jahrb. fur Dogmat., 1878, XVI. S. 357 fg.), за нее высказался Унгер e Grunhut’s Zeitschrift (Bd. XV, 1888, с. 673 fg.) и ее проводят также в монографиях Scheiff (Die Diwergenz zwischen Wille und Erklarung, 1879) и Enneccerus (Rechtsgeschaft, Bedingung und Anfangstermin, 1888, с. 67) и др.
Представители второй теории, признавая, что изъявление воли есть лишь момент фактического состава, с которым связываются правовые последствия, говорят, что раз изъявитель воли создал этим изъявлением тот фактический состав юридического действия, с которым связаны его последствия, он обязан нести эти последствия все равно, хотел он того или нет. Теорию эту называют теорией изъявления (Erklarungstheorie), и защитники ее довольно многочисленны (Rover, Bahr, Holder, Schall, Kohler, Leonhard и т. д.) <1>. ——————————— <1> Подробное перечисление представителей этой теории см. у Виндшейда (предыдущая сн.). См. также: Dernburg. Pandect. I, § 99. С. 232 сл., прим. 2.
Последовательное проведение на практике первой теории нарушало бы, конечно, справедливые интересы лица, принявшего изъявление; наоборот, последовательное проведение второй было бы часто слишком сурово и несправедливо по отношению к изъявляющему волю. Полемика между представителями обеих теорий обнаружила также, что обе они не согласны с источниками. Ввиду недостатков обеих указанных теорий некоторые авторы выставили третью теорию — теорию доверия (Vertrauens или Verkehrstheorie), по которой вопрос о том, можно ли при нормальном по внешности волеизъявлении принимать во внимание недостаток воли, должен решаться с точки зрения необходимого для оборота доверия. Это среднее мнение, выставленное Гартманом, Эйзеле и Беккером <1>, разделяется ныне многими и, между прочим, Дернбургом. Эта теория также не согласна с источниками, впрочем, представители ее не претендуют на это. Кроме того, справедливо замечено, что избранный этой теорией критерий — нужды оборота и необходимое для последнего доверие — должен быть признан слишком неопределенным. Теория эта во всяком случае имеет перед другими то преимущество, что допускает возможность дальнейшего ее развития и усовершенствования путем науки и практики, а также законодательным путем. Даже покойный Виндшейд возражал главным образом против согласия этой теории с источниками и не имел, по-видимому, ничего против принятия ее при решении вопроса de lege ferenda. Регельсбергер в своем учебнике пытается именно придать этой теории большую определенность и найти средний путь для примирения всех теорий в указании необходимости применять разные правила, смотря по роду юридических сделок. Попытка эта, однако, может быть рассматриваема, скорее, как новое доказательство справедливости заявления Беккера, что «мы не в состоянии овладеть духовно всем достойным внимания материалом, несмотря на все наши старания», и, пожалуй, еще как подтверждение мнения, что римские юристы при решении разбиравшихся ими случаев были в этом вопросе далеки от следования каким-либо школьным теориям <2>. ——————————— <1> Dernburg. Ibidem; Hartmann, соч. цит., Ihering’s Jahrb., Bd. XX, с. 1 и сл. и Civ. Arch., Bd. LXXII, с. 161; Eisele. Ihering’s Jahrb. f. Dogmat., 1887, Bd. XXV, с. 44 сл.; Bekker. System II, § 92, Beil. III: «Мы не можем выставить окончательных правил, а должны довольствоваться отнесением всего учения в область bona fides: судья должен решать о том, должно ли в отдельном случае придать более значения воле и ее изъявлению и какие факты при этом намерении положить на весы». Регельсбергер справедливо замечает по этому поводу, что «в столкновении интересов не всегда одна только bona fides нуждается в защите» (Regelsberger. Pand., § 140, прим. 3). <2> Windscheid. Lehrbuch d. Pand., м. цит. и Regelsberger. Pand., м. цит.
Все эти различные взгляды не могли не отразиться и на обсуждении так называемых случаев посредственного изъявления воли или скрытных действий, а также на учении о случаях несоответствия между волею и ее внешним проявлением.
IV
К § 7. Reservatio mentalis
Необходимо оговориться, что понятие скрытого намерения или умолчания — reservatio mentalis — нельзя назвать прочно установленным в науке. Во всяком случае оно не имеет определения в источниках римского права, которые говорят лишь о simulatio. Ввиду этого некоторые юристы и доселе высказываются против выделения этого понятия, отрицая даже возможность подобных случаев (см., например, Gardeike. Vertrage unter Abweseden, с. 11, прим. 15). Schlossmann (Vertrag, с. 106) находит излишним указанное выделение ввиду того, что здесь имеют применение те же правила, что и при симуляции в собственном смысле. Если эти мнения и не признаются большинством основательными как с теоретической, так и с практической точки зрения, то ввиду отсутствия твердой опоры в источниках для определения того, что следует понимать под reservatio mentalis, понятно как разногласие во взглядах юристов по этому предмету, так и то, что определение этого понятия и указание отличительных его признаков по отношению к симуляции остаются предоставленными в значительной мере, так сказать, свободному усмотрению авторов. В результате в то время как одни авторы в reservatio mentalis видят лишь вид притворных действий (simulatio) в обширном смысле, отличный от случаев притворства в тесном смысле (Leonhardt. Irrthum, с. 132; Scheiff. Die Divergenz zwischen Wille und Erklarung, Bonn, 1879, с. 24 — 27; Pernice. Zeitschrift fur Handelsrecht, Bd. XXV, с. 116 и сл. (см. текст с. 101, прим. 5)) или же определяют его как одностороннюю симуляцию (Schall. Der Parteiwille in Rechtsgeschaft, 1877. с. 20; Czyhlarz. Iherings Jarb., Bd. XIII, с. 20; ср.: Zrodlowski. Rom. Privatr., Bd. II, с. 317; Kohler. Ueber den Willen etc. в: Ihering’s Jarbuch. fur Dogm., Bd. XXVIII, с. 175), другие противополагают оба эти понятия (т. е. reservatio mentalis и simulatio) одно другому (Kohler. Ueber Mentalreservation u. Simulation; Idem. Ueber den Willen в: Ihering’s Jahrbuch. fur Dogmatik, Bd. XVI, с. 98 и Bd. XXVIII, с. 169 — 175; Dernburg. Pandect., § 99, прим. 7 и § 100; Windscheid. Lehrbuch d. Pandectenrechts, § 75, прим. 1, с. 2), а третьи разумеют под reservatio mentalis обман при волеизъявлении, направленный к тому, чтобы убедить получателя изъявления в наличности у изъявителя воли, которой он на самом деле не имеет (Bekker. System II, § 98 l.). Этот автор подводит reservatio mentalis и simulatio, а также случаи так называемых фидуциарных сделок и др. под одно общее понятие мнимых сделок (Scheingeschafte) в широком смысле, разумея под мнимой сделкой «каждое происшествие, которое выступает как юридическая сделка, но на самом деле не есть то, чем кажется, а является или вовсе ничем, или другой сделкой». Некоторые указывают отличительный признак рассматриваемого понятия в том, что будто бы при reservatio mentalis совершенная сделка действительна, тогда как при simulatio она непременно недействительна. Так думает Voigt (Jus naturale aequum et bonum III, с. 154), опираясь на fr. 25 § 1 Dig. de leg. III (32): «Cum in verbis nulla ambiguitas est non debet admitti voluntatis quaestio». Объяснение этого места и противоречащего ему fr. 3 Dig. de reb. Dub. 34,5: «In ambigua sermone non utrumque dicimus, sed id dumtaxat quod volumus: itaque qui aliud dicit quam vult, neque id dicit, quod vox significat quia non vult, neque id quod vult, quia id non loquitur» — дают Hartmann (Wort und Wille im Rechtsverkehr в: Ihering’s Jahrbuch. fur Dogmat., Bd. XX, с. 38, 39) и Eisele (Ueber Nichtigkeit obligatorischer Vertrage etc. в: Jherings Jahrb. f. Dogm., Bd. XXV, с. 427 и 428). В последнем фрагменте implicite содержится признание допустимости при reservatio mentalis вопроса о бытии воли (quaestio voluntatis). Graf Pininsky (Thatbestand II, с. 398, прим. 1) приводит целый ряд свидетельств источников в доказательство того, что reservatio mentalis не может иметь значения в качестве препятствия в действительности сделки. Но Lotmar справедливо замечает, что во всех этих местах выражается лишь правило, что заключенные соглашения должны быть соблюдены, а при reservatio mentalis возникает вопрос о самом существовании соглашения (см.: Brinz. Lehrbuch d. Pandecten. Bd. IV, Lief. 1, § 524, прим. 5, с. 23). Относительно мнения, принятого нами в тексте, см.: Bekker. System II § 98, Not. o и p; Regelsberger. Pandect., Bd. I, § 139 и 141. Во всяком случае следует помнить, что все определения, даваемые понятию умолчания (reservatio mentalis), обнимают такие случаи, где источники говорят о симуляции. Стало быть, не будет ошибкою видеть в этом понятии разновидность притворных действий вообще, не обсуждая, конечно, оба вида одинаково. При таком разногласии в определении понятия существует еще большее разногласие относительно его значений. Так, некоторые утверждают, что reservatio mentalis только тогда не должно быть принимаемо во внимание, когда в основании его лежит безнравственность (Schliemann. Lehre v. Zwange, с. 113 сл.; против — Kohler в цит. статье (с. 95 и сл.)). См. Lotmar в цит. прим. 5 к вып. 1 ч. 4 Пандект Бринца и цитируемые им авторы, особенно: Rover. Ueber die Bedentung des Willens bei Willenserklarung, 1874; Zitelmann. Ihering’s Jahrb. Dogmat., Bd. XVI, с. 402, 403, 434; Kohler. там же, Bd. XVI, с. 95, 98, 339 и Bd. XXVIII, с. 464, прим. 19; Windscheid. Arch. fur civ. Praxis, Bd. 63, с. 98; Holder. Pandecten, с. 218; Enneccerus. Rechtsgeschaft, с. 64, 66 и сл.; Graf Pininski. Thatbestand, с. 395. Относительно весьма спорного у германских юристов со времен Савиньи (System, с. 259) толкования случая, относящегося к брачному каноническому праву (Cap. 26 de spons 4. 1), см. Arch. civ. Praxis, Bd. XXXVIII, Heft 3. Вообще разрешение вопроса о последствиях умолчания, особенно в том случае, когда получатель изъявления поверил в его истинность, представляет при решении его в конкретных случаях большие трудности. Беккер и Регельсбергер (Pand. I, прим. 8, с. 516) указывают в этом отношении некоторые правила. Так, когда reservatio mentalis имеет применение к оборотным сделкам, то изъявляющий не может сослаться на свое нечестное желание обмануть, но получатель изъявления может, если желает, обсуждать сделку как необязательную (l. 25 de legibus I, 3). Против безусловной верности этого последнего положения справедливо высказался Kohler в Kritissche Vierteljahresschrift fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (Bd. XXXVI, Heft. 4, с. 525, § 10). На основании высказанного с умолчанием обещания подарить нельзя ничего требовать, но отданного подарка также нельзя потребовать назад, ссылаясь на reservatio mentalis, и т. д. Беккер указывает на те случаи, когда со стороны изъявителя нет ни злого намерения, ни даже неосторожности, но волеизъявление по буквальному смыслу расходится с невысказанным истинным намерением изъявителя, а тот, к кому изъявление направлено, имеет возможность при большей внимательности понять истинный, а не буквальный смысл изъявления (ср.: Savigny. System, § 134, с. 289). В этом случае, по словам Беккера, было бы противно добрым нравам, чтобы кто-либо выводил для себя право из такого понимания происшедшего, которое основано на собственной его вине. Если это мнение можно назвать еще сомнительным, то во всяком случае Беккер прав, указывая, что необходимо каждый раз иметь в виду всю совокупность дела, принимать в расчет взаимодействие различных моментов, ибо при малейшем оттенке дело может получить другой вид: «здесь оказывается такой ряд близко друг к другу лежащих возможностей, что никакой законодатель не в состоянии провести удовлетворительным образом границу между обязательными и необязательными для лица изъявлениями воли».
V
Вопрос о притворных действиях представляется одним из наиболее интересных и наиболее важных в практическом отношении вопросов для юриста, так как во всяком быту притворные действия встречаются более или менее часто. К ним прибегают и с дозволенными, и всего чаще с недозволенными целями. Как часто практиковались они у римлян, где сама юриспруденция пользовалась зачастую ими как средством развития права, не говоря уже о том, что частные лица не упускали случая прибегать к ним в своих личных своекорыстных целях, с этим вполне обстоятельно знакомит нас Иеринг, который ярко нарисовал нам эту печальную сторону римского юридического быта и указал, какая значительная доля вины в развитии искусства обходить при помощи симуляции закон и обманывать других падала на само римское законодательство и на римских юристов: «Во все отношения без различия проскользнул коварный обход, ни одно не было пощажено: брак, родство, честь — все было втащено в грязь ввиду какой-либо скрытной цели. Скандал достиг апогея в период империи, но и доброе старое время не чуждо упрека. Оно показало пример, и на юриспруденцию с ее часто формально нигилистическим направлением падает тяжелая вина». Особенный повод к злоупотреблениям давала сделавшаяся с прекращением родового быта чисто искусственной юридическая организация римской семьи. Кроме того, законодательная власть изданием таких законов, как Lex Voconia, Lex Julia et Papia Poppea и др., которые насильственно вмешивались в частную семейную жизнь, давала повод прибегать к притворным сделкам. Современный юридический быт цивилизованных народов не представляет уже такой печальной картины. Фиктивные сделки, однако, и в этом быту нередки. Всего чаще они здесь совершаются уже не в обход закона, а с целью нарушения прав других лиц (притворное переукрепление, например, имуществ несостоятельными должниками) или с целью с помощью обмана добиться каких-либо выгод (хотя бы уменьшения подлежащих уплате налогов и пошлин). Если верить свидетельству некоторых наших юристов-практиков, то наш отечественный юридический быт страдает особенно значительным развитием в нем фиктивных сделок. В одной из наших больших <1> газет лет десять тому назад была нарисована следующая мрачная картина нашего юридического быта, в котором «свили себе гнездо» фиктивные сделки: «Благодаря им (фиктивным сделкам) кредитор поставлен почти в невозможность получить деньги с должника. Спросите любого адвоката или судебного пристава, и они вам скажут, что из десяти случаев в девяти у ответчиков не оказывается никакого имущества, что чуть не все ответчики живут в чужих квартирах или проживают в каморках роскошных квартир, нанимаемых дальними родственниками, а то так и просто бывшею прислугою. Все это по документам и для кредиторов, а на самом деле должник спокойно платит несколько тысяч за квартиру, а его мнимый хозяин или хозяйка играют скромную роль». Практикуются фиктивные сделки и в других разных случаях и в обход законов (например, закона о частных поверенных, о запрещении евреям держать корчмы и т. п.). ——————————— <1> Новое время. 1884. N 2635.
«Вообще, — заключает автор, — невозможно перечислить формы обманов, которые прикрываются разными законными формами домашних и нотариальных обязательств». Конечно, автор перепустил черных красок, и положение, например, кредиторов у нас на самом деле вовсе не такое уж отчаянное, каким он его рисует, но что притворные сделки составляют заметное и довольно крупное зло в нашей жизни, это во всяком случае несомненно, и здесь есть над чем призадуматься. Успокаиваться на неизбежности этого зла нельзя, когда оно так резко бросается в глаза, что значительное его развитие начинают признавать явлением, характеризующим наше время. Неизвестный автор цитированной статьи видит причину зла, с одной стороны, в неясности законодательства, а с другой — в усвоенной нашими судами привычке буквального толкования законов, благодаря чему ловкие дельцы эксплуатируют неопытных людей. Для спасения от зла автор требует усиления наказания за обман, перечисления в законе случаев наказуемого обмана и особенно рекомендует судам держаться узко формальной точки зрения там, где обман очевиден, хотя и облечен в форму гражданской законной сделки. Но все это меры или трудноосуществимые, или недействительные. Что усиление наказания не в состоянии помочь горю, против этого едва ли можно спорить. Перечисление в законе случаев наказуемого обмана, правда, может иметь значение для людей с неустановившимися нравственными принципами, указав им на безнравственность данного поступка, которой они иногда не сознают, так как могут быть даже склонны видеть в удавшемся обмане пример, достойный подражания. Но разве за самым подробным перечислением случаев наказуемого обмана не останется все-таки обширное поле для обмана ненаказуемого? Разве можно заранее предвидеть и предусмотреть те извороты и кляузы, которые могут придумать ловкие люди в обход закона или в обман кредиторов и третьих лиц, раз это представляется выгодным? Что касается делаемого автором нашим судам упрека в излишней склонности держаться буквального смысла закона, то мы не будем судить, насколько этот упрек справедлив. Впрочем, ничего не было бы удивительного, если бы он оказался вполне верным. От нас недалеко еще то время, когда суды наши обязаны были держаться именно буквального смысла законов. Люди той эпохи еще не все сошли со сцены, не перестали даже раздаваться голоса, сожалеющие о ней. Немудрено, что наши суды не успели еще приобрести надлежащего навыка в новом деле толкования законов по духу, а не по букве. И понятно вместе с тем, что одного совета и даже принятого судьями к сведению держаться не буквы закона, а духа мало. Мало одних наилучших намерений — нужно уменье, которого нельзя еще требовать от молодой и неокрепшей русской юриспруденции. Давно ли в наших университетах кафедры цивилистических наук перестали пустовать и преподавание гражданского права стало вестись везде с большей полнотою? Давно ли стали наши юристы-практики в университетах знакомиться в надлежащей мере с римским правом, да и теперь у многих ли идет это знакомство дальше сведений, взятых из более или менее кратких курсов? Изучение иностранных законодательств и иностранной судебной практики, которым стали было охотно заниматься наши практические юристы в первое время по введении судебных уставов, ныне опять забрасывается ввиду того, что оно не дает изучающему непосредственно осуществимых практических результатов. А между тем этой молодой и неокрепшей практической юриспруденции пришлось и приходится иметь дело с укоренившейся и от предков унаследованной привычкой к обходам и уклонениям от действия законов. Немудрено, что она не всегда оказывалась достаточно умелой при обсуждении доходивших до ее решения случаев притворства <1>. ——————————— <1> Наоборот, часты случаи, где наши суды выходили с честью из затруднения, и выше цит. дело Платовой с Белоусовым, конечно, не единственный этому пример.
Но если бы наша судебная практика и не заслуживала с этой стороны никакого упрека, то и тогда она была бы бессильна бороться с таким злом, как чрезмерное развитие фиктивных сделок. Это последнее вызывается другими причинами, устранить которые и бороться с которыми никакая, даже наиболее развитая юриспруденция не в состоянии. Причины, вызывающие обильное появление фиктивных сделок, лежат, во-первых и прежде всего, в нравственном и экономическом состоянии общества, а затем нередко — во внутреннем состоянии законодательства, содержащего иногда такие определения, которые стесняют оборот и вынуждают искать обхода их, и в то же время дающего иногда легкую возможность достигать законными по внешности путями недозволенных целей. Исследование этих причин и указание средств к устранению их не может, конечно, входить в задачи этого нашего труда.
Печатается по: Дормидонтов Г. Ф. Классификация явлений юридического быта, относимых к случаям применения фикций. Ч. I: Юридические фикции и презумпции. Казань: Типолитография Императорского университета, 1895.
——————————————————————