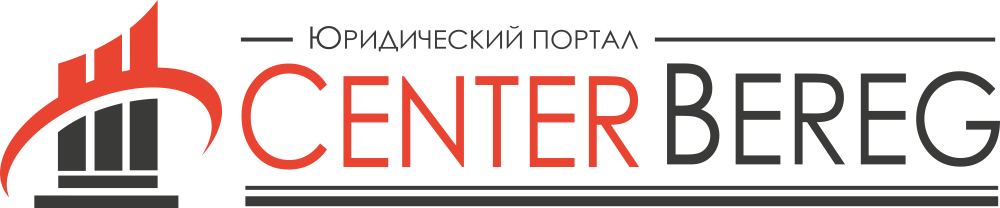К вопросу о воздействии судебного акта на осуществленное через суд материально-правовое притязание
(Володарский Д. Б.) («Вестник ВАС РФ», 2012, N 12)
К ВОПРОСУ О ВОЗДЕЙСТВИИ СУДЕБНОГО АКТА НА ОСУЩЕСТВЛЕННОЕ ЧЕРЕЗ СУД МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ПРИТЯЗАНИЕ
Д. Б. ВОЛОДАРСКИЙ
Володарский Даниил Борисович, ассистент кафедры гражданского процесса юридического факультета СПбГУ.
Автор отстаивает точку зрения, согласно которой судебное решение о присуждении не производит изменения в материальном правоотношении, а принудительная форма его исполнения не имеет самостоятельного материально-правового значения. Из этой посылки следует вывод о недопустимости ограничения свободы сторон самостоятельно и независимо от суда определять судьбу признанных в судебном порядке прав и обязанностей.
Ключевые слова: принудительное исполнение судебного решения, законная сила судебного решения, комплексное правоотношение.
Постановка проблемы
По распространенному в российской правовой доктрине воззрению судебное решение если и может быть признано юридическим фактом материального права, то только при условии, что материальная норма недвусмысленно придает ему соответствующее значение, связывая с его вынесением наступление тех или иных материально-правовых последствий. Такие решения называют преобразовательными, а наличие у них материально-правового содержания, как принято считать, отличает их от всех прочих судебных актов (в том числе подлежащих принудительному исполнению), имеющих сугубо процессуальную природу и потому не способных оказывать какое-либо воздействие на сферу материальных взаимоотношений сторон <1>. Отсутствие у исполнительных решений материального эффекта позволяет говорить о том, что материально-правовое требование истца к ответчику, становящееся предметом принудительной реализации, с вынесением решения не претерпевает каких-либо внутренних изменений и остается тождественным тому состоянию, в котором оно находилось до процесса. ——————————— <1> См.: Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. В. А. Белова. М., 2007. С. 937 (автор очерка 24 — А. В. Бабаев); Гурвич М. А. Решение советского суда в исковом производстве // Избранные труды. Т. 1. Краснодар, 2006. С. 422.
Современная судебная практика, однако, отвергает этот подход. Так, рассуждая о возможности совершить новацию материально-правового притязания, подтвержденного вступившим в законную силу судебным решением, Президиум ВАС РФ указывает, что действительность соответствующего договора обусловлена тем, утвержден он или нет в качестве мирового соглашения <2>. Простого волеизъявления сторон, оформленного в соответствии с гражданским законодательством (ст. 414 ГК РФ), для наступления правопрекращающего эффекта недостаточно, необходима еще санкция суда в форме судебного определения. Такой ход мысли был бы невозможным, если бы Президиум ВАС РФ разделял взгляд о внутреннем тождестве правоотношения, возникшего вне процесса и находящегося теперь в состоянии принудительного осуществления. Утверждение, что такое правоотношение после его судебного подтверждения перестает быть чувствительным к влиянию тех юридических фактов, которые в допроцессуальном его состоянии оказывают на него непосредственное воздействие (что выражается в невозможности его прекращения путем заключения простого соглашения о новации), допустимо лишь при условии, что будет признана произошедшая с правоотношением после вынесения судебного решения внутренняя перемена. ——————————— <2> См. п. 7 информационного письма Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 N 103 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 414 Гражданского кодекса РФ» // Вестник ВАС РФ. 2006. N 4.
Аналогичные выводы могут быть сделаны и в результате анализа судебной практики по делам о возврате налоговых платежей. Как известно, налогоплательщик вправе предъявлять соответствующие требования к налоговому органу в случаях излишней уплаты (п. 1 ст. 78 НК РФ), излишнего взыскания налога (п. 1 ст. 79 НК РФ), а также в рамках процедуры возмещения косвенных налогов (ст. 176, 203 НК РФ). При этом возврат налога не осуществляется, если у налогоплательщика имеется задолженность по иным налоговым платежам перед бюджетом (п. 6 ст. 78, п. 1 ст. 79, п. 4 ст. 176, п. 4 ст. 203 НК РФ). Налоговый орган в таком случае обязан по собственной инициативе произвести зачет суммы, причитающейся к возврату, против обнаруженной недоимки. Если считать верным тезис, что притязание, находящееся в состоянии принудительной реализации, не претерпевает в связи с его процессуальным подтверждением внутренних трансформаций, то право зачесть имеющуюся недоимку в счет возникшей у налогоплательщика переплаты должно сохраниться у налогового органа и в том случае, когда требование налогоплательщика к казне подтверждено вступившим в законную силу судебным решением. Обнаружив на этапе исполнения судебного акта возникшую у налогоплательщика недоимку (что вполне вероятно, учитывая длящийся характер и постоянную изменчивость налоговых отношений), налоговый орган вправе будет, руководствуясь нормами материального права, произвести зачет, прекратив своим односторонним властным волеизъявлением как подтвержденное судом притязание налогоплательщика, так и встречное требование бюджета. Судебная практика, однако, пошла по пути отрицания за налоговым органом соответствующего права, указав, что зачет встречной недоимки по одностороннему решению налогового органа в таких ситуациях будет ничтожным, а для совершения этой операции инспекция должна обратиться в суд с заявлением об изменении порядка и способа исполнения судебного акта (ст. 329 АПК РФ). И лишь после вынесения определения встречные материально-правовые притязания прекратятся <3>. По мнению судов, процессуальное подтверждение материально-правового требования изменяет характер его правового регулирования. Требование о возврате налогового платежа выводится из-под прямого воздействия норм материального права и юридических фактов, с которыми эти нормы связывают возможность его трансформации. Его прекращение путем зачета становится возможным не путем самостоятельного волеизъявления властного участника налогового правоотношения, а посредством вынесения судебного определения, принимаемого по правилам процессуального закона. ——————————— <3> См.: Постановления ФАС Северо-Западного округа от 15.10.2007 по делу N А52-4157/2006; ФАС Северо-Кавказского округа от 28.07.2005 по делу N Ф08-3339/2005; ФАС Московского округа от 24 — 26.07.2006 по делу N КА-А40/6701-06; от 06 — 14.06.2007 по делу N КА-А41/5062-07; ФАС Западно-Сибирского округа от 03.03.2008 N Ф04-1294/2008(1316-А75-14); ФАС Уральского округа от 22.07.2010 N Ф09-5444/08-С3 по делу N А07-13474/2007.
Такой подход, выдвигаемый судебной практикой, нуждается в теоретическом обосновании, ибо на первый взгляд противоречит общепринятому суждению о принципиальной независимости материальных и процессуальных отраслей права, разнородности материальных и складывающихся в процессе их принудительной реализации процессуальных правоотношений <4>. ——————————— <4> См.: Осокина Г. Л. Гражданский процесс. Общая часть. М., 2006. С. 15; Гражданский процесс: Учеб. 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. В. А. Мусина, Н. А. Чечиной, Д. М. Чечота. М., 2000. С. 16 — 17; Бутнев В. В. Роль суда в механизме защиты субъективных гражданских прав и законных интересов // Проблемы защиты субъективных гражданских прав: Сб. науч. тр. / Под ред. В. В. Бутнева. Вып. 10. Ярославль, 2009. С. 18 — 21; Елисейкин П. Ф. Гражданские процессуальные отношения. Ярославль, 1975. С. 7 — 17 и др.
Комплексное правоотношение как результат судебного процесса о принудительной реализации материально-правового притязания
На наш взгляд, подход, выдвигаемый судебной практикой, может получить свое удовлетворительное объяснение только в том случае, если мы докажем, что по результатам судебного процесса спорное притязание, будучи подтверждено судом, трансформируется и приобретает ряд характеристик, свойственных вынесенному в отношении его судебному акту, а именно его окончательность и неизменяемость. Только это и может привести к тому, что любые изменения материального правоотношения становятся возможными в виде исключения тогда, когда такие исключения допускаются для судебного решения, и в тех процессуальных формах, которые предусмотрены для этого процессуальным законодательством. В свою очередь, эта идея будет выглядеть приемлемо, если мы признаем, что судебное предписание о совершении должником тех или иных действий (воздержании от их совершения), изложенное в судебной резолюции, становится частью спорного материального правоотношения. Последнее меняет свою структуру, обогащаясь публично-властной надстройкой, призванной обеспечить возможность его принудительной реализации. Содержание материально-правового требования кредитора становится содержанием адресованного должнику исполнительного приказа суда, а материально-правовая обязанность должника перед управомоченным субъектом дополняется публичной обязанностью перед государством по исполнению судебного акта. При этом кредитор получает право требовать удовлетворения своего материального интереса не только от своего контрагента, но и от государства, обязанного совершить все необходимые действия, направленные на реализацию подтвержденного судом материального правоотношения. Само же правоотношение становится комплексным, ибо помимо первоначальной правовой связи оно приобретает добавочные корреспонденции публично-правового характера. Такая конструкция при условии ее успешного теоретического обоснования позволит объяснить, почему самостоятельные распорядительные действия сторон, совершенные по правилам материального закона, становятся неэффективными для определения дальнейшей юридической судьбы подтвержденного судом правоотношения. Будучи комплексным образованием, это правоотношение для своей модификации будет требовать наступления не только тех обстоятельств, с которыми материальный закон связывает его изменение (прекращение), но и тех юридических фактов, которые необходимы для преобразования публично-властной надстройки, возникшей над изначально существовавшим материальным притязанием. И поскольку такая надстройка есть не что иное, как приказ суда, изложенный в судебном акте, изменение комплексного правоотношения произойдет лишь тогда, когда будет изменено это адресованное должнику судебное предписание. В случае с новацией это произойдет в момент утверждения мирового соглашения (в связи с чем первоначальное решение утратит свою исполнительную силу, будучи заменено новым приказом — исполнить судебное определение об утверждении мирового соглашения). В ситуации с налоговым зачетом его модификация станет возможна только после вынесения определения об изменении порядка и способа исполнения судебного акта. Однако до наступления указанных юридических фактов подтвержденное судом правоотношение, будучи сложным, охватывающим как изначальные материально-правовые связи, так и новый публично-властный элемент, останется неизменным. Отметим, что, если теоретическая правомерность указанной конструкции будет доказана, это будет означать, что материально-правовое значение должно быть признано не только за теми судебными актами, которые выносятся в случае удовлетворения преобразовательных исков (классический подход), но и за исполнительными решениями. Такой вывод неизбежен, ибо их принятие согласно рассматриваемой теории всегда будет влечь за собой изменение самой структуры осуществляемого через суд материально-правового притязания (присоединение публично-властной надстройки), равно как и правового режима его регулирования.
Доводы в пользу конструкции комплексного правоотношения и их критика
Прежде чем представить критический обзор доводов, которые могут быть приведены в защиту изложенной выше гипотетической конструкции, отметим, что идея о возникновении в результате попадания материально-правового притязания в процессуальную плоскость некоего комплексного образования, включающего в себя первоначальную правовую связь и публично-властную надстройку, в различных интерпретациях высказывалась ранее в отечественной правовой науке. Здесь уместно вспомнить смешанную материально-процессуальную концепцию иска проф. А. А. Добровольского, согласно которой притязание истца в связи с предъявлением иска приобретает новую процессуальную форму <5>. В этом же ряду стоят рассуждения О. В. Иванова о возникновении в процессе единого материально-процессуального охранительного правоотношения <6>. Однако наиболее завершенной и наиболее поздней по времени является концепция Е. Я. Мотовиловкера, который настаивает на том, что государство в лице суда становится участником реализуемого через суд материального притязания, вследствие чего последнее неизбежно приобретает новый публично-властный элемент, имеющий материальный характер <7>. Учитывая принципиальное сходство ранее описанной конструкции с построениями, предлагаемыми указанным автором, начнем наши рассуждения с анализа тех доводов, которые он приводит в защиту своей теории. ——————————— <5> См.: Добровольский А. А. Исковая форма защиты права. М., 1965. С. 22 — 48. <6> См.: Иванов О. В. Право на судебную защиту // Советское государство и право. 1970. N 7; Он же. О связи материального и гражданского процессуального права // Правоведение. 1973. N 1. <7> См.: Мотовиловкер Е. Я. Теория регулятивного и охранительного права. Воронеж, 1990. С. 96 и далее.
1. Первый аргумент, выдвигаемый Е. Я. Мотовиловкером, основывается на той идее, что отрицание участия суда в подтвержденном им материальном притязании делает невозможным объяснение того, как такое притязание может быть принудительно реализовано после вынесения судебного решения. Задача суда, по словам автора, заключается не только в том, чтобы «выяснить истину и подтвердить правоотношение; дело суда в том, чтобы вынести определенное решение, осуществить защиту, принудительно реализовать некоторое требование» <8>. Если суд лишь выясняет правоотношение и его решение никак не затрагивает ткани материального правоотношения, для законной силы судебного решения нет места <9>. Суд осуществляет принуждение, участвует в реализации требования истца к ответчику, играет роль силы, заставляющей ответчика совершать должное действие, оказывая истцу помощь в удовлетворении его требования к ответчику <10>. Но как можно осуществлять присуждение, не находясь в том же самом отношении, в котором находится обязанное лицо? «Нельзя оказывать помощь в реализации права требования за пределами того отношения, где оно существует, как нельзя помочь вкрутить лампочку в комнате, где отсутствует проводка» <11>. Поэтому юрисдикционный орган становится участником охранительного правоотношения, складывающегося между материально заинтересованными участниками <12>. ——————————— <8> Там же. С. 98. <9> Там же. С. 100. <10> Мотовиловкер Е. Я. Право на удовлетворение иска как субъективное гражданское право требования (к теории права на иск) // Цивилист. 2010. N 2. С. 105. <11> Там же. С. 105 — 106. <12> Мотовиловкер Е. Я. Теория регулятивного и охранительного права. С. 102.
Такой аргумент кажется весьма убедительным, ибо принудительное исполнение в большинстве случаев предполагает, что материально-правовые действия, обусловленные содержанием притязания кредитора (например, передача взыскателю присужденного ему имущества, перечисление взысканных денежных средств), совершает здесь не должник, а государство, которое, казалось бы, по этой причине не может не стать участником материального правоотношения <13>. А значит, последнее в связи с вынесением судебного решения следует считать приобретшим публично-властную надстройку, в рамках которой и происходит удовлетворение интересов управомоченного субъекта. Так ли это на самом деле? ——————————— <13> Отметим, что, по мнению Е. Я. Мотовиловкера, участником принудительно осуществляемого охранительного притязания является суд. На наш взгляд, с позиции отстаиваемой этим автором концепции уместнее говорить о том, что соответствующим участником следует считать государство, от имени которого действуют суд и органы принудительного исполнения. Участие последних обусловлено тем, что именно они оказывают истцу ту реальную помощь, которая необходима для удовлетворения его требования.
Полагаем, что Е. Я. Мотовиловкер допускает принципиальную ошибку, когда, по сути, отказывается отграничить процессуальные отношения, складывающиеся между участниками процесса и государством на этапе исполнения судебного акта, от принудительно реализуемого материального притязания <14>. Такая ошибка вполне понятна, ибо автономность материальных и процессуальных правоотношений отчетливо заметна лишь на тех стадиях процесса, которые предшествуют вынесению окончательного судебного акта. На этих стадиях участники судопроизводства познают материально-правовую реальность, на нее же саму их деятельность по общему правилу никакого влияния не оказывает. Намного более тонкая грань отделяет материальное от процессуального на этапе исполнительного производства, где действия государства зачастую прямо направлены на реализацию материальных притязаний, а перемещение материальных благ и передача прав на них происходит при прямом участии публичной власти. Однако, на наш взгляд, это не свидетельствует о том, что граница между материальными и процессуальными правоотношениями здесь стирается и возникает конгломерат материально-правовых связей, объединяющих стороны и государство в лице суда и органов принудительного исполнения. ——————————— <14> Е. Я. Мотовиловкер прямо указывает на то, что процесс является лишь условием, а не формой осуществления материального права (см.: Мотовиловкер Е. Я. Теория регулятивного и охранительного права. С. 106). Тем самым он, по сути, отказывает исполнительному производству, которое является не чем иным, как формой реализации подтвержденного судом притязания, в процессуальной природе.
Деятельность указанных органов по непосредственной реализации подтвержденного судом притязания, по нашему мнению, необходимо объяснить путем использования конструкции, аналогичной той, что знакома нам по институту представительства. Как известно, суть представительства заключается в наделении одного лица способностью осуществлять юридически значимые действия от имени и в интересах другого субъекта в его отсутствие либо в связи с нехваткой у него необходимых волевых характеристик. При этом представитель не становится самостоятельным участником материально-правовых отношений, складывающихся между представляемым и его контрагентом, а выполняет лишь служебную, восполняющую функцию — его дееспособность присоединяется к правоспособности отсутствующего лица, что в итоге и приводит к достижению юридически значимого эффекта. Сходными правовыми характеристиками обладает и деятельность по принудительному (т. е. посредством действий государства) осуществлению подтвержденного судом материального притязания. У должника отсутствует воля на выполнение лежащей на нем обязанности. Для ее восполнения приходит публичная власть в лице судебного пристава-исполнителя, компетенция которого заменяет бездействующую дееспособность должника, в связи с чем нехватка воли обязанного субъекта исчезает, а субъективное право взыскателя оказывается реализованным. При этом публичная власть, как и в случае с представительством, не становится участником материального правоотношения, а структура последнего не осложняется публично-властной надстройкой, в рамках которой якобы происходит удовлетворение интересов взыскателя. С точки зрения онтологических характеристик материального правоотношения принудительные действия государства оказываются не чем иным, как действиями самого должника, лишь фактически осуществляемыми другим субъектом, имеющим на то предоставленные законом властные полномочия. Такой подход, как представляется, позволяет четко разграничить материальную и процессуальную составляющие порядка реализации материального притязания, подтвержденного судебным решением. Само по себе материальное субъективное право с вынесением судебного решения никоим образом не изменяется, а все действия по непосредственному осуществлению корреспондирующей с ним юридической обязанности с материально-правовой точки зрения приписываются должнику. В свою очередь, процесс выполняет на данном этапе функцию внешнего инструмента, опосредующего осуществление этих действий помимо воли должника и фактически действиями другого уполномоченного на то законом и конкретным судебным решением субъекта — судебного пристава-исполнителя, в чем, собственно, и находит свое проявление принудительный характер исполнительного производства. Обе части соответствующего механизма, хотя и взаимообусловлены, формируют разные по своей природе правовые связи: материальные — между должником и взыскателем и процессуальные — между ними и органами принудительного исполнения, которые ни в коем случае не объединяются в рамках единого комплексного образования. В правильности изложенного нами подхода можно убедиться, проанализировав механизм исполнения судебного решения о принудительной реализации обязанности продавца по передаче индивидуально-определенной вещи покупателю. Задача пристава здесь заключается в том, чтобы обеспечить переход правового титула на вещь от одной стороны договорного отношения к другой. Если придерживаться критикуемой нами точки зрения, согласно которой государство в лице органов принудительного исполнения играет самостоятельную роль в материально-правовом отношении, следует сказать, что именно его действия, а не действия неисправного должника приводят к переходу права собственности на вещь от должника к взыскателю в материально-правовом смысле. Вместе с тем ГК РФ не устанавливает, что переход титула на передаваемую по обязательству вещь возможен путем принудительного ее отнятия и передачи кредитору судебным приставом-исполнителем. Напротив, ст. 224 ГК РФ недвусмысленно определяет, что традиция осуществляется путем вручения вещи отчуждателем приобретателю, т. е. в рамках существующей между ними договорной связи, не устанавливая каких-либо исключений для случаев принудительной реализации требования кредитора о передаче индивидуально-определенного имущества. Такая позиция законодателя может получить свое объяснение лишь в контексте отстаиваемого нами подхода о принципиальном разграничении материальных и процессуальных отношений, складывающихся в ходе исполнительного производства. Ибо если орган принудительного исполнения не становится субъектом подтвержденного судом правоотношения, а его процессуальные действия по принудительному осуществлению субъективного права с материально-правовой точки зрения приписываются должнику как участнику соответствующего обязательства, не имеет значения, кем фактически будет осуществлена традиция: приставом или обязанным субъектом непосредственно. И в том и в другом случае юридически это будет вручение вещи отчуждателем приобретателю, что и установлено ст. 224 ГК РФ <15>. ——————————— <15> Отметим, что сходной позиции придерживается А. А. Павлов: «Действия компетентных государственных органов, по сути, выступают как некий суррогат необходимых действий должника по исполнению принятой на себя обязанности. С помощью подобного «суррогата» законодатель фингирует волеизъявление должника на совершение требуемого исполнения. Таким образом, пассивность должника является в рассматриваемом случае несколько условной и представляет собой естественный элемент механизма реализации присуждения к исполнению обязанности в натуре» (Павлов А. А. Присуждение к исполнению обязанности в натуре как способ защиты гражданских прав в обязательственных правоотношениях. СПб., 2001. С. 121 — 122). Характеризуя процессуальный порядок реализации решения суда о присуждении индивидуально-определенной вещи (ст. 398 ГК РФ), он указывает: «В соответствии со ст. 223 ГК РФ право собственности <…> возникает у приобретателя по договору только в силу traditio, следовательно, даже вступившее в законную силу решение суда об отобрании вещи само по себе не создает вещного права на нее у кредитора и не прекращает вещного права должника. Только фактическое отобрание вещи от последнего при помощи компетентных государственных органов и передача ее истцу (кредитору) могут расцениваться в качестве некоего суррогата traditio со всеми вытекающими последствиями (выделено нами. — Д. В.)» (Указ. соч. С. 128). Отличие нашей точки зрения от высказанной А. А. Павловым заключается лишь в том, что действия государственного органа, направленные на удовлетворение интереса взыскателя, представляют собой не суррогат действий должника. В контексте осуществляемого правоотношения они являются непосредственно действиями самого должника, хотя с процессуальной точки зрения пристав и действует от имени публичной власти.
Сторонники же концепции комплексного правоотношения вынуждены будут искать нормы, посвященные некоему публично-правовому аналогу традиции, с тем чтобы обосновать возможность перехода титула от должника к взыскателю путем совершения действий по передаче вещи без участия должника судебным приставом-исполнителем как самостоятельным субъектом подтвержденного судом материального притязания. На наш взгляд, такие поиски окончатся для них безрезультатно. Так, нельзя обосновать существование особой «принудительной традиции» ссылкой на ст. 237 ГК РФ, ибо она, указывая на судебное решение как на основание принудительного отчуждения имущества должника, распространяется лишь на случаи его реализации третьим лицам, не являвшимся участниками осуществляемого через суд материально-правового притязания <16>. ——————————— <16> См.: Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части первой (постатейный) / Под ред. С. П. Гришаева, А. М. Эрделевского. Подготовлен для системы «КонсультантПлюс». Комментарий к ст. 237 (автор комментария — К. И. Скловский) // СПС «КонсультантПлюс».
Положение ст. 398 ГК РФ, согласно которой индивидуально-определенная вещь в случае неисполнения должником своего обязательства отбирается у него и передается кредитору, также не может быть истолковано в качестве дополнения к ст. 224 ГК РФ. Намерение законодателя при формулировании данной нормы заключалось в том, чтобы указать на возможность реального исполнения как на меру защиты управомоченного лица при возникновении соответствующих ситуаций, а не в том, чтобы сформировать дополнительный вещно-правовой инструмент для перехода права собственности. Это следует хотя бы из того, что рассматриваемая норма помещена в главе ГК РФ, посвященной вопросам ответственности за нарушение обязательств <17>. ——————————— <17> В этом смысле следует не согласиться с Д. О. Тузовым, который считает, что «отобрание» вещи по ст. 398 ГК РФ не равнозначно традиции по ст. 223 ГК РФ, которая всегда осуществляется на добровольных началах. По его мнению, отобрание есть реализация некоего особого охранительного притязания кредитора (см.: Тузов Д. О. Теория недействительности сделок: опыт российского права в контексте европейской правовой традиции. М., 2007. С. 346, сн. 33). На наш взгляд, конструирование особого притязания здесь излишне, ибо обязанность передать вещь наличествовала и до нарушения права (в рамках неисполненного должником регулятивного правоотношения). Статья 398 ГК РФ указывает лишь на то, что по суду можно требовать исполнения именно нарушенного регулятивного субъективного права, а не ограничиваться взысканием убытков, возникших вследствие нарушения. Кроме того, существование правила ст. 398 ГК РФ никоим образом не противоречит главной мысли Д. О. Тузова о том, что традиция является волевым актом и не может быть осуществлена против воли собственника. Действительно, в тех случаях, где отобрание осуществляется путем самозахвата, право собственности перейти не может: воля собственника на переход права отсутствует. Однако ст. 398 ГК РФ говорит о публично санкционированном отобрании, т. е. таком, при котором отсутствие волеизъявления первоначального собственника не имеет существенного значения, так как его волеизъявление замещается волеизъявлением публичного субъекта. Это позволяет нам говорить об абсолютном тождестве такого отобрания и традиции по п. 1 ст. 223 ГК РФ, которая не утрачивает при этом характера волевой сделки.
Точно так же нельзя рассматривать в качестве материально-правовой нормы, посвященной правилам «принудительной традиции», и ст. 88 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее — Закон об исполнительном производстве), определяющую порядок исполнения судебных решений о взыскании индивидуально-определенных вещей. Действие указанной нормы не ограничивается вопросами исполнения решений по искам о передаче вещи в собственность, она определяет также порядок исполнения решений по виндикационным искам, искам, вытекающим из договоров временного пользования имуществом. Последние направлены лишь на восстановление непосредственного хозяйственного господства взыскателя над вещью, а не на передачу правового титула от должника к взыскателю. И следовательно, эта норма вовсе не определяет материально-правовой режим «принудительной традиции», которой в действительности не существует, а всего лишь регламентирует процессуальное поведение судебного пристава-исполнителя по поводу того, каким образом он должен обеспечить вступление взыскателя в фактическое владение присужденным имуществом. Таким образом, конструкция комплексного правоотношения не может быть введена на том основании, что без нее окажется невозможным объяснить участие государства в принудительном осуществлении подтвержденного судом материально-правового притязания. 2. Второй довод Е. Я. Мотовиловкера в пользу идеи об участии суда в подлежащем принудительному осуществлению материальном притязании строится на анализе правового института защиты гражданских прав. Как следует из положений ст. 12 ГК РФ, этот институт является материально-правовым, а сама защита осуществляется в большинстве случаев судом (ст. 11 ГК РФ). Когда суд выносит решение, он руководствуется нормами материального права. Поэтому требованием истца к ответчику защита не ограничивается, она должна включать в себя также требования истца к суду, так как именно в результате удовлетворения соответствующего требования становится возможной защита как принуждение к исполнению обязанности <18>. Таким образом, суд участвует в защите, или, что то же самое, в удовлетворении материально-правового интереса потерпевшего. И следовательно, он должен быть назван участником принудительно осуществляемого материального правоотношения <19>. ——————————— <18> Мотовиловкер Е. Я. Теория регулятивного и охранительного права. С. 94. <19> Мотовиловкер Е. Я. Право на иск как субъективное гражданское право (история возникновения и прекращения) // Юридические записки Ярославского государственного университета. Вып. 7. Ярославль, 2003. С. 75.
На наш взгляд, этот довод ученого также не выдерживает критики, поскольку игнорируется то обстоятельство, что термин «защита» является многозначным и употребляется в законодательстве в двух различных смыслах. В процессуальном — когда речь идет о праве на судебную защиту, и в материальном — когда говорится о мерах или способах защиты. В материальном смысле соответствующий термин употребляется как указание на способ, которым защищается нарушенное право или интерес управомоченного субъекта. В одних ситуациях он представляет собой право на собственные действия потерпевшего (самозащита, меры оперативного характера, преобразовательные полномочия), в других — предстает в виде права требования, адресованного нарушителю. В последнем случае способ защиты представляет собой не что иное, как материальное притязание, связывающее между собой управомоченного и обязанного субъектов. При этом участие государственной власти для его реализации не является безусловно необходимым. В тех же случаях, когда государство принуждает должника к совершению определенных действий, его помощь, как мы отмечали выше, носит внешний, замещающий характер. Участником материального правоотношения оно от этого не становится. В процессуальном смысле защита получает значение права на рассмотрение дела, которое в дальнейшем может трансформироваться в право на вынесение положительного решения и затем в право на принуждение. Это право нельзя смешивать с реализуемым в процессе материальным притязанием (иначе именуемым способом защиты), ибо оно отличается от него по основаниям своего возникновения, по субъекту, которому оно адресовано, и по своему содержанию <20>. Какая-либо материально-правовая составляющая при реализации процессуального права на защиту отсутствует, а то, что суд при вынесении решения применяет нормы материального права, является следствием исполнения лежащей на нем процессуальной, а не материально-правовой обязанности (ст. 196 ГПК РФ, ст. 168 АПК РФ) <21>. ——————————— <20> Во-первых, оно, в отличие от материального права требования, возникает не из факта правонарушения (иного факта материального права), а из утверждения заявителя о том, что такие обстоятельства имели место в действительности, оформленного в исковом заявлении и представленного в надлежащим порядке на рассмотрение суда. Во-вторых, оно адресовано государству в лице суда (и органов принудительного исполнения — на стадии исполнительного производства), а не ответчику. В-третьих, его наличие легитимирует обладателя на совершение органами публичной власти ряда процессуальных, а не материальных действий: при предъявлении иска — на справедливую организацию судебного разбирательства, в дальнейшем, при условии успешного ведения процесса, — на вынесение положительного решения и потом — на эффективную и своевременную реализацию судебной резолюции. <21> Как правильно указал В. В. Бутнев, «если суд отказал в удовлетворении иска в том случае, когда иск должен быть удовлетворен, то он нарушил не материальную охранительную обязанность <…>, а свою процессуальную обязанность по отправлению правосудия» (см.: Бутнев В. В. Понятие механизма защиты субъективных гражданских прав // Механизм защиты субъективных гражданских прав. Ярославль, 1990. С. 13).
3. В пользу возникновения по итогам процесса публично-властной надстройки над материальным притязанием может быть интерпретировано наличие в законодательстве норм об исполнительском сборе как мере ответственности за неисполнение судебного акта в добровольном порядке (ст. 112 Закона об исполнительном производстве) <22>. Тот факт, что исполнительский сбор взыскивается в доход государства, дает основания утверждать, что вследствие вынесения судебного решения к первоначальному материальному требованию добавляется новая правовая корреспонденция с участием государства, а обязанность должника начинает связывать его не только перед лицом должника, но и перед лицом публичной власти. Так ли это в действительности? ——————————— <22> На правовую природу исполнительского сбора как меры юридической ответственности указывает КС РФ в Постановлении от 30.07.2001 N 13-П «По делу о проверке конституционности положений подпункта 7 пункта 1 статьи 7, пункта 1 статьи 77 и пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в связи с запросами Арбитражного суда Воронежской области, Арбитражного суда Саратовской области и жалобой открытого акционерного общества «Разрез «Изыхский».
Прежде всего отметим, что гипотеза нормы о взыскании исполнительского сбора охватывает случаи неисполнения должником исполнительного документа в отведенный судебным приставом-исполнителем срок для добровольного исполнения (ч. 1 ст. 112 Закона об исполнительном производстве). Пристав, таким образом, наказывает должника не за неисполнение самого по себе судебного решения, а за несоблюдение предписания, вынесенного в момент возбуждения исполнительного производства. Если предположить обратное, наказание должно было налагаться безотносительно к тому, было вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства или нет. Именно тот факт, что возникшая из судебного решения публично-правовая обязанность проигнорирована должником, должен был бы являться достаточным основанием для наложения на должника взыскания. Более того, и КС РФ в своем Постановлении от 30.07.2001 N 13-П указывает на то, что исполнительский сбор есть мера ответственности за правонарушение, совершенное в исполнительном производстве, т. е. не связывает его взыскание напрямую с невыполнением судебного акта <23>. ——————————— <23> Мотивировочная часть Постановления КС РФ от 30.07.2001 N 13-П, п. 3.
Более принципиальными представляются нам следующие соображения. В названном Постановлении КС РФ указывает, что помимо интереса лица, обратившегося за судебной защитой, в восстановлении своих прав существует также конституционно значимый публично-правовой интерес государства и общества в осуществлении эффективного правосудия в целях защиты и восстановления нарушенных прав <24>. Это утверждение позволяет сделать вывод, что соответствующий публично-правовой интерес опосредуется особым субъективным правом государства по отношению к должнику требовать исполнения вынесенного и вступившего в законную силу судебного решения <25>. ——————————— <24> Там же, п. 5. <25> Указание на соответствующий интерес содержится и в иных актах КС РФ. Так, в Определении от 20.12.2005 N 532-О Суд, рассматривая вопрос о конституционности направления исполнительных документов непосредственно в банки и иные кредитные организации, говорит, что существование упрощенных форм принудительного исполнения «соответствует задаче реализации конституционно значимого публично-правового интереса государства и общества при осуществлении эффективного правосудия в целях защиты и восстановления нарушенных прав».
Оценивая это утверждение, заметим, что тезис о существовании самостоятельного интереса государства в исполнении судебных решений не является самоочевидным и по крайней мере требует согласования с общепризнанной идеей о диспозитивности исполнительного производства. Однако даже если допустить, что вышеуказанный интерес, а вместе с ним и публично-правовая обязанность должника исполнить судебный акт действительно существуют, это отнюдь не будет означать, что корреспондирующее с такой обязанностью право государства становится частью, элементом существовавшего прежде материально-правового отношения, что выводит его из-под непосредственного воздействия применимых к нему норм материального права. Во-первых, интерес государства если и наличествует, то заключается именно в восстановлении нарушенных материальных прав. Это принципиально важно, ибо КС РФ не говорит о придании субъективным правам, осуществляемым в процессе, нового качества, наделении их частицей публично-правовой природы, а лишь указывает на то, что государство должно обеспечить их реализацию в том виде, в котором они существовали до и вне процесса <26>. ——————————— <26> В этом смысле показательно Определение КС РФ от 01.10.2009 N 1312-О-О, в котором, рассуждая о возможности перераспределения бюджетных средств в случае превышения взысканных судами сумм над объемом соответствующих бюджетных ассигнований, Суд указал на недопустимость произвольного придания приоритета обязательствам, подтвержденным судебными актами, над другими обязательствами публичного образования перед населением. Судебное подтверждение правоотношения, по мысли КС РФ, не придает им новое качество, не делает их сильнее, важнее всех прочих правоотношений, не улучшает и не видоизменяет их материально-правовую природу.
Во-вторых, интерес государства в исполнении судебного решения не может иметь самостоятельного значения и в любом случае должен считаться производным от материально-правового интереса взыскателя. Это очевидно, ибо принудительное исполнение подчинено принципу диспозитивности и невозможно без поддерживающего его волеизъявления материально заинтересованного лица. Гарантии судебной защиты, предусмотренные ст. 46 Конституции РФ и ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, действуют в интересах участников материальных правоотношений и предполагают, что необходимость в соответствующей правоохранительной деятельности государства существует лишь для целей их защиты. Поэтому первично субъективное право материально заинтересованного лица, а провозглашаемый КС РФ интерес государства в исполнении решения вторичен, служит первому, не является самоцелью и, следовательно, принципиально не может влиять на материально-правовую судьбу правоотношения. Производный интерес государства в исполнении решения не может оправдать того, что стороны перестают быть полновластными участниками соответствующих отношений, а любое его изменение для получения легитимности требует публичного санкционирования. Такое положение вещей означало бы, что средство (публично-правовое принуждение) начинает диктовать свои условия цели (реализация субъективных прав). А это представляется недопустимым. Таким образом, наличие меры публично-правовой ответственности за неисполнение исполнительного документа в добровольном порядке не позволяет нам прийти к выводу, что публичная власть начинает играть самостоятельную роль в правоотношении, подтвержденном судебным решением.
О соотношении субъективного права и судебного решения
Вышесказанное требует от нас предельно четкого разъяснения по вопросу о том, какое место по отношению друг к другу занимают субъективное право и подтверждающее его существование судебное решение. В связи с этим нельзя не упомянуть о дискуссии относительно существа судебного решения, которая велась в процессуальной науке прошлого века между сторонниками теории приказа и теории декларации. Согласно первой концепции судебное решение всегда имеет не только процессуальное, но и материально-правовое значение. Это объяснялось, во-первых, тем, что состязательный процесс во многом непредсказуем, нахождение объективной истины хотя и является его благородной целью, но не всегда достижимо. По результатам процесса многие юридические факты, имевшие место в действительности, могут оказаться неустановленными и, наоборот, может быть признано то, что в реальности никогда не происходило. Нужна материально-правовая новирующая causa, которая очищала бы предшествующий допроцессуальный материально-правовой состав от имевших место, но не установленных судом юридических фактов и оправдывала бы придание юридического значения фактам, не имевшим место в действительности, но судом, пускай и ошибочно, установленным. В качестве такого юридического основания и выступает судебное решение. Кроме того, исполнительное производство со всеми совершаемыми, по сути, материально-правовыми действиями публичного характера по принуждению должника к исполнению судебного решения также нуждается в собственной материальной causa, коей выступает судебный акт. Он порождает публичную обязанность должника перед государством исполнить изложенное в нем предписание <27>. ——————————— <27> Эта теория в разных модификациях имела множество сторонников в немецкой юриспруденции: Unger, Hellwig, Laband, Langheineken, Pagenstecher. Русскоязычному исследователю соответствующая проблематика знакома благодаря полемизировавшим с ними сторонникам деклараторной теории (см.: Гордон В. М. Иски о признании. Ярославль, 1906. С. 1 — 21; Яблочков Т. М. Судебное решение и спорное право // Вестник гражданского права. 1916. N 7. С. 26 — 62; Гурвич М. А. Право на иск // Избранные труды. Т. 1. С. 19 — 50).
Сторонники деклараторной теории, напротив, исходили из того, что задачей суда главным образом является построение силлогизма, суждения о спорной ситуации, посылками которого служат фактические обстоятельства и норма права. Суд на основании установленных в состязательном процессе фактов лишь высказывает свою точку зрения на существо отношений. Его мнение, конечно, отличается от мнения любого другого мыслящего субъекта, так как представляет собой мнение органа, специально уполномоченного государством осуществлять соответствующую интеллектуальную деятельность. Однако обязательность и принудительное значение его точки зрения — это эффект не судебного акта, а нормы права, действие которой в данной конкретной ситуации было подтверждено судебным решением. Исполнительное производство, которое следует за положительным решением о присуждении, есть проявление силы установленного судом притязания. Оно, т. е. констатированное судом субъективное право, а не судебное решение, требует от должника осуществления действий, направленных на удовлетворение интереса кредитора. Судебное решение, таким образом, имеет лишь процессуальное значение и не является юридическим фактом материального права <28>. ——————————— <28> Гордон В. М. Иски о признании. С. 18 — 20. Об этом также см.: Чечина Н. А. Норма права и судебное решение // Избранные труды по гражданскому процессу. СПб., 2004. С. 153.
Нетрудно заметить, что теория судебного приказа перекликается с концепцией комплексного правоотношения в той ее части, в которой она объясняет возможность развертывания принудительной деятельности государства через придание судебному акту материально-правового значения. В свою очередь, деклараторная теория корреспондирует с отстаиваемым нами воззрением о том, что судебное решение не производит изменения в материальном правоотношении, а принуждение не имеет самостоятельного материально-правового значения <29>. ——————————— <29> Наиболее ценным в деклараторной теории, на наш взгляд, является то, что она рассматривает судебное решение в качестве рефлекторного отражения того материального правоотношения, принудительную реализацию которого оно призвано осуществить. Как афористично отмечал проф. В. М. Гордон, «роль суда и юридическое значение его решения аналогичны роли и значению фотографа. Когда фотограф проявляет то, что уже есть на пластинке, он не делает того, что он хотел бы изобразить, но делает лишь видимым, ясным то, что существовало и раньше в форме, для человеческого глаза недоступной. Когда судья постановляет решение, он констатирует лишь то правовое состояние, которое уже существовало согласно объективному праву, но не было, быть может, ясно и определенно» (Гордон В. М. Иски о признании. С. 20).
Вместе с тем деклараторная теория не должна быть понята упрощенно в том смысле, что и до, и после вынесения судебного решения силой, которая обеспечивает удовлетворение интереса взыскателя, опосредованного осуществляемым в процессе субъективным правом, является исключительно норма материального права. Не вызывает сомнений, что объективное материальное право продолжает действовать в отношениях между должником и взыскателем и после вынесения судебного решения в той же мере, как на допроцессуальной стадии развития правоотношения, и что процессуальная форма является внешней по отношению к реализуемому в ней притязанию. Однако нельзя забывать о том механизме процессуального принуждения, возможность использования которого открывается в связи с вступлением решения в законную силу и посредством которого оказывается воздействие на волю обязанного субъекта, в том числе путем прямого ее замещения волей государства в лице судебного пристава-исполнителя. В этом смысле помимо деклараторного элемента судебного решения (рефлекс субъективного материального права) существует необходимость также говорить о приказывающем его элементе, но (и это принципиально важно!) имеющем сугубо процессуальную природу. Приказ суда ни в коем случае не воплощается в самостоятельном материальном правоотношении либо в некоей публично-властной надстройке над спорным правопритязанием. Он есть лишь процессуальное указание судебному исполнителю совершить необходимые процессуальные действия, способствующие реализации судебного решения. Точнее, приказ адресован не должнику и взыскателю (с них достаточно материального правоотношения, их связывающего и предписывающего им определенное поведение), а лицу, которому надлежит обеспечить исполнение судебного решения, и является процессуально-правовым титулом, делающим возможным открытие принудительного этапа юрисдикционной защиты <30>. ——————————— <30> Следует полностью согласиться со следующим высказыванием проф. М. А. Гурвича: «В этом решении (решении о присуждении. — Д. В.) суд подтверждает право требования в том состоянии, в котором оно по материальному закону может быть исполнено в отношении должника (ответчика), и приказывает органу принудительного исполнения (как правило, по заявлению истца) применить по отношению к ответчику законные меры принуждения, то есть осуществить его обязанность помимо и независимо от его воли (выделено нами. — Д. В.).» (Гурвич М. А. Судебное решение // Избранные труды. Т. 1. С. 476).
Такой взгляд соответствует единственно правильному воззрению на то, как должны соотноситься субъективное материальное право и судебное решение, посредством которого такое право получает возможность быть осуществленным в принудительном порядке. Ценность гражданского судопроизводства никогда не заключается в нем самом. Его следует считать лишь средством, при помощи которого получают свою защиту существующие во внепроцессуальной действительности права, свободы и законные интересы граждан и иных лиц, которые собственно и представляют собой наиболее значимую ценность, цель правоприменительной деятельности государства <31>. В связи с этим главной задачей публичного вмешательства является создание ситуации, при которой субъективные права участников общественных отношений не нарушаются, а, напротив, реализуются во всем богатстве своих возможных проявлений. А если так, то правильным будет утверждение, что процессуальная форма, призванная способствовать беспрепятственной жизни субъективных материальных прав, не может становиться фактором, блокирующим реализацию каких бы то ни было возможностей, предопределенных их содержанием и положениями применимых к ним норм материального права. ——————————— <31> Как указывал Р. Е. Гукасян, «процессуальное право без материального бесцельно, а материальное право без процессуального бездейственно» (Гукасян Р. Е. Соотношение материального и процессуального права — важнейшая проблема юридической науки на современном этапе // Избранные труды по гражданскому процессу. М., 2008. С. 355).
Заключение
Все вышесказанное позволяет нам утверждать, что волеизъявления участников материального правоотношения, направленные на его изменение или прекращение, которые во внепроцессуальной действительности не требуют судебного санкционирования, не будут нуждаться в нем и в тех случаях, когда правоотношение в связи с принятием судебного решения получило публичное подтверждение. Процессуальная реализация субъективного права не влечет изменения его правовой природы и режима его правового регулирования. И потому новация, осуществляемая на этапе исполнительного производства, должна считаться действительной и без утверждения совершаемого сторонами соглашения в качестве мирового (ст. 414 ГК РФ). А налоговый орган вправе самостоятельно зачесть возникшую после вынесения судебного акта недоимку в счет подтвержденного судом права требования о возврате налога, ибо соответствующее право предоставлено ему налоговым законодательством (п. 6 ст. 78, п. 1 ст. 79, п. 4 ст. 176, п. 4 ст. 203 НК РФ). Почему же судебная практика избрала иной путь, который, как мы показали, не имеет под собой выдерживающего критики теоретического основания? Полагаем, суды, указывая на то, что любое изменение материального правоотношения на этапе его принудительного осуществления возможно лишь с согласия суда, пытались решить следующую сугубо утилитарную проблему. Предоставление сторонам возможности самостоятельно влиять на судьбу подтвержденного судом притязания способно породить ситуации, когда процессуальная надстройка, содержание которой определяется содержанием судебной резолюции, перестанет соответствовать изменившемуся материальному положению сторон. Судебное решение формально будет оставаться неисполненным, в то время как материальные предпосылки для его реализации ввиду наступления право-прекращающего (правоизменяющего) факта отпадут. Возможность возникновения таких ситуаций вызвана тем, что сами по себе взаимные действия участников спорного правоотношения, направленные на прекращение (изменение) подтвержденного судом притязания (в наших ситуациях — заключение внесудебного новационного соглашения, осуществление внесудебного налогового зачета), порождая материальные последствия, не оказывают непосредственного воздействия на процессуальную сферу и автоматически не влекут утрату судебным решением своей исполнительной силы. Для придания им соответствующего значения необходимо принятие опосредующего процессуального акта, которым были бы констатированы произошедшие с материальным правоотношением изменения и, как следствие, провозглашена неосновательность дальнейшей реализации судебного решения <32>. Действующим процессуальным законодательством, однако, не предусмотрен специальный механизм, посредством использования которого судебное решение лишалось бы своего исполнительного эффекта ввиду прекращения (изменения) подтвержденного судом притязания. В итоге под угрозой оказываются интересы должника, ибо недобросовестный взыскатель, пользуясь тем, что исполнительный документ формально остается непогашенным, сможет предъявить его к взысканию и, несмотря на прекращение принадлежавшего ему требования, получить у противоположной стороны то, на что он более неуправомочен. ——————————— <32> Процессуальный юридический режим, имея публично-правовую природу, предполагает, что возникновение, изменение и прекращение процессуальных отношений возможно лишь с санкции органа публичной власти (см.: Чечина Н. А. Гражданские процессуальные отношения // Избранные труды по гражданскому процессу. СПб., 2004. С. 66 — 71).
Самый простой способ решить эту проблему — запретить совершение любых правопрекращающих (правоизменяющих) действий без получения на то предварительной процессуальной санкции суда. В этом случае рассогласованность материального основания и процессуальной надстройки не может возникнуть в принципе. Именно по этому пути и пошла современная судебная практика. Но, как мы показали, такое решение является неудовлетворительным, потому что в результате искажается материально-правовой режим регулирования подтвержденного судом правоотношения, а стороны лишаются возможности самостоятельно и независимо от суда определять судьбу принадлежащих им прав и обязанностей. Поэтому перед исследователями стоит задача выработки такого подхода, согласно которому стороны не будут ограничиваться в свободе осуществления принадлежащих им распорядительных прав, но при этом их самостоятельное, без участия суда, осуществление не будет создавать опасность неосновательного вторжения в сферу материальных интересов должника <33>. ——————————— <33> Как мы уже сказали, само по себе прекращение подтвержденного судом притязания автоматически не погашает исполнительный эффект судебного решения, чем может воспользоваться недобросовестный взыскатель.
Отметим, что в германском законодательстве (§ 767 Гражданского процессуального уложения Германии) эта проблема решается посредством предоставления должнику возможности поставить перед судом вопрос об утрате исполнительной силы решения ввиду исчезновения материально-правовых предпосылок для его дальнейшей реализации <34>. Такое средство защиты именуется иском против принудительного исполнения, а его наличие позволяет обеспечить полную свободу сторон при осуществлении ими действий, направленных на прекращение (изменение) подтвержденных судом правоотношений, без опасения, что их совершение без участия суда создаст угрозу принудительной реализации утратившего свою материальную обоснованность исполнительного документа. ——————————— <34> См.: Гражданское процессуальное уложение Германии / Под ред. В. Бергмана. М., 2006. С. 258.
В дальнейших исследованиях необходимо будет определиться с тем, может ли эта модель быть воспринята современным российским правом (в частности, совместима ли она с выработанным отечественной доктриной учением о законной силе судебного решения) или мы должны разработать свои собственные инструменты защиты прав должника от неосновательного исполнительного действия судебного акта. При этом сам факт, что такие механизмы должны быть выработаны, не вызывает сомнений, поскольку без их наличия тождественность правового регулирования правоотношений, находящихся на допроцессуальной стадии развития и получивших судебное подтверждение, как показывает судебная практика, оказывается под угрозой, что не имеет оправдания ни с научной, ни с практической точки зрения.
——————————————————————