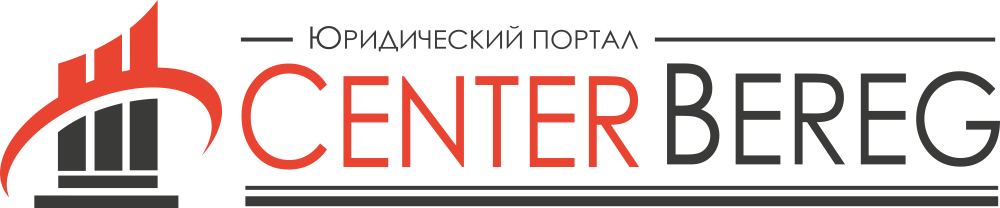Российское правосудие на страницах «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского
(Днепровская И. В.) («Юридическое образование и наука», 2007, N 2)
РОССИЙСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА СТРАНИЦАХ «ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ» Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
И. В. ДНЕПРОВСКАЯ
Днепровская И. В., кандидат философских наук.
Достоевский пристально следил за становлением новой судебной системы в пореформенной России 60-х годов XIX в. При этом будничная хроника судебных заседаний разворачивалась на страницах его дневника в анализ духовного состояния общества. В. Розанов отмечал умение Достоевского в фактах повседневности обнаруживать непреходящий смысл: «Великая… сила Достоевского заключалась в том, что он, например, вот «в последнем деле в окружном суде» усматривал самую «душу мира» <1>. ——————————— <1> Розанов В. В. Собр. соч. Легенда о великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. М., 1996. С. 490.
Анализ писателем правовых явлений сосредоточен в основном на вопросах соответствия нормативной природы права экзистенциальной глубине личности и определения в связи с этим границ правового бытия человека; выявления духовных смыслов правового поведения и метафизических оснований преступления. Достоевский исходит из диалогичной природы человека, он определяет духовность как сопричастность «другому» миру, Богу. Диалогичность проявляется как особая форма взаимодействия между равноправными и равнозначными сознаниями. Отсюда и право проявляется как результат взаимодействия многих равноправных и полноценных сознаний. Именно с этих позиций ведется Достоевским критика современной ему судебной практики, основанной на «теории среды», сторонники которой отказывали преступнику в «социальной вменяемости», т. е. не признавали его социально ответственной личностью, объясняя преступление не сознательным выбором, а пороками общества. Судебный анализ — это не анализ поступков (явления сознания) в свете сознания законодателя (абстрактного общественного сознания, закрепленного в норме) или теоретического сознания (сознания правоведов, адвокатов, выраженного в постулатах той или иной теории, например «теории среды»), а анализ взаимодействия равноправных сознаний: судья, преступник, адвокат, жертва, присяжные — все они выступают носителями ценностных смыслов, каждый из которых имеет право на признание. Право есть способ обеспечения взаимности этого признания, а не признания одного за счет другого. Именно признание Раскольникова вполне вменяемым и обладающим правом обнаруживать перед обществом открываемые его сознанием смыслы позволило Порфирию Петровичу раскрыть преступление. Преступным является не сознание и не открываемые им смыслы, преступным было отрицание Раскольниковым права других на их собственные смыслы (зачем живет такой человек, как старуха-процентщица?). Анализ Достоевским современной ему судебной практики преодолевает крайности, когда оправдывается не человек, а преступление, когда преступление трактуется как результат действия среды, а не личного выбора. Такой взгляд основан на обезличенном восприятии права и отрицании свободы выбора за личностью: «…возвещается… судом же, что совсем, дескать, нет преступления… есть только болезнь, происходящая от ненормального состояния общества, — мысль до гениальности верная в иных частных применениях и в известных разрядах явлений, но совершенно ошибочная в применении к целому и общему, ибо тут есть некоторая черта, которую невозможно переступить, иначе пришлось бы совершенно обезличить человека, отнять у него всякую самость и жизнь, приравнять его к пушинке, зависящей от первого ветра, одним словом, возвестить как бы какую-то новую природу человека, теперь только что открытую какой-то новой наукой…» <2>. ——————————— <2> Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Ленинград, 1976. Т. 23. С. 137 — 138.
Сравнивая суд присяжных в России и Англии, Достоевский отмечает неспособность русских присяжных возвыситься до гражданина, подняться выше обыденной жизни. Задача суда — установить истину и вынести решение о виновности. Требование к присяжным возвыситься до гражданина есть апелляция не к лично значимым только ценностям и чувствам, а к общезначимым. Право творится в трехсторонней коммуникации «я — ты — общество». Именно в судебном заседании необходимо присутствие в правовой коммуникации помимо «я» (присяжный заседатель) и «ты» (обвиняемый) «любого» (общества) в качестве инстанции. Без этого права нет, а есть произвол, самовольство: «…наши мужички будут сидеть и про себя замалчивать: захочу — оправдаю, не захочу — в Сибирь» <3>. Недаром и глава в «Братьях Карамазовых», где оглашается приговор Дмитрию, называется «Мужички за себя постояли». Не за правду, а за себя, т. е. за свой социальный интерес против «барина», но не за человека. Неумение видеть присутствие в праве «любого» приводит к несправедливости и жестокости в отношении к конкретному «ты». ——————————— <3> Достоевский Ф. М. ПСС: В 30 т. Ленинград, 1976. Т. 21. С. 13.
В «Дневнике писателя» Достоевский пишет: «Не хотел бы я, чтобы слова мои были приняты за жестокость… строгим наказанием — острогом или каторгой вы, может быть, половину спасли бы из них, облегчили бы их, а не отяготили. Самоочищение страданием легче — легче, говорю вам, чем та участь, которую вы делаете многим из них сплошным оправданием на суде. Вы только вселяете в его душу цинизм… Главное то, что вера в закон и народную правду расшатывается» <4>. ——————————— <4> Достоевский Ф. М. ПСС: В 30 т. Ленинград, 1976. Т. 21. С. 19.
Достоевский требует от суда правды, а не воплощения идеала, правового ли, морального ли. Неприемлем любой абсолютизм. Равно жестоким может оказаться и право, когда оправдывает (снисхождение суда к мужу, доведшему своими побоями жену до самоубийства) <5> или когда судит (дело Корниловой), и мораль, когда прощает (например, насилие родителей в воспитании детей). ——————————— <5> См.: Достоевский Ф. М. ПСС: В 30 т. Ленинград, 1976. Т. 21. С. 20 — 23.
«…Человек есть человек, — записывает он в рабочей тетради, — высший идеал простить и величием невозмутимости своей, спокойствия своего при обиде — невольно покорить. Но когда же люди будут таковы? Между тем закон (христианский. — Д. И.) прямо требует идеала: прости… Но ведь простить из идеала только свято, а простить из срама, из цинизма, эгоизма, т. е. трусости, подло. <…> Неуловимость сильнее всего» <6>. ——————————— <6> Неизданный Достоевский. Записные книжки и тетради 1860 — 1881 гг. М., 1971. С. 569.
И. Волгин считает, что «вопрос для Достоевского заключается не в большей или меньшей целесообразности существующих правовых норм, а в несоответствии судебной процедуры сути дела. Ибо сам суд основан на внутренней неправде, на разрыве между государственной нравственностью и моралью лица». В поисках решения этой проблемы Достоевский, по мнению Волгина, предлагает не совершенствовать правовые нормы, а кардинально преобразовать путем внесения в них и в юридические институты «исключительно человеческого» <7>. ——————————— <7> Волгин И. Л. Последний год Достоевского. Исторические записки. М., 1986. С. 39.
Присутствие в правосудии общества как инстанции не абстрактно, оно познается через сопричастность со всеми через чувство вины. «Войдем в залу суда с мыслью, что и мы виноваты. Эта боль сердечная, которую все теперь боятся и с которой мы выйдем из залы суда, и будет для нас наказанием. Если истинна и сильна эта боль, то она нас очистит и сделает лучшими. Ведь, сделавшись сами лучшими, мы и среду исправим и сделаем лучшею. Ведь только этим одним и можно ее исправлять» <8>. ——————————— <8> Достоевский Ф. М. ПСС: В 30 т. Ленинград, 1976. Т. 21. С. 15.
В этом случае судья действительно приобретает право на наказание прощением: иди и больше не греши. Именно такое решение суда Достоевский считал правильным в деле Засулич. Не оправдание средой, как это было в реальном процессе, а принятие вины и ответственности и на себя тоже. Не оправдать грех, а разделить вину. Без такой сопричастности в виновности право становится бессильным как в осуждении, так и в прощении. В оправдании Засулич Достоевский видит неправду, так как вместо того, чтобы признать виновными в убийстве как девушку, так и общество, общество в лице суда признало ее правоту, а тем самым и с себя сняло ответственность. И наоборот, получило возможность торжествовать свою победу над властью. В таком оправдании нет правды. Но нет правды и в отказе от прощения со стороны общества на том основании, что закон требует наказания за вину, даже если раскаяние изменило личность. В «Братьях Карамазовых» Иван описывает ситуацию публичной казни такого раскаявшегося, когда все общество умилялось его раскаянию, но при этом спокойно отправило его на эшафот. Раскаяние, которое очистило душу преступника, осталось его раскаянием. Общество, не чувствующее своей сопричастности к вине другого, практически считало, что ему не в чем каяться. Оно праведно, а преступник грешен. Грех требует наказания. Если бы каждый чувствовал свою сопричастность в вине другого, то просто не мог бы быть судьей другого. Раскаяние одного призывало к раскаянию всех. Общество, казнившее Ришара, не чувствовало потребности в раскаянии, в результате оказалось не способным к прощению. Практически Достоевский художественными средствами предвосхищает данное впоследствии Соловьевым определение права как принудительного равновесия. Принудительное начало в праве требует нахождения меры жизненно-конкретной правды, гармонизации противоречащих начал. Именно к внутренней мере совести призывает Достоевский современные ему суды для нахождения равновесия между обвинением и прощением. «То-то и есть, что у нас ни в чем нет мерки <…>. Желательно, чтоб совесть присяжных была воистину просвещена, воистину тверда и укреплена гражданским чувством долга и избегала увлечения в ту или другую сторону, то есть увлечений жестокости или пагубной сентиментальности» <9>. ——————————— <9> Достоевский Ф. М. ПСС: В 30 т. Ленинград, 1976. Т. 23. С. 8, 10.
Достоевский в обосновании права апеллирует не к разуму, а к непосредственной достоверности нравственного чувства. Он не отвергает разум, он критикует лишь оторванность разума от велений совести. Нахождение права, обнаружение правового смысла ситуации требует не столько знания нормы, т. е. того, как рассматриваемое дело предстает чисто юридически, сколько интерпретации сути конфликта через понимание смысла ситуации, в которой конфликт протекает. Право не может не принимать в расчет скрытую моральную драматичность, которая присутствует в ситуации правового выбора. Учет этот происходит, когда посредством нормы интерпретируется реальная правовая ситуация. Норма и истина открываются не в чистом долженствовании или совершенном сознании, право или бесправие обнаруживаются не через соотнесение с нормой, с законом, а через актуализацию смыслов «я» как адресованных «другому», в соотнесении «я» с «другим». Разбирая дело Корниловой <10>, столкнувшей падчерицу с окна, Достоевский ищет справедливого решения вопроса и добивается пересмотра дела именно потому, что его анализ был обращен не к норме, определяющей внешние признаки противоправности, а на выявление смысла этого поведения для конкретной личности, реализующей этот смысл в поведении. Именно невозможность обнаружить смысл поступка привела Достоевского к мысли, что не было поступка, не было выбора, а было действие неподвластных сознанию сил, которое он связывал в силу неразработанности на тот момент терминологии с «аффектом беременности». Направленность анализа не на соответствие поступка норме, а на выявление смысла позволила писателю увидеть то, что просмотрел суд, и поставить вопрос о субъективном вменении. ——————————— <10> Достоевский Ф. М. ПСС: В 30 т. Ленинград, 1976. Т. 23. С. 136 — 141.
Для понимания требуется сопереживание ценностей «другого», включение их в систему своих личностных смыслов и экзистенциального опыта. Достоевский требует видеть право как переживаемую человеческую жизнь, а не объективацию этой жизни в законе. Когда суд оправдывает отца <11>, истязающего семилетнюю дочь за то, что та взяла деньги, на том основании, что истязанием по существующим нормам являются действия, приводящие к нарушению целости кожных покровов, а в данном случае четвертьчасовое битье произвело только синяки и кровоизлияния; и когда адвокат строит свою защиту истязателя на признании необходимости остановить преступную наклонность девочки и признает неправильным только чрезмерность наказания, объясняя это неразвитостью и грубостью нравов, влиянием окружающей среды, то это говорит об отсутствии как у суда, так и у адвоката понимания смысла ситуации. ——————————— <11> См.: дело Кронеберга // Достоевский Ф. М. ПСС: В 30 т. Ленинград, 1976. Т. 22. С. 50 — 73).
При этом смысл этой ситуации открывается, как только мы попробуем пережить ее, примерить на себя. Пережить ее с позиции ребенка, для которого весь ужас неоднократно перенесенного наказания, смысла которого он не понимает, порождает только сковывающий любую потенцию развития страх. Страх перед отцом может породить только страх перед бытием, который впоследствии выльется не в уважение к праву, а в отрицание этого бытия. Именно такое переживание позволило бы увидеть в ребенке не потенциального вора (в семь лет ребенок еще не понимает значение денег, а потому в его действиях не могло быть смысла завладения богатством), а развивающуюся личность, имеющую право на признание за ним достоинства. Надо пережить страдания ребенка, чтобы понять, что творится неправо, хотя и по закону. Экзистенциальное переживание позволило бы понять, что в душе ребенка рождается не право, а «обида на бытие», не правосознание, а ресентиментное сознание. Задача правосудия в этой ситуации не в том, чтобы наказать отца (здесь Достоевский согласен с решением суда, признавшего, что тот не истязатель, а «плохой педагог»), а в том, чтобы признать право ребенка на достоинство. Это право не было сформулировано в нормах закона, но оно открывалось в конкретных ситуациях, обнаруживало себя, как только ситуация становилась переживаемой, а не просто рационально объясняемой. Рациональное объяснение лишь оправдывало отца, но не открывало право ребенка. Достоевский не отрицает нормативность социальных связей. Но он показывает, что «чистой» нормативности нет, как и «чистого» разума. Осуществляя выбор между правом и неправом, человек действует всем своим существом. «В человеке кроме гражданина есть и лицо. Судья судит гражданина и иногда совсем не видит лица. А потому всегда возможно впечатление этого невидимого лица, которое остается только с ним, и судья ничего в нем не увидит. Даже закон не предусмотрит всех тонкостей. Но отнять лицо и оставить только гражданина нельзя: вышло бы нечто хуже коммунарского стада. Есть преступления и впечатления, которые не подлежат земному суду. Единый суд — моя совесть, то есть судящий во мне Бог, а это уже совсем другое» <12>. ——————————— <12> Достоевский Ф. М. ПСС: В 30 т. Ленинград, 1976. Т. 24. С. 109.
Правосудие в лице присяжных, по мнению Достоевского, осуществляется как возможность присяжного ответить по совести на вопрос суда да или нет: «Если уж в такой важный момент человек ощутит в себе возможность твердо ответить: «да, виновен», то, по всей вероятности, не ошибется в виновности преступника. По крайней мере, ошибки случались анекдотически редко» <13>. ——————————— <13> Достоевский Ф. М. ПСС: В 30 т. Ленинград, 1976. Т. 23. С. 10.
——————————————————————