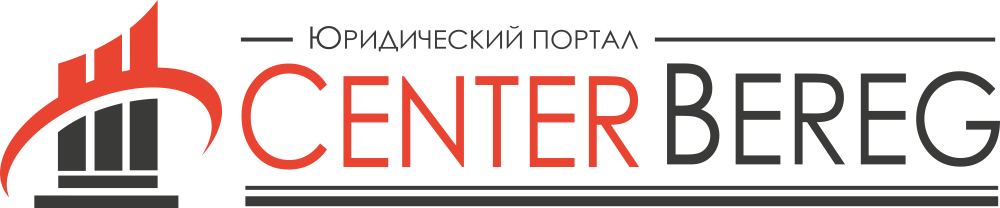Диспозитивность норм договорного права
(Степанов Д. И.) («Вестник ВАС РФ», 2013, N 5)
ДИСПОЗИТИВНОСТЬ НОРМ ДОГОВОРНОГО ПРАВА <*>
Д. И. СТЕПАНОВ
——————————— <*> Автор выражает огромную благодарность А. Г. Карапетову за высказанные в ходе доработки статьи замечания и предложения. Уже после того, как настоящая статья была направлена в редакцию «Вестника ВАС РФ», автору стало известно о предстоящей публикации в том же журнале статьи по аналогичной проблеме (см.: Евстигнеев Э. А. Законодательное закрепление презумпции диспозитивности норм договорного права: проблемы и пути их решения // Вестник ВАС РФ. 2013. N 3. С. 14 — 38). Несмотря на сходство обсуждаемых проблем, автор не столь глубоко, как, видимо, следовало бы, разбирает аргументацию уважаемого коллеги в завершающей части настоящей статьи, добавленной уже в ходе доработки перед опубликованием. Во многом подобное решение объясняется существенным различием в методологических подходах и выставлением принципиально нового аргумента в ходе дискуссии, отстаиванию которого и посвящена настоящая статья.
Степанов Дмитрий Иванович, партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», кандидат юридических наук.
В предлагаемой статье автор отстаивает необходимость законодательного закрепления презумпции диспозитивности норм договорного права. При этом императивные нормы предлагается специально обозначать каждый раз в законе, а также предоставить право судам выявлять императивные положения договорного права. Новым аргументом для отечественной юриспруденции, который развивает автор в рамках полемики по данной проблеме, является тезис о том, что ошибки законодателя или иных правотворцев в ходе политико-правового выбора легче не исправлять постфактум, а не допускать вовсе — через максимально широкое использование именно диспозитивных норм. В таком случае диспозитивность решает двуединую задачу: развивает подлинную свободу договора и повышает договорную дисциплину среди коммерсантов, а также позволяет проводить желаемую законодательную политику, ничего жестко не навязывая участникам оборота.
Ключевые слова: презумпция диспозитивности, императивность норм договорного права, свобода договора, регулирование экономической деятельности, ошибки регулятора, реформа ГК РФ.
К концепции реформы общих положений Гражданского кодекса РФ о договорах
Нередко российские правоведы любят смотреть на немецкое право как на эталон, задающий оптимальные решения во многих областях частного права. При этом гражданское право Австрии не так широко востребовано российскими академическими юристами, хотя австрийский правопорядок, пожалуй, наиболее близок к немецкому праву, чего нельзя сказать о российском частном праве, которое следует не только немецкой, но и французской правовой традиции, а иногда даже допускает заимствования из американского права <1>. ——————————— <1> Так, хотя российское право следует учению о сделке, в нем отсутствует один из фундаментальных элементов немецкого обязательственного права — принцип абстракции, или разделения, благодаря которому различаются обязательственно-правовая сделка и распорядительная сделка, имеющая вещно-правовой эффект. При всей «нелюбви» российского права к обеспечительной передаче титула подобная конструкция широко используется в немецком праве для движимых вещей, причем залог (в отличие от нынешнего русского права) не является обязательственным правом. В отличие от российского права, применяющего реституцию при недействительности сделки, а неосновательное обогащение — как самый последний компенсаторный механизм, в немецком праве именно конструкция неосновательного обогащения используется в случае признания сделки недействительной, напротив, двусторонняя реституция задействуется на случай расторжения договора, причем обе эти конструкции четко разведены между собой. Далее, если российское право не признает за простым товариществом правосубъектного образования, то немецкая судебная практика во многих случаях видит свойства юридического лица у такого товарищества в отношениях с третьими лицами. Наконец, в международном частном праве (далее — МЧП) при определении личного статута юридического лица российское право следует принципу инкорпорации (типичного для французского и англо-американского права), в то время как право Германии традиционно отдавало приоритет месту нахождения органов юридического лица для определения его личного статута. Нет нужды говорить, видимо, насколько российское акционерное и ценно-бумажное законодательство подверглось самому серьезному влиянию американского права. С учетом сказанного любые призывы ориентироваться в развитии российского права на немецкое право как генетически более близкое российскому частному праву в таком случае похожи на лукавство: когда мы хотим обосновать тот или иной тезис, поддерживаемый в немецком праве, мы находим сродство, когда нет — призываем помнить об обозначенных и многих иных принципиальных различиях между российским и германским правом. Очевидно в таком случае, что иностранный опыт может выступать лишь одним из критериев, причем не самым важным, при обосновании того или иного юридического вывода, а в политике права, вероятно, правильнее будет исходить из стремления к построению современного частного права, учитывающего регулятивную конкуренцию и регулятивный арбитраж (о чем подробнее речь пойдет ниже), привлекательного для участников оборота, а не отражающего чьи-либо страхи или преференции отдельных групп влияния.
Особенно интересно сравнивать две названных родственных правовых системы, когда они проявляют себя совершенно по-разному при решении одного и того же регулятивного вопроса. Именно так происходит в очень специфичной области регулирования, вызывающей много споров как сугубо юридического, так и морально-этического свойства, а именно в сфере трансплантации человеческих органов. В частности, среди стран ЕС в Австрии наблюдается один из самых высоких (99,98%) уровней добровольного согласия на трансплантацию органов в случае смерти гражданина; напротив, в Германии только 12% граждан согласны на то, чтобы их органы в случае смерти были использованы для пересадки другому человеку <2>. Читатель может спросить, при чем тут право и как согласие на пересадку органов соотносится с нормами права, точнее с их моделированием. Ответ простой: столь существенная разница в количестве согласных объясняется различием в диспозитивных нормах. В Австрии подразумевается, что человек дал согласие на трансплантацию его органов при определенных обстоятельствах, если очевидным образом не заявил об ином, в то время как в Германии рамочное согласие на трансплантацию органов в случае смерти, конечно, возможно, но должно быть явно выраженным <3>. Как в первом, так и во втором случае никому ничего не навязывается (в первом случае можно всегда отказаться, во втором — согласиться), не запрещается, однако посредством нехитрого приема законодательной техники достигается почти стопроцентное согласие на то, на что в иной ситуации (и в сопредельном правопорядке) обычно соглашаются лишь 12 из 100 человек. Этот пример показывает, насколько существенны «правила по умолчанию», а шире — избрание политиками или нормотворцами той или иной конкретной архитектуры выбора <4>, задаваемой участникам оборота, ведь даже одни и те же возможности, представленные по-разному, могут приводить к совершенно разным правовым последствиям в регулятивной политике. ——————————— <2> Eric J. Johnson and Daniel Goldstein, Do Defaults Save Lives? 302 Science, 1338 (2003). <3> Id. <4> Richard H. Thaler and Cass R. Sunstein, Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness 81-100 (New Haven: Yale University Press, 2008) (hereinafter — Thaler and Sunstein, Nudge); Eric J. Johnson et al., Beyond Nudges: Tools of a Choice Architecture, 23 Mark. Lett. 487, 488-92 (2012).
При этом если в столь специфичной сфере, крайне чувствительной к общественным нравам, нормы по умолчанию принципиально изменяют поведение человека, то что можно ожидать от права гражданского, в том числе обязательственного, где зачастую не до сантиментов, а между тем сила, которой обладают подобные дефолтные правила, может предопределять развитие целых институтов договорного права? В настоящее время реформа основных положений ГК РФ находится в самой активной фазе. Как всегда, завершение одного процесса есть начало другого: очевидно, что следующим этапом ранее начатой работы будет детальное обсуждение общих положений обязательственного (договорного) права в Государственной Думе и, возможно, за ней последует ревизия положений ГК РФ об отдельных видах договоров. Если это произойдет, то в самое ближайшее время те или иные частные договорные конструкции будут занимать умы представителей российского юридического сообщества. Однако, прежде чем обсуждать частности, следует, что называется, договориться о понятиях, т. е. определиться по ряду концептуальных позиций, исходя из которых далее могут решаться те или иные частные вопросы регулирования отдельных договорных конструкций. Одним из наиболее принципиальных вопросов предстоящей реформы общих положений договорного права и отдельных институтов договорного права из части второй ГК РФ, очевидно, является проблема соотношения императивных и диспозитивных норм при регулировании договоров. Использование по сути технических законодательных приемов, каковыми в данном случае выступают императивные и диспозитивные нормы, позволяет достигать того или иного желаемого законодателем результата. Соотношение подобных норм при регулировании договорных отношений, в том числе соотношение разных видов диспозитивных норм между собой, — та самая архитектура выбора, предоставляемая законодателем участникам оборота в деле конструирования их будущих договорных отношений. От того, насколько она будет продуманной, гибкой и сбалансированной, зависит успешность обновленного гражданского законодательства в регулировании соответствующих отношений. Вопрос соотношения императивных и диспозитивных норм в регулировании договорных отношений (как впрочем, и корпоративных, коль скоро корпоративные отношения суть разновидность обязательственных правоотношений) неоднократно поднимался в ходе реформы общих положений об обязательстве и договоре, но по понятным причинам — из-за нежелания изменить «матрицу регулирования» договорных отношений без одновременной ревизии норм части второй ГК РФ — был отложен на более поздний этап, причем как с точки зрения хоть сколько-нибудь серьезного и содержательного обсуждения по существу, так и с позиций законодательных изменений в том или ином направлении. Видимо, сейчас, пока не началось обсуждение частных юридико-технических построений, самое время открыть серьезную научную дискуссию о том, как концептуально должны выглядеть общие нормы договорного обязательственного права и часть вторая ГК РФ, какие идеи должны быть заложены в законодательный текст при проведении такой реформы. В настоящей статье рассматривается проблема корректировки подхода к использованию диспозитивных норм при регулировании договорных отношений, причем во многом это постановочная публикация, призванная пригласить к дискуссии юристов с самыми разными взглядами на проблему. К большому сожалению, в последнее время отечественная юридическая литература не может похвастаться серьезными юридическими обсуждениями. Если то там, то здесь и проявляются элементы диспута, то, как правило, ведется он без ссылок на конкретных авторов, детального разбора представленной позиции или, что неприятно вдвойне, в крайне агрессивной и злобной манере, без какого-либо желания слышать оппонента. Очевидно, что в профессиональной жизни юриста много негативного и вряд ли стоит его приумножать в научных публикациях <5>, а потому автор скромно надеется, что предлагаемая публикация положит начало позитивной юриспруденции. Имеется в виду юриспруденция не ориентированная на позитивное право, а воспитывающая позитивное, светлое и доброе отношение к юридической действительности и коллегам, даже если все мы разделяем принципиально разные, порой полярно противоположные точки зрения. ——————————— <5> В работах по психологии феномен негативного отношения, негативности в последнее время освещается с различных позиций, при этом отмечается нечто общее: сравнительно более острое и быстрое реагирование на негативные сигналы, чем на позитивные новости, более сильный эмоциональный эффект на негативную, чем на позитивную информацию, сложность отхода от негативного настроя, изначально враждебное отношение к любым аргументам, исходящим от того, кто ассоциируется с негативом, наконец, сложность возврата к позитивному отношению (чтобы вызвать негативный настрой, достаточно небольшой негативной новости, а чтобы вернуться к позитивному отношению к действительности, требуется приложить большие усилия) (см. классические работы по данному вопросу: Roy Baumeister, Ellen Bratslavsky, Catrin Finkenauer, and Kathleen Vohs Baumeister, Bad Is Stronger Than Good, 5 Rev. Gen. Psy., 323 (2001); Paul Rozin and Edward B. Royzman, Negativity Bias, Negativity Dominance, and Contagion, 5 Pers’ty & Soc. Psy. Rev., 296 (2001)). Одним из объяснений превалирования негативной информации над позитивным настроем является так называемый феномен loss aversion, при котором любой человек больше страдает, когда что-то теряет, чем радуется, когда что-то (сравнимое) получает. Этот феномен относится к одним из фундаментальных открытий в сфере бихевиористского подхода к экономике и праву (подробнее см.: Daniel Kahneman and Amos Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, 47 Econometrica, 263, 280 et seq. (1979); Daniel Kahneman and Amos Tversky, Choices, Values, and Frames, 39 Am. Psych’t, 341, 342 (1984); Richard H. Thaler, Mental Accounting Matters, 12 J. Behav. Dec. Making 183, 188 (1999)).
Последующее изложение разделено на две части сообразно принципу «от общего к частному». Обсуждение проблемы использования диспозитивных норм начинается на теоретическом уровне с привлечением наиболее актуальной экономической и политико-правовой литературы. Затем проводится дифференциация предлагаемых построений с точки зрения регулирования: по субъектам, вступающим в договорные отношения, и по видам используемых нормативных моделей. В завершение приводится общая законодательная формула, которую предлагается использовать как базовую конструкцию для будущего законодательного текста.
I. Теоретический подход к регулированию
I.1. Кто решает, что верно, а что нет? Регулирование экономической активности, включая частный случай, регламентацию договорных отношений, всегда связано с проблемой свободного рынка: о регулировании, его рамках и методах можно говорить всерьез только тогда, когда существует рынок; напротив, там, где рынка нет (плановая экономика), любые дискуссии о регулировании превращаются в обсуждение моделей управления централизованной экономикой. Соответственно, любое регулирование — это всегда вторжение в рыночную свободу, установление тех или иных рамок, больших или меньших ограничений в зависимости от избранной модели регулирования. Неизбежным следствием такого вторжения являются не только споры о допустимых пределах вмешательства государства в экономику, но и артикулирование проблемы патернализма и либертарианства в регулятивной политике. Эта проблема близка теме пределов вмешательства государства в экономику, но с ней буквально не совпадает, а связана скорее со средствами регулятивного воздействия и с тем, насколько государство доверяет участникам оборота самостоятельно определять свои взаимоотношения по поводу экономических благ. Вне зависимости от превалирующей в конкретном государстве модели регулирования общим для любой регулятивной политики, конечно, является наличие регулятора — законодателя, судебного правотворца или административного регулятора, который вводит те или иные правила игры. Причем регулятор вовсе не персонифицируется в лице какого-либо человека — мудрого царя, технократа-чиновника или въедливого судьи. Как правило, он представлен небольшой группой (политиков, экспертов и т. п.), верхушкой элиты, наделенной (обладающей) властью вводить общеобязательные правила поведения. Исходя из этого, насколько бы легитимной такая группа ни была, она не есть «народ», напротив, так или иначе производна от него, вторична, более того, нередко может быть противопоставлена большинству. В связи с регулированием экономической деятельности указанное противопоставление регулятора и большинства, «народа», в наиболее упрощенном виде проявляется в известной проблеме юридического элитизма, или, как ее еще обозначают, проблеме контрмажоритаризма. В доктрине конституционного права контрмажоритаризм — одна из центральных проблем современного западного юридического дискурса, как правило, она обсуждается в связи с особой ролью конституционного суда в системе органов государственной власти: как случилось, что горстка юристов, судей подобных судов, вправе отменять законы, которые были приняты представительными органами власти, избранными на выборах в парламент? Причем судьи, как правило, в таком случае не избираемы путем непосредственного народного голосования, а назначаются в рамках особых процедур, тем не менее по факту имеют больше возможностей влиять на развитие правовой политики, чем парламент; более того, слово такого суда оказывается финальным — его решения отмене или пересмотру не подлежат <6>. Не вдаваясь в суть дискуссии о проблеме контрмажоритаризма в контексте конституционного судопроизводства, интереснее провести параллель с юридическим элитизмом вообще, поскольку сходство этих проблем очевидно. До настоящего времени подобной параллели не проводили, хотя в ситуации, когда узкая группа экспертов, юристов и экономистов, зачастую никем не выбираемых и даже не назначаемых формально на те или иные государственные должности, вдруг решает, как будет развиваться регулирование экономических отношений в отдельно взятой стране, уровень контрмажоритаризма оказывается несравненно выше, чем в случае с конституционным судопроизводством, где статус высшего суда, отправляющего функцию конституционного правосудия, освящен авторитетом Конституции, а легитимность таких судей базируется на формальной и скрупулезной процедуре отбора, наделения их полномочиями, сам процесс принятия решений предельно формализован и обставлен множеством юридических и политических сдержек и противовесов. ——————————— <6> Alexander M. Bickel, The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics 16 (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1962); Anthony Kronman, Alexander Bickel’s Philosophy of Prudence, 94 Yale L. J. 1567 (1985); John Moeller, Alexander M. Bickel: Toward a Theory of Politics, 47 J. Pol. 113 (1985); Mark Tushnet, Policy Distortion and Democratic Debilitation: Comparative Illumination of the Countermajoritarian Difficulty, 94 Mich. L. Rev. 245 (1995).
Несмотря на то, что юристы как социальная группа представляют собой пусть и чрезвычайно влиятельное экспертное сообщество, оказывающее наиболее существенное воздействие на судьбы государства и политики, сама по себе эта элита вовсе не есть большинство. Напротив, зачастую юристы — от участвующих в политическом процессе в качестве профессиональных провластных политиков или экспертов до ярых оппозиционеров, активно противостоящих тому или иному политическому режиму, — так или иначе противопоставляют себя большинству. Движимые собственным пониманием внутренней логики развития правопорядка, того, как устроены система принятия политических решений и правоприменение, юристы могут навязывать большинству то, что, возможно, оно не желает принимать. Тем самым в самом призвании юриста, точнее в профессиональной деятельности, предполагающей проведение в жизнь идеалов, которые по тем или иным причинам (уже или еще) не принимаются большинством, изначально заложен конфликт контрмажоритаризма. Более того, без подобного конфликта было бы невозможно развитие правовой мысли, ведь то, что сегодня представляется очевидным, вчера таким не казалось. Однако юридическое, а шире — экспертное и политическое, сообщество крайне неоднородно, и потому проблема противопоставления элит большинству, в том числе юридического элитизма, имеет более сложную, нюансированную природу. При более пристальном рассмотрении обнаруживается расслоение юридического сообщества, иными словами, внутри элиты также существует дух элитизма, предполагающий создание небольших групп влияния, гомогенных с точки зрения продвигаемых ими позиций и отстаиваемых точек зрения. Поляризация таких групп идет по разным направлениям (отрасль права, сфера деятельности, бизнеса, власти, регион присутствия, поколение (возраст) и т. п.). Наиболее интересными в связи с рассматриваемой проблемой являются группы юристов, оказывающие самое непосредственное влияние на развитие политики права в сфере частного права. Видимо, не будет преувеличением сказать, что в российских условиях сотня-две юристов, так или иначе вовлеченных в работу Администрации Президента РФ, высших судов, Государственной Думы, немногочисленные академические ученые и всевозможные лоббисты как раз и составляют юридическую элиту, определяющую развитие политики права в сфере частного права. Мнение этого меньшинства, насколько бы оно ни противопоставлялось остальному юридическому сообществу или, шире, народу, и задает тон развитию права: это может быть как пассивная трансляция ожиданий большинства, находящая отражение в текущем позитивном праве или судебной практике, так и более активная, формирующая повестку дня позиция, при которой меньшинство проводит те или иные политико-правовые ценности в рамках правовой политики, не всегда оглядываясь на мнение большинства. Чем руководствуется российская юридическая элита, какие аргументы использует, выбирая то или иное решение при регулировании договорных отношений? Из каких соображений задается баланс между императивным и диспозитивным началами в российском договорном праве? Как в случае с любой иной политико-правовой проблемой, поиск ответа на вопрос, каким образом можно достичь оптимального соотношения между императивными и диспозитивными нормами, бессмысленно искать в позитивном праве или юриспруденции, ориентирующейся на текущее регулирование. Понятно, что для того, чтобы говорить о направлении движения в политике права, ориентир должен находиться за пределами текущей правовой референции, в противном случае обсуждение скатывается к повторению простой логической ошибки определения содержания рассматриваемого понятия idem per idem. В связи с этим остро проявляется проблема референтного поля — теоретической системы координат, в рамках которой могла бы идти дискуссия, а также следовало бы обсуждать проблемы подходов к регулированию. Очевидно, что по уже приведенным соображениям ни позитивизм, ни любая иная система теоретических взглядов, опирающаяся на юридический формализм, не способны эффективно решать политико-правовые проблемы. К сожалению, именно позитивизм и юридический формализм до сих пор правят бал в российской юриспруденции. Проявление юридического позитивизма, причем в довольно примитивной форме, можно видеть каждый раз, когда любая научная или политико-правовая дискуссия завершается аргументами «так решил законодатель» или «где это написано?», либо — что встречается реже, в более тонком виде, оттого не переставая выходить за границы позитивизма, когда дискуссия не может оторваться от текущего правового регулирования, особенно если полет мысли завершается там же, где он начался, — в том самом российском праве, с которым мы имеем дело каждый день, зачастую не допуская, что бывает иначе. Позитивизм прекрасно работает в случае сугубо утилитарных задач: решение несложных судебных споров, обучение студентов азам той или иной отрасли права, наконец, упрочение законности. Однако за этими рамками его оказывается просто недостаточно: если о чем-то не сказал законодатель (умышленно или в силу неразвитости позитивного права на данном этапе становления правопорядка), это вовсе не означает, что суд может отказать в разрешении спора, в котором возник вопрос права, не урегулированный в законе. Любой юридический казус, с которым сталкивается правоприменитель, если он не может быть решен при помощи позитивного права (напрямую или опосредованно, через расширительное толкование, аналогию закона или аналогию права), демонстрирует всю несостоятельность позитивизма. Формализм в российской юриспруденции идет рука об руку с позитивизмом: для формализма типично не столько апеллирование к конкретному источнику права (для позитивиста это закон или иной признаваемый позитивистом источник права, так или иначе имеющий юридическую силу, близкую к закону), сколько стремление всегда разграничивать «верно» и «неверно», «правильно» или «неправильно» или, что в общем то же самое, «по праву» и «не по праву». Юридический формализм, особенно в его самых экстремальных проявлениях, предполагает веру в мистическую силу великого Смысла, сокрытого в (позитивном) праве, а потому стремится не только постигнуть глубины смыслового содержания, но и все и вся ранжировать, разложить по полочкам, провести всевозможные классификации, перетекающие одна в другую и не противоречащие друг другу, на все иметь четкий и однозначный ответ, желательно подкрепленный авторитетным мнением или ссылкой на источник права, позволяющий путем толкования прийти к тому или иному выводу. Соответственно, формализму в юриспруденции нужны четкость и определенность, финальность суждения, а кто, как не позитивизм, может дать прочную основу для такого четкого и завершенного суждения? Порой сложно понять, где завершается позитивизм, а где начинается формализм: обе эти теоретические модели комплементарны, органично дополняют друг друга. Вместе с тем в последние годы именно высшие суды в большей степени, чем политики, стали определять направление регулирования договорных отношений. При этом «захват» регулятивной власти и интеллектуальной инициативы опирается на юридический реализм, прикрывающийся ссылками на доктринальную преемственность с юридическим формализмом, но на деле ничего общего с ним не имеющий. Логика этого довольно молодого юридического реализма основана на анализе экономических последствий того или иного политико-правового решения, обсуждаемого высшими судами при рассмотрении конкретных дел, или создания разъяснений более общего свойства, т. е. на прагматизме или интуитивно понимаемой экономической эффективности. В этом смысле судейское правотворчество, ориентированное в текущем моменте на решение прагматических задач и не ограниченное косным доктринализмом, может быть естественно вписано в более общий теоретический контекст, объясняющий появление и развитие той или иной регулятивной политики внутри отдельного правопорядка. Соответственно, значительная часть юридической элиты, принимающая самое непосредственное участие в формировании политики права, в том числе в сфере договорного права, в последние годы начала формировать право, исходя из собственного понимания экономического прагматизма, а не на основе каких-то оторванных от жизни юридических концептов. В этом смысле российская юридическая элита ближе к тому, что можно наблюдать в развитых иностранных правопорядках, а потому происходящие внутри нее процессы поиска и формулирования конкретных политико-правовых решений могут быть осмыслены посредством обращения к иностранной литературе, где подобная проблематика детально изучена. I.2. Теории регулирования экономических отношений. Сегодняшняя российская юриспруденция отражает текущий уровень развития общества и сама находится в движении, мы имеем тот правопорядок, который у нас сложился, и те элиты, которые оформились за последние два десятилетия, а потому именно эти элиты по своему уразумению формируют политику права в рассматриваемой области. Так, если обратиться к судебной практике высших судов, главным образом ВАС РФ и арбитражных кассационных судов округов, то можно видеть уже не первый год, как суды, особенно «создающие право» (нет-нет, конечно, наши суды право не создают, они лишь интерпретируют существующие нормы права, толкуют право, но не создают его, — примечание для соблюдения политкорректности), двигаются от позитивистско-формалистского подхода к его прямому антиподу — юридическому реализму. Однако курьезно то, что для внешней легитимации тех или иных политико-правовых решений российское право все еще предпочитает обращаться к инструментарию, типичному скорее для позитивизма и юридического формализма, а не обосновывать тот или иной выбор ссылками на экономические концепты или иные способы легитимации правно-политического решения. Ни для кого не будет открытием, что юридический позитивизм за пределами российских границ свое отжил, по крайней мере в развитых правопорядках Западной Европы и странах общего права, еще в начале XX в. Более того, юридический реализм, столь популярный в США в первой половине прошлого века, а затем и в отдельных странах Западной Европы, после череды перерождений пришел к тому, что сейчас, возможно, уже и не называется буквально реализмом в праве, или юридическим реализмом, но в любом случае в превалирующей в западной правовой референции точно не имеет ничего общего ни с позитивизмом, ни с формализмом. Соответственно, если российские высшие суды, а также отдельные представители российской доктрины права, некоторые регуляторы, пусть интуитивно, пришли к тому, что можно назвать антипозитивизмом, то подобное движение, как и любой другой феномен в праве, требует научного осмысления и оформления в систему взглядов, создания теории, в данном случае теории регулирования экономических отношений. Благо, что в иностранной науке права такие теории, довольно подробно проработанные, можно обнаружить уже сейчас, причем в самом большом разнообразии и со множеством смысловых оттенков. До некоторых пор одним из наиболее ярких теоретических проявлений того, что последовало за классическим реализмом в праве, было столь популярное в англоязычной науке права течение, которое обозначают термином «экономический анализ права» (economic analysis of law, law & economics). Если в 1960 — 1970-е гг. в западной юридической науке это было маргинальное течение, то в последние 20 — 25 лет оно не просто стало мейнстримом, а даже приобрело догматические черты, из-за чего подвергается критике со стороны не только идейных противников, но и некоторых бывших приверженцев. Сегодня можно вести речь о произошедшем на рубеже столетий расколе: фактически экономический анализ права разделился на сторонников сугубо рационалистического подхода и тех, кто подвергает сомнению разумность выбора человека, точнее, рациональность при принятии решений архетипическим homo economicus, которого всегда имеет в виду неоклассич еская экономическая теория. Однако, несмотря на идейный раскол, все же подобные течения в большей или меньшей степени пытаются ответить на вопросы о содержании права и конкретных правовых конструкций: что и как регулировать, какие соображения следует принимать во внимание, вводя то или иное регулирование? Прежде чем перейти к более детальному их рассмотрению, необходимо осветить существующие точки зрения на то, каким образом строится регулирование экономических отношений, обрисовав наиболее популярные теории регулирования, по крайней мере те, что непосредственно связаны с регулированием контрактов и договорных отношений. Теория публичного интереса. Согласно этой теории, также известной как теория публичного интереса в законодательстве <7>, регулирование экономики государством есть ответ на запрос публики, требующей корректировки того, что дает свободный рынок с его несправедливостью, порой неэффективностью и прочими перекосами, связанными с либертарианской свободой. Поскольку рынки могут быть несовершенными (предоставлять слишком большие преимущества экономически сильной стороне и ущемлять интересы слабой), то государство вынуждено прислушиваться к некоему агрегированному запросу на ограничение рыночного деспотизма. Соответственно, государство в лице регулятивного аппарата вмешивается в рынок и ограничивает свободу теми или иными средствами: от минимальной заработной платы и отдельных тарифов до субсидирования целых отраслей и регулирования видов деятельности, имеющих особое публичное значение <8>. ——————————— <7> Jonathan R. Macey, Promoting Public-Regarding Legislation through Statutory Interpretation: An Interest Group Model, 86 Colum. L. Rev. 223, 223 n. 2 (1986); Robert E. McCormick and Robert D. Tollison, Politicians, Legislation, and the Economy: An Inquiry into the Interest Group Theory of Government 3 (Boston, The Hague: Martin Nijhoff Publishing, 1981); W. Kip Viscusi, John M. Vernon, and Joseph E. Harrington, Jr., Economics of Regulation and Antitrust 325 (3rd ed.; Cambridge: MIT Press, 2000). Зарождение данной теории связывают с работами экономистов-вэлфаристов 20 — 30 гг. XX столетия: Arthur C. Pigou, The Economics of Welfare 24 et seq. (4th ed.; London: Macmillan, 1932); William J. Baumol, Welfare Economics and the Theory of the State 121-56 (2nd ed.; Cambridge: Harvard University Press, 1965). <8> Cf., Richard A. Posner, Theories of Economic Regulation, 5 Bell J. Econ. & Mgmt. Sci. 335, 336 (1974).
Однако эта теория не получила серьезной академической поддержки и сколько-нибудь существенного научного развития. В обоснование ее несостоятельности и, мягко говоря, отстраненности от реальной жизни были высказаны следующие аргументы: (1) государство не самый прозорливый и успешный регулятор <9>, ведь там, где порой рынок и его участники, руководствующиеся понятными экономическими мотивами, сами не могут разобраться, с чем имеют дело, вряд ли государственные чиновники, лишенные экономической мотивации и не всегда понимающие детали того или иного бизнеса, смогут что-либо урегулировать; во многом из-за этого (2) регулирование, т. е. вмешательство государства в свободный рынок, сравнительно затратно <10>, регулирование само по себе стоит немало: связанные с ним издержки — от расходов на содержание госаппарата до отрицательного воздействия на экономику из-за неумелого регулирования — могут быть несравнимо больше, если бы такого регулирования вовсе не было; наконец, возникают вопросы о том, (3) каким образом государство в каждый момент времени получает сигналы от публики, что необходимо в данный момент с точки зрения регулирования <11> и что именно составляет общее благо, не есть ли благо, провозглашаемое как общее, лишь жалкое отражение желаний отдельной группы участников оборота <12>. ——————————— <9> Id. <10> Id. <11> Id., at 340. <12> Обзор иных источников с критикой теории публичного интереса в регулировании см.: Clifford M. Winston, Economic Deregulation: Days of Reckoning for Microeconomists, 31 J. Econ. Lit. 1263, 1266 (1993).
Конечно, можно отбросить излишне либертарианскую аргументацию (регулирование — плохо, рынок — хорошо, пусть рынки все сами решают), как и спекуляции о том, насколько дорого вмешательство государства в регулирование рыночных отношений (возможно, стихийные бедствия на рынке, наподобие тех, что мы наблюдали во время мирового финансового кризиса 2008 — 2009 гг., обошлись намного дороже, чем регулирование ex ante, которое, возможно, предотвратило бы такой кризис). Однако тезис о том, что регулятору сложно понять, что есть общее благо применительно к конкретному вопросу регулирования здесь и сейчас, причем именно общее <13>, позитивное для всех или хотя бы для большинства, а не отдельной группы, видимо, является наиболее сильным аргументом, показывающим всю несостоятельность данной теории. ——————————— <13> См. статью, где делается попытка описать такое общее благо и тем самым провести смысловую связь между теорией публичного интереса и публичного выбора: Michael E. Levine and Jenifer L. Forrence, Regulatory Capture, Public Interest, and the Public Agenda: Toward a Synthesis, 6 J. Law, Econ. & Org. 167 (1990).
Как только регулирование начинает строиться на основе лозунгов о защите некоего абстрактного публичного интереса, содержательная политика права обычно вырождается в демагогию, при этом выбирается какой-то один критерий (небольшой набор критериев) определения того, что есть публичное благо. К примеру, опрос общественного мнения по тому или иному вопросу экономической политики, мнение парламентского большинства или превалирующее мнение группы академических ученых могут показать, что то или иное решение наиболее адекватно отражает публичное благо. Но тождественно ли мнение большинства, тем более подверженное манипуляциям со стороны СМИ или просто меняющееся со временем, публичному благу? Так, не нужно быть особо прозорливым, чтобы предсказать, что, если провести сегодня опрос общественного мнения по отдельным вопросам развития обязательственного права, подавляющее большинство населения согласится с тем, что (1) размер процентов по потребительским кредитам не должен превышать двукратной ставки рефинансирования (а еще лучше однократной), даже если это краткосрочный высокорискованный для банка кредит, (2) долг неработающего гражданина перед крупным коммерческим банком при определенных, извиняющих заемщика обстоятельствах может быть прощен, а если (3) гражданин вложил свои средства не в банковский депозит, а, например, в общие фонды банковского управления или облигации (что тождественно займу, хотя бы и оформленному ценной бумагой, облигацией), то государство обязано защищать граждан, гарантировать возвратность произведенных инвестиций наподобие того, как это делается при страховании банковских вкладов. В этих, как и многих иных примерах, большинство вполне ожидаемо будет давать запрос государству на определенное, совершенно понятное максимально патерналистское регулирование, ориентированное на то, чтобы государство каждый раз платило за неразумного гражданина. Вот только будет ли такое большинство отражать публичное благо? Наверное, необходимо также будет понять мнение другой стороны — коммерсантов, ожидания которых в общем довольно предсказуемы: никому ничего не прощать, брать штрафы и проценты за все и вся, при этом самим ни за что по возможности не нести ответственности. Таким образом, понимание общего блага каждый раз превращается в мучительный поиск компромиссов, отражающих множество факторов, которые на первый взгляд могут быть неочевидны. Видимо, именно из-за полной неопределенности в вопросе о том, что следует понимать под общим благом и как информация о таком конвенциональном благе доносится каждый раз до регулятора, теория публичного блага, судя по немногочисленной литературе, посвященной этой проблеме, не имеет хоть сколько-нибудь внятного содержательного компонента. Иными словами, теория публичного интереса пыталась ответить на вопросы о том, как строится регулирование экономической активности, каким образом государство ограничивает бушующие рыночные стихии через принятие законодательства или подзаконных актов: якобы государство реагирует на запрос от участников рынка. Однако объяснение, построенное на теории экономистов, оперирующих понятием общего блага, на деле оказалось объяснением одного неизвестного через другое неизвестное. Понятно, что дальше эта теория пойти не могла: ей нечего предложить с точки зрения критериев, что и как регулировать <14>, а потому она содержательно пуста с точки зрения как общих вопросов регулирования экономики, так и регулирования коммерческих отношений или контрактов. Вполне закономерно, что во многом из-за слабости указанной теории ей на замену приходит другое объяснение того, каким образом строится экономическое регулирование, что находит оформление в следующей теории. ——————————— <14> Справедливости ради стоит сказать, что налоги — это, возможно, единственная сфера, где экономисты, исповедующие идеологию общего блага, могут предложить что-то хоть сколько-нибудь содержательное. Для иллюстрации можно сослаться на указанную выше книгу Артура Пигу.
Теория публичного выбора. У этой теории много разных наименований: теория захвата в регулировании, экономическая теория законодательства, теория экономических групп влияния (на законодательство), или теория заинтересованных групп и смысловых оттенков. Однако у всех существующих вариаций <15> есть нечто общее: во-первых, экономическое регулирование в законодательстве, подзаконном регулировании, административном управлении и даже судебном правотворчестве всегда отражает влияние тех или иных экономически и политически влиятельных групп, заинтересованных в том или ином регулировании; во-вторых, регулирование, коль скоро оно складывается под влиянием заинтересованных лиц, движимых экономическим интересом, всегда содержит рациональное зерно, основано на осознанном выборе той или иной модели поведения, навязываемой регулятором. Возникновение этой теории традиционно связывают с именем экономиста Джорджа Стиглера <16>, хотя нередко истоки ее находят в трудах иных экономистов институционального толка, главным образом М. Олсона <17>, а последующее развитие — с именами уже иных экономистов чикагской школы <18>, к которой принадлежал и Стиглер. ——————————— <15> Обзор литературы по этому вопросу применительно к разным сферам социального знания можно найти в следующих работах: преимущественно в сфере конституционного права — Symposium on Public Choice, 74 Va. L. Rev. 167 — 518 (1988); Daniel A. Farber and Philip P. Frickey, The Jurisprudence of Public Choice, 65 Tex. L. Rev. 873 (1987); экономических исследований — Johan den Hertog, Review of Economic Theories of Regulation, Utrecht School of Economics Discussion Paper Series No. 10 — 18 (December 2010), available at: http://www. uu. nl/rebo/economie/discussionpapers [10.03.2013]; политической теории и политэкономических проблем — William C. Mitchell and Michael C. Munger, Economic Models of Interest Groups: An Introductory Survey, 35 Am. J. Pol. Sci. 512 (1991). <16> George Stigler, The Theory of Economic Regulation, 2 Bell J. Econ. & Mgmt. Sci. 3 (1971). <17> James M. Buchanan and Gordon Tullock, The Calculus of Consent (Ann Arbor: the University of Michigan Press, 1962); Mancur L. Olson, Jr., The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups 53 — 65 (Cambridge: Harvard University Press, 1965). Профессор Олсон, основываясь на трудах своих предшественников (John James, A Preliminary Study of the Size Determinant in Small Group Interaction, 16 Am. Soc. Rev. 474, 475 (1951); A. Paul Hare, A Study of Interaction and Consensus in Different Sized Groups, 17 Am. Soc. Rev. 261, 267 (1952)), а также на изучении современной ему политической системы, пришел к выводу, что сравнительно небольшие по числу участников группы людей, во-первых, более однородны и эффективны в продвижении тех или иных идей, во-вторых, обладают большими социальными стимулами продвигать те или иные рациональные идеи, чем множества субъектов, лишенных единения. Как следствие, небольшие группы проще преодолевают так называемую проблему коллективного действия, причем как внутри группы, объединяясь для защиты своих интересов, так и вовне, продвигая что-то, что для них благоприятно, в то время как разобщенное большинство не может до чего-либо договориться. <18> Sam Peltzman, Toward a More General Theory of Regulation, 19 J. Law & Econ. 211 (1976); Sam Peltzman, The Economic Theory of Regulation after a Decade of Deregulation, 1989 Brookings Papers on Economic Activity. Microeconomics, 1 (1989); William M. Landes and Richard A. Posner, The Independent Judiciary in an Interest-Group Perspective, 18 J. L. & Econ. 875 (1975); Richard A. Posner, Economics, Politics, and the Reading of Statutes and the Constitution, 49 U. Chi. L. Rev. 263 (1982); Gary S. Becker, A Theory of Competition Among Pressure Groups for Political Influence, 98 Q. J. Econ. 371 (1983).
Теория публичного выбора основана примерно на тех же посылках, что и теория публичного интереса: правовое регулирование экономической активности есть публичное благо, по поводу которого идет борьба; на такие блага есть спрос со стороны общества или заинтересованных в регулировании субъектов и есть предложение от государства, вводящего те или иные регулятивные механизмы, при этом в точке, где спрос встречается с предложением, происходит обмен общественным благом. Однако если теория публичного интереса видела в основе запроса на регулирование, т. е. спроса, несовершенство рынка, его невозможность эффективно решать (регулятивные) задачи, лишенные сиюминутного экономического интереса, либо несправедливость рыночной среды по отношению к экономически слабым субъектам, то теория публичного выбора, отбросив излишние сантименты, строится на том, что спрос на регулирование двигают те, кто в регулировании заинтересован экономически <19> и кто обладает необходимыми ресурсами (материальными, организационными, политическими), чтобы актуализировать задачу по введению соответствующего регулирования и его последующей имплементации. Во многом именно поэтому интерпретация теории публичного выбора, предложенная Стиглером, получила также наименование теории захвата: в данном случае не регулятор навязывает государственную волю регулируемым участникам оборота, а, напротив, регулируемые субъекты фактически получают контроль над регулятором <20> и добиваются введения того регулирования, которое им представляется наиболее оптимальным. Стиглер, конечно, не собирался негативно оценивать этот процесс, он выдвинул довольно дескриптивную теорию, основанную на противопоставлении спроса и предложения, а также представил свое видение причин, по которым отдельные инициативы пробивают себе путь и находят оформление в виде регулятивных воздействий, а другие так и остаются на уровне благих пожеланий. ——————————— <19> Cf., Stigler, supra note 16, at 3, 5, 12. <20> Cf., Posner, supra note 8, at 335, 343.
Еще одним важным моментом, на котором, возможно, и не было заострено внимание Стиглера, а который, скорее, получил развитие в последующих работах представителей чикагской школы, стало указание на сугубо рациональный характер отношений, возникающих по поводу запроса на регулирование и его введение со стороны государства: если группы влияния ищут пути продвижения необходимого им регулирования, то делают это исходя из собственного, подчас сугубо эгоистического интереса, а потому процесс продвижения таких инициатив предельно рационален <21>. Поэтому важно помнить, что презумпция рациональности и разумного экономического эгоизма субъекта является основой основ современной экономической теории и наиболее ярко преобладающее значение такой рациональности представлено именно в трудах чикагской экономической школы. Как будет показано ниже, представление о сугубо рациональном экономическом индивиде, стремящемся приумножить свои блага, составляют базис современного экономического анализа права (law & economics). Между тем именно это оказалось ахиллесовой пятой данного течения, из-за чего в настоящее время наблюдается некоторый упадок как экономического анализа права, так и любых экономических школ, выступающих против какого-либо серьезного регулирования, ведь разумные субъекты сами все смогут решить без помощи государства. Понятно, что если представления о рациональности поведения оказываются ошибочными (полностью или в части), то и полагаться на предлагаемое ими объяснение регулятивной политики также оказывается сомнительным предприятием. ——————————— <21> Posner, supra note 8, at 343.
Во многом из-за критики, обрушившейся на теорию захвата в ее самом циничном изложении, особенно критики со стороны юристов, занимающихся проблемами народной демократии и конституционного правосудия, специалистов в области моральной философии и политической теории, впоследствии были предложены более мягкие варианты этой теории, в том числе призванные объяснить появление регулятивных ограничений, как невыгодных отдельным группам влияния, так и совершенно безразличных им, но имеющих общесоциальное значение. Для такого рода исключений, как можно было бы подумать, возродилась из небытия теория публичного блага. Однако более поздние модификации теории публичного выбора фактически представляют собой синтез базовой теории захвата Стиглера с отдельными элементами теории публичного блага, при этом сколько-нибудь существенного отказа от ключевых постулатов теории захвата регулятора не происходит. Во-первых, было предложено обратить внимание на то, что группы влияния различаются по тем ресурсам, которыми они обладают и которые готовы тратить на продвижение тех или иных регулятивных идей (в качестве примера можно привести градацию на крупный и мелкий бизнес, бизнесы, объединенные в специальные ассоциации, призванные заниматься лоббизмом, и совершенно раздробленные и разобщенные), а потому не все заинтересованные в желаемом регулировании субъекты смогут получить то, что они хотели бы видеть в регулятивной среде. Более того, среди самих заинтересованных субъектов нет единства мнений, что необходимо именно им, часто их интересы диаметрально противоположны (например, в рамках одного сектора бизнеса отечественные коммерсанты могут не желать видеть иностранцев, а иностранцы хотели бы монополизировать локальный рынок), между ними идет борьба, конкуренция за влияние на регулятора <22>. Во-вторых, было также обращено внимание на то, что законодательство (и в целом право) нельзя воспринимать в общем виде, как нечто подвергшееся однородному влиянию. При более нюансированном рассмотрении становится понятно, что есть вопросы, имеющие общее, точнее, общеполитическое или социальное значение, которые находят отражение в уголовном, семейном законодательстве, а также в иных областях, относящихся к сфере личных прав и свобод, семейных ценностей, материнства и детства, защиты пожилых людей, а есть вопросы, имеющие значение исключительно или преимущественно для узких групп интересантов <23>. ——————————— <22> Becker, supra note 18, at 373-4, 396. <23> Posner, supra note 18, at 270-1.
В сфере публичных интересов группы влияния могут не оказывать никакого воздействия на появление или последующее продвижение соответствующих инициатив либо, напротив, оппортунистически присоединяться к общим настроениям и демонстрировать единство с народом. Однако там, где напрямую затрагиваются интересы групп влияния, особенно если регулятор не обладает достаточной экспертизой для проведения в жизнь эффективного регулирования (недавние примеры — регулирование рынка кредитных деривативов, секьюритизации и всего того, что принято именовать в зарубежной литературе shadow banking), естественно, группы влияния будут продвигать максимально желательное для них регулирование. Наконец, добавление в эту картину судебной власти <24>, которая также вовлечена в регулирование экономической деятельности, делает ее еще более сложной и комплексной: суды, не будучи связанными напрямую с регулятором, на которого ранее оказали влияние, могут разрешить конкретный спор или дать свое общее понимание того или иного вопроса регулирования (создать прецедент), которое может пойти вразрез с ранее проводимой законодателем или административным органом логикой <25>. Более того, в силу состязательности процесса в суде возрастают риски, что конкурирующие группы влияния добьются того, что раньше они не могли сделать на уровне регулятора, — введения одного регулирования взамен другого, ранее навязанного под влиянием иных групп. ——————————— <24> Id., at 290; Landes and Posner, supra note 18, at 877. <25> Cf., Einer Elhauge, Statutory Default Rules: How to Interpret Unclear Legislation 243-4 (Cambridge: Harvard University Press, 2008).
Таким образом, если сложить вместе текущий политический процесс, различные источники регулирования (законодательство, административные акты, судебное правотворчество), целый спектр релевантности вопросов, имеющих значение для экономической активности, разную интенсивность воздействия со стороны различных групп влияния на регуляторов и непрекращающуюся борьбу между такими группами за доступ к регулятору, это приведет к созданию сложной системы взаимоотношений, которые возникают по поводу экономического регулирования, но тем не менее могут быть объяснены с позиций теории публичного выбора. Презумпция рациональности групп влияния, их действий и мотиваций предопределила содержательную повестку теории публичного выбора. На первый взгляд теория публичного выбора отвечает лишь на вопросы о том, как то или иное регулирование становится возможным в принципе, благодаря каким каналам инициатива, запрос на регулирование превращается в позитивное регулирование. Однако если внимательнее присмотреться к этой теории и погрузиться в литературу, то станет очевидной неразрывная связь не только с иными идеями чикагской школы, но также с экономическим анализом права, особенно в самом его классическом, консервативном выражении, представленном в трудах Р. Познера, У. Ляндеса и Г. Беккера, сыгравших ключевую роль в разработке теории публичного выбора. Соответственно, эта теория, как и большая часть иных идей чикагской школы, преимущественно либертарианская, т. е. предполагает высокую степень свободы усмотрения экономических субъектов и их самоорганизации, естественно, за рамками тех ограничений, которые были установлены в ходе захвата регулятора. Иными словами, группы влияния, с одной стороны, продвигают желаемое ими регулирование, с другой стороны, готовы поступиться теми или иными свободами, возможно, в обмен на послабления со стороны регулятора. Между тем за рамками подобного рода вторжений регулятора в рыночную свободу — на них хоть как-то можно было согласиться как на наименьшее зло, однако и эти вторжения по возможности лучше обернуть в свою пользу — экономическая свобода является тем, что пропоненты такого рода идей всегда отстаивали. Вектор регулирования, сам дух подобной теории регулирования оказывается по факту предельно либертарианским: чем меньше регулирования со стороны государства, точнее, прямого вмешательства в экономику, навязывания субъектам жестких моделей поведения, тем лучше. Рациональный характер экономического субъекта, эта основа основ современной экономической (неоклассической) теории, позволяет более детально реконструировать ее содержательную повестку как применительно к регулированию экономической активности в целом, так и применительно к договорным обязательствам в частности. Милтон Фридман, интеллектуальный лидер чикагской экономической школы, наиболее емко выразил главенствующий подход к этой проблеме: чем больший спектр активности покрыт рынком, тем меньше проблем, по которым придется достигать согласия в обществе, требуют политического решения; напротив, чем меньше политических вопросов, требующих согласия в обществе, тем выше вероятность того, что по оставшимся проблемам будет скорее достигнуто согласие с тем, чтобы общество оставалось свободным <26>. Соответственно, суть этой регулятивной идеологии проста: рынок — хорошо, регулирование, т. е. вмешательство или ограничение рынка, — плохо, чем меньше регулирования, тем лучше <27>. При этом, коль скоро «основа экономического подхода к праву [базируется] на презумпции, что люди, взаимодействующие с правовой системой, действуют как рациональные субъекты, максимизирующие свои потребности» <28>, понятно, что такие рациональные субъекты сами смогут устроить свои взаимоотношения более оптимальным образом, чем это сделает регулирование извне. ——————————— <26> Milton Friedman and Rose D. Friedman, Capitalism and Freedom, 24 (Chicago: University of Chicago Press, 1962). <27> Подробнее обзор литературы по вопросу см.: Ron Chen and Jon Hanson, The Illusion of Law: The Legitimating Schemas of Modern Policy and Corporate Law, 103 Mich. L. Rev. 1, 14-23 (2004). <28> Richard A. Posner, Economic Approach to Law, 53 Tex. L. Rev. 757, 761 (1975).
Тем самым экономический подход к праву <29>, который рука об руку идет с теорией публичного выбора, оказывается предельно либертарианской, антипатерналистской <30> моделью регулирования экономических отношений, свобода договора здесь, причем в самых крайних ее проявлениях, предельно либеральных, — альфа и омега содержательной составляющей. Подобная генетическая связь между теорией публичного выбора, с одной стороны, и экономическим анализом права, либертарианством как идеологией регулирования и предельной свободой договора как принципом построения частноправовых связей, с другой стороны, позволила предложить системное видение правовой действительности тогда, когда экономический анализ права находился в зените. Однако развитие науки не стоит на месте, а потому все элементы этой стройной системы координат, как только фигура рационального субъекта была из нее выбита, подверглись самой серьезной встряске. Сегодня можно говорить о некотором охлаждении как минимум по отношению к традиционному экономическому анализу права, рассматриваемому в качестве содержательной основы теории публичного выбора, а равно и самой теории публичного выбора, хотя, видимо, в меньшей степени, чем собственно «право и экономика». ——————————— <29> Связь либертарианства и экономического анализа права также анализируется Джоном Хэнсоном в другой работе: Jon Hanson and David Yosifon, The Situational Character: A Critical Realist Perspective on the Human Animal, 93 Geo L. J. 1, 153-8 (2004). <30> Антипатернализм оказывается частью (или логическим следствием) любой теории или идеологии регулирования, в основе которой лежит идея выбора чего-либо или ориентированность на те или иные предпочтения субъекта, ведь именно субъект в таком случае и должен решать, что хорошо, а что плохо, что нужно делать, а от чего лучше воздержаться (cf., Matthew D. Adler, Beyond Efficiency and Procedure: A Welfarist Theory of Regulation, 28 Fla. St. U. L. Rev. 241, 248, 330 (2000)).
Мягкий патернализм как стремление скорректировать неразумное поведение. Подобное движение сложно назвать оформившейся теорией регулирования, скорее, это целый набор разрозненных теорий, тем не менее объединенных общей чертой: не предлагая системного объяснения экономической и правовой действительности, они пытаются решить частные проблемы, скорректировав неразумное поведение субъектов экономического оборота, и тем самым снять сугубо прикладные проблемы, проистекающие из несовершенства рынка. В то время как рассмотренные выше политэкономические теории регулирования были созданы в недрах экономической теории, мягкий патернализм в регулировании, столь популярный сейчас в англоязычной юридической литературе, вовсе не пытается объяснить регулирование в терминах спроса и предложения, несовершенства рынка и прочих экономических концептов. Если задаться целью отыскать источники популярности мягкого патернализма в регулировании с позиций экономической теории, то можно прийти к выводу, что во многом происходящее сегодня в науке есть следствие разочарования интеллектуалов от юриспруденции в экономическом анализе права с его приматом логичности субъекта экономических отношений и его эгоистичным стремлением к максимизации собственных благ. Как показывают десятки и даже сотни исследований, зачастую экономические субъекты склонны совершать поступки, которые сложно назвать рациональными или обусловленными стремлением к получению благ. В этом смысле отход от традиционного экономического анализа права и попытка предложить решения по корректировке нерационального поведения, которое наблюдается в мягком патернализме, представляют собой следствие прежде доминировавшей в англоязычной науке парадигмы «право и экономика». Если отрешиться от сугубо юридической дискуссии, посвященной мягкому патернализму в регулировании, а также отставить в сторону экономическую науку, то теоретической основой данного подхода (если угодно, теорией регулирования, как этот термин использовался выше при рассмотрении других теорий регулирования) можно считать идеи, развиваемые политической теорией в рамках так называемого регулятивного государства и государства благосостояния, или социального государства, как его еще называют (соответственно regulatory state и welfare state). Здесь, видимо, следует напомнить, что концепция государства благосостояния предполагает обязанность государства обеспечить его гражданам некий минимальный уровень материального благосостояния <31>. Подобная политическая установка достигается преимущественно с помощью бюджетных расходов <32>, точнее, посредством перераспределения <33> (через налоги и бюджетный процесс) благосостояния от одних групп населения к другим, чем обеспечивается большая или меньшая социальная справедливость. При этом основное внимание в таком государстве обращено на бюджетный процесс, парламентскую демократию и ответственность политиков перед населением, их избравшим, за достижение указанных целей <34>. Модель регулятивного государства <35>, обычно противопоставляемая государству благосостояния, но по сути являющаяся его эволюционным продолжением, в ответ на невозможность рынков самим решить возникающие проблемы предлагает исходить из того, что государство, осуществляя умное, детально проработанное и сбалансированное регулирование, может обеспечить координацию поведения участников экономических отношений. Тем самым регулятивное государство больше ориентировано на регулирование рынков, чем на перераспределение социальных благ как таковое <36>. А значит, создание норм права в таком государстве, их последующая имплементация в практическом русле, мониторинг правоприменения и тонкая настройка выходят на первый план, а ключевую роль играют прежде всего правотворцы, причем не парламентарии и прочие публичные политики, а технократы от юриспруденции и экономики, эксперты в узких отраслях знания, юристы, работающие на правительственные структуры и консультирующие парламентские комиссии, прогрессивные судьи <37>. ——————————— <31> Gosta Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism 18-9 (Princeton: Princeton University Press, 1990); Kenneth J. Arrow, Extended Sympathy and the Possibility of Social Choice, 67 Am. Econ. Rev. 219, 224-5 (1977). <32> Esping-Andersen, id. <33> Giandomenico Majone, From the Positive to the Regulatory State: Causes and Consequences of Changes in the Mode of Governance, 17 J. Pub. Pol. 139, 149 (1997). <34> Id. <35> Jacint Jordana and David Levi-Faur, The Politics of Regulation in the Age of Governance, in: The Politics of Regulation Institutions and Regulatory Reforms for the Age of Governance, Jacint Jordana and David Levi-Faur eds. 8-11 (Edward Elgar Publishing, 2004); Ian Ayres and John Braithwaite, Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate 14 (Oxford: Oxford University Press, 1992); Giandomenico Majone, The Rise of the Regulatory State in Europe, 17 W. Eur. Politics 77 (1994); Martin Lodge, Regulation, the Regulatory State and European Politics, 31 W. Eur. Politics 280 (2008). <36> Deborah Mabbett, The Regulatory Rescue of the Welfare State, in: Handbook on the Politics of Regulation, David Levi-Faur ed. 215 (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2011). <37> Majone, supra note 33, at 149.
Как в случае с концепцией регулятивного государства, так и в случае с государством благосостояния несовершенство рынка, его неспособность решать проблемы, связанные с экономической и социальной несправедливостью, предлагается устранять не сугубо экономическими, рыночными механизмами, а обращением к государству. Вспоминая, что государство должно руководствоваться общим благом, в том числе и забытой в пылу либертарианских дискуссий социальной справедливостью, предлагается реконструировать идею государства за счет выделения, гипертрофирования его социальной функции. После чего такому доброму и социально ориентированному государству вменяется в обязанность с помощью умного, нюансированного регулирования создавать социально и экономически справедливую правовую среду, комфортную для любого человека. Там, где экономисты-либертарианцы пытались вывести государство за скобки референтного поля, включающего такие понятия, как рынок, экономическая политика, распределение социальных и экономических благ, сторонники регулятивного государства и государства благосостояния намеренно и осознанно выдвигают государство на первый план, несколько видоизменяют его идею (в сравнении с экономистами), наделяют это понятие особым содержанием, вводят элемент защиты экономического благосостояния индивида и тут же переходят к обсуждению того, что именно должно делать государство, чтобы человеку было экономически комфортно. В таком случае тезисы о том, что должно делать государство, превращаются в набор конкретных политико-правовых мер, имеющих ярко выраженную патерналистскую направленность. Как следствие, обе названных концепции государства рука об руку идут с программами регулирования экономической активности, содержащими больший или меньший компонент патернализма, ограничения свободы усмотрения. Несмотря на то, что в зарубежной литературе на это редко обращают внимание <38>, смысловая связь указанных идей очевидна. Более того, один из наиболее ярких представителей современного мягкого патернализма Касс Санстин в силу своих профессиональных интересов также является глубоким специалистом <39> в области теории регулятивного государства. ——————————— <38> Видимо, исключением служат только работы проф. Метью Адлера: Adler, supra note 30, at 331. <39> Cass R. Sunstein, Beyond the Republican Revival, 97 Yale L. J. 1539 (1988); Cass R. Sunstein, Interpreting Statutes in the Regulatory State, 103 Harv. L. Rev. 405 (1989); Cass R. Sunstein, Paradoxes of the Regulatory State, 57 U. Chi. L. Rev. 407 (1990); Cass R. Sunstein, After the Rights Revolution: Reconceiving the Regulatory State (Cambridge: Harvard University Press, 1993); Richard H. Pildes and Cass R. Sunstein, Reinventing the Regulatory State, 62 U. Chi. L. Rev. 1 (1995); Cass R. Sunstein, Free Markets and Social Justice (New York: Oxford University Press, 1999).
Итак, эту теорию регулирования можно было бы обозначить как теорию регулятивного государства или социального государства, сопряженную с мягким патернализмом. Как становится ясно при обращении к литературе по данному вопросу, во всем, что связано с регулированием экономической деятельности, указанная теория стремится опереться на изыскания из области когнитивной и социальной психологии, иногда социологии, а также бихевиористской экономики. Подобные заимствования из сопредельных наук нацелены на то, чтобы понять, где и почему люди при принятии тех или иных решений делают ошибки, в чем именно эти ошибки состоят, а далее посредством правового регулирования, исходящего от государства, которое заботится о простом человеке, канализировать индивидуальное поведение в направлении, позволяющем исправить эти ошибки. Причем делается это, как обычно заявляют сторонники подобного подхода, в интересах самого же индивида <40>. ——————————— <40> На доводы противников патернализма, что человек вправе сам определять свое будущее, даже если это гибельное для него решение, обычно защитники юридического патернализма (более общего, традиционного толка, а не относящиеся к мягкому патернализму) приводят следующие аргументы: (1) неразумные решения одного индивида допустимы, пока они не сказываются отрицательно на других, при появлении негативных последствий для третьих лиц возможно введение тех или иных ограничений дурного произвола конкретного индивида, (2) что есть самостоятельное решение, в том числе сознательное решение человека действовать себе во вред, иными словами, где проходит граница разумности и неразумности, в чем состоит стандарт разумности и добровольности того или иного решения и поступка (см.: Joel Feinberg, Legal Paternalism, 1 Can. J. Phil. 105, 110 (1971); Gerald Dworkin, Paternalism, 56 Monist 64 (1972); John Hospers, Libertarianism and Legal Paternalism, 4 J. Libertarian Stud. 255, 261 (1980); Duncan Kennedy, Distributive and Paternalist Motives in Contract and Tort Law, with Special Reference to Compulsory Terms and Unequal Bargaining Power, 41 Md. L. Rev. 563, 625 (1982). См. также: John Kultgen, Autonomy and Intervention: Parentalism in the Caring Life 60 et seq. (Oxford: Oxford University Press, 1995)).
Можно обнаружить несколько поднаправлений в рамках такого подхода: — либертарианский патернализм был предложен Кассом Санстином и Ричардом Талером как своеобразный компромисс между доставшимся в наследство от экономического анализа права прежним либертарианским подходом и стремлением проводить патерналистскую регулятивную политику, пусть и основанную на облегченной версии патернализма <41>. Несмотря на обвинения в нелогичности указанного термина <42> и критику по существу <43>, сторонники либертарианского патернализма предлагают проводить определенную регулятивную политику, направляя поведение участников оборота для достижения целей исправления когнитивных ошибок и прочего неразумного поведения (элемент патернализма), но при этом не загоняя их в раз и навсегда предустановленные рамки, а предоставляя возможность при наличии на то явно выраженного желания выбирать другие модели поведения и тем самым реализовывать собственную свободу (элемент либертарианства) <44>. Неразумность поведения и систематическое повторение схожих ошибок в выборе того или иного варианта поведения ученые предлагают выявлять с помощью инструментария бихевиористской экономики и когнитивной психологии, а корректировать — внедряя разумную архитектуру выбора, причем архитектором выбора <45> могут быть не только законодатель, административные регуляторы и судьи, но и любой участник оборота, задающий модели поведения для других людей: от работодателя, пекущегося о будущей пенсии своих работников и по умолчанию включающего их в те или иные программы социального обеспечения, до владельца кафе, благоразумно расставляющего на видном месте на прилавке здоровую еду вместо вредного фастфуда. При этом сторонники либертарианского патернализма не особенно обеспокоены регулированием каких-либо глобальных экономических вопросов или сугубо коммерческой сферы, напротив, их внимание сосредоточено на предельно утилитарных вопросах повышения общего уровня жизни (здоровое питание и чистая окружающая среда, сокращение закредитованности населения, лучшее образование) и социального обеспечения (пенсии, качество медицины, сбережения населения). Отношение к регулированию коммерческих контрактов авторы специально не артикулируют, но его довольно просто вывести из анализа публикаций: диспозитивные нормы всегда и во всем <46>; ——————————— <41> Richard H. Thaler and Cass R. Sunstein, Libertarian Paternalism, 93 Am. Econ. Rev. 175 (2003). Впоследствии ключевые идеи этой теории были развиты в интеллектуальном бестселлере этих же авторов: Thaler and Sunstein, Nudge. <42> Gregory Mitchell, Libertarian Paternalism Is an Oxymoron, 99 Nw. U. L. Rev. 1245 (2005). <43> Детальному критическому анализу либертарианского патернализма посвящена целая книга (см.: Riccardo Rebonato, Taking Liberties: A Critical Examination of Libertarian Paternalism (Palgrave Macmillan, 2012)). Критика данного направления представлена также в следующих работах: Gregory Mitchell, Why Law and Economics’ Perfect Rationality Should Not Be Traded for Behavioral Law and Economics’ Equal Incompetence, 91 Geo. L. J. 67 (2002); Jonathan Klick and Gregory Mitchell, Government Regulation of Irrationality: Moral and Cognitive Hazards, 90 Minn. L. Rev. 1620 (2006); Edward L. Glaeser, Paternalism and Psychology, 73 U. Chi. L. Rev. 133, 151 (2006). <44> Thaler and Sunstein, 93 Am. Econ. Rev. at 175 (supra note 41); Cass R. Sunstein and Richard H. Thaler, Libertarian Paternalism is Not an Oxymoron, 70 U. Chi. L. Rev. 1159, 1160-1 (2003) (hereinafter — Sunstein and Thaler, Libertarian Paternalism); Thaler and Sunstein, Nudge, at 5-6. <45> Thaler and Sunstein, Nudge, at 3. <46> Thaler and Sunstein, Nudge, at 83-7; Sunstein and Thaler, Libertarian Paternalism, at 1162; Cass R. Sunstein, Empirically Informed Regulation, 78 U. Chi. L. Rev. 1349, 1392-9 (2011) (hereinafter — Sunstein, Informed Regulation).
— либертарианский вэлфаризм, развиваемый Расселом Коробкиным <47>, выстроен на сходной методологической базе (отрицание рациональности традиционной экономической логики <48>, пристальное внимание к бихевиористской экономике), при этом предлагает, что за основу того или иного регулирования следует брать обеспечение благосостояния. В этом смысле данная теория представляет собой усовершенствованную версию мягкого патернализма, поскольку задает содержательный критерий того, что именно должно быть упаковано в диспозитивную норму <49>, собственно либертарианский патернализм внятного ответа на этот вопрос так и не дал. Соединяя вэлфаризм как критерий истинности регулятивного содержания и диспозитивные нормы как механизм проведения в жизнь определенной регулятивной политики <50>, профессор Коробкин получает на первый взгляд привлекательный со всех точек зрения (не нарушается свобода выбора и реализуется забота о благе всех и каждого) механизм регулирования экономических отношений; ——————————— <47> Russell Korobkin, Libertarian Welfarism, 97 Cal. L. Rev. 1652 (2009). <48> Id., at 1655-64. <49> Id., at 1664-9, 1671-4. <50> Id., at 1683-5.
— асимметричный патернализм был предложен группой ученых, работающих на стыке психологии и права, но при этом и не отказывающихся от традиционного дискурса «право и экономика» <51>. В данном случае те же регулятивные цели, что предлагают Санстин и Талер, обосновываются иначе, в терминах, типичных для экономистов (издержки и прочие концепты из области cost-benefit analysis). Поскольку субъект экономических отношений зачастую нерационален, подвержен тем или иным ошибкам <52>, некоторый уровень патернализма в принципе допустим (авторы не без ехидства приводят выдержку из судебного решения 1868 г., где делался вывод, что не все субъекты могут принимать решения в их собственных интересах, в том числе не способны разумно заключать контракты «идиоты, несовершеннолетние и замужние женщины» <53>). Соответственно, чтобы обеспечить интересы не всегда рационально поступающих субъектов, надлежит использовать в качестве средств проведения регулятивной политики в основном диспозитивные нормы <54>. При этом, поскольку основная часть участников оборота в силу инерции и прочих причин будут использовать по умолчанию такие нормы, на деле реализуется заданная в них патерналистская направленность регулирования, а те, кому такие нормы не по душе, например продвинутые участники оборота, всегда могут отойти от правила, заданного по умолчанию <55>. Тем самым нерациональное поведение мягко корректируется, в идеале — если норма содержательно подобрана правильно — исключается вовсе, для основной части участников оборота подобная корректировка поведения с точки зрения издержек имеет положительный эффект, а для тех, кто не желает следовать правилу по умолчанию, возможность отойти от него ничего не стоит <56>. Именно поэтому такой мягкий патернализм именуется асимметричным: он сильнее воздействует на нерациональных субъектов, якобы улучшая их положение, но при этом слабо затрагивает интересы иных лиц, позволяя им делать то, что они разумно полагают правильным для себя <57>. ——————————— <51> Colin Camerer, Samuel Issacharoff, George Loewenstein, Ted O’Donoghue, and Matthew Rabin, Regulation for Conservatives: Behavioral Economics and the Case for «Asymmetric Paternalism», 151 U. Pa. L. Rev. 1211 (2003); George Lowenstein, Troyen Brennan, and Kevin G. Volpp, Asymmetric Paternalism to Improve Health Behaviors, 298 JAMA 2415, 2416 (2007); George Loewenstein and Emily Haisley, The Economist as Therapist: Methodological Ramifications of «Light» Paternalism, 210, 212-4, in: The Foundations of Positive and Normative Economics, Andrew Caplin and Andrew Schotter eds. (Oxford: Oxford University Press, 2008). <52> Camerer et al., supra note 51, at 1214-8. <53> Id., at 1213 n. 5 (citing Rogers v. Higgins, 48 Ill. 211, 217 (1868), 1868 WL 5084, at *4). <54> Id., at 1224. <55> Id., at 1222. <56> Id. <57> Id., at 1212, 1251-3; Loewenstein and Haisley, supra note 51, at 215.
Все эти теории сходятся в одном: мягкий патернализм нередко обоснован и соразмерен тем целям, ради которых он допускается в регулировании, при этом, всегда позволяя отойти от модели поведения, навязываемой по умолчанию, он не несет опасностей жесткого патернализма. Даже если оставить в стороне аргументы в пользу обоснования этой идеи (лежащие ли в сфере экономики, психологии или политики права, базирующейся на каких-либо морально-нравственных ценностях), сама по себе эта мысль представляется верной по меньшей мере для всего, что связано с договорным правом, особенно в части, посвященной коммерческим контрактам. Более того, мягкий патернализм может примирить совершенно разные позиции: от консерваторов, выступающих за то или иное регулирование, прямолинейное и совершенно лишенное нюансов, до самых безумных либералов, не приемлющих каких-либо рамок государственного вмешательства, ведь указанная модель позволяет совместить определенную регулятивную политику, но при этом сохранить свободу выбора. В этом смысле модель регулирования, предполагающая мягкий патернализм, действительно может рассматриваться как наиболее адекватная альтернатива развития современной политики договорного права в России.
II. Выбор подхода к регулированию: позитивная программа
II.1. Следует ли вообще что-либо решать за других и где критерий истинности? Ключевой компонент современной юридической методологии и всей гуманитарной мысли — скептическое, если не сказать подозрительное, отношение к любому идеологическому и методологическому монизму в науке. Как только предлагается какая-то идея или теория, претендующая на универсальное объяснение юридической действительности, ее сразу подвергают критическому анализу. После чего она либо сходит на нет, либо разветвляется на несколько новых теорий, что ослабляет ее первоначальный тезис, но это же дает стимулы для поиска новых идей, а в итоге для развития научной мысли в целом. Интерес к экономическому анализу права, который 20 — 25 лет назад был так популярен в зарубежной науке, главным образом англоязычной, в настоящее время охладел, что объясняется критическим переосмыслением ключевых постулатов неоклассической экономической теории, лежащих в основе этого методологического подхода к праву. Разочарование в «праве и экономике» началось с осознания того, что «все ошибаются». В данном случае под всеми имеются в виду не столько ученые, которые, как может показаться, прельстились внешне привлекательным исследовательским инструментарием, сколько те экономические субъекты, которые согласно экономической теории и течению «право и экономика» ежесекундно должны стремиться к приумножению собственных благ. Беспрестанное стремление действовать разумно и исключительно в собственном интересе <58> можно обозначить как тезис или основную идею, называемую в литературе экономического анализа права рациональным выбором субъекта (все, что делает homo economicus, рационально <59> по определению) <60>. К сожалению, именно этот центральный тезис подвергся серьезной смысловой эрозии, после чего привлекательность всей теории экономического анализа права в его классическом выражении начала снижаться. ——————————— <58> Cf., Posner, supra note 28, at 761. <59> Christine Jolls, Cass R. Sunstein, and Richard Thaler, A Behavioral Approach to Law and Economics, 50 Stan. L. Rev. 1471, 1476 (1998). <60> Robert Frank, Departures from Rational Choice: With and Without Regret, in: The Law and Economics of Irrational Behavior, Francesco Parisi and Vernon Smith eds. 13 — 32 (Stanford: Stanford Economics and Finance, 2005).
Идею рационального выбора критиковали давно, задолго до расцвета течения «право и экономика» и зенита славы наиболее ярких представителей чикагской школы экономической мысли, причем критиковали сами же экономисты. Так, в противовес рациональному выбору в свое время была предложена идея <61> ограниченной рациональности: несмотря на то, что значительная часть решений, принимаемых человеком, рациональна по своей природе, рациональность экономических решений не абсолютна. Зачастую многие экономически важные решения обусловлены альтруистическими мотивами, лишенными стремления к максимизации собственных благ, а некоторые поступки вообще могут быть лишены логического обоснования, например продиктованы когнитивными ошибками, манипуляцией массового сознания либо иными внешними факторами, не поддающимися описанию с позиций рационального выбора. Соответственно, не нужно бросаться в другую крайность и полагать, что все участники экономических отношений нерациональны, изо дня в день совершают непродуманные поступки. Вовсе нет. Просто рациональность, на которой построены все экономические модели, имеет свои границы <62>, а потому, прежде чем что-либо обосновывать согласно экономической теории, нужно корректно очертить рамки рационального поведения. В рамках рациональной модели поведения все можно предсказать или просчитать, а вот с ограниченной рациональностью очень многие поступки не могут быть предсказаны или учтены заранее. Как следствие, до тех пор, пока не очерчены границы рационального поведения, многие идеи, предлагаемые экономистами, могут быть поставлены под сомнение. ——————————— <61> Родоначальником идеи ограниченной рациональности (limited/bounded rationality) субъекта в экономической теории принято считать Г. Саймона: Herbert A. Simon, A Behavioral Model of Rational Choice, 69 Q. J. Econ. 99 (1955) («Традиционная экономическая теория постулирует «экономического человека», который, будучи «экономическим», также является «рациональным». Этот человек предполагается обладающим знанием о соответствующих аспектах окружающей его действительности, которые пусть и не полноценны, но по крайней мере поразительно ясны и массивны. Кроме того, такой человек предполагается имеющим высокоорганизованную и стабильную систему предпочтений, а также способность вычислять, которая позволяет ему просчитывать возможные альтернативные варианты поведения, доступные для него, что в итоге позволит ему достигнуть наиболее высокую точку удовлетворения потребностей»). <62> Cf., Simon, id., at 113.
Понятно, что если экономисты начали сомневаться в корректности многих экономических идей, созданных в рамках неоклассической экономической мысли, то политико-правовые выводы (именно то, чем был полезен экономический анализ права) вызывают еще больше скепсиса и подозрений. Значит ли это, что об экономическом анализе права нужно забыть, как, впрочем, и обо всех иных «неюридических» политико-правовых теориях, и вернуться в лоно стандартной догматической юриспруденции? Вовсе нет, напротив, критическое переосмысление экономического анализа права позволяет сделать следующий шаг в развитии политико-правовой мысли: поняв слабые стороны прежнего «права и экономики», можно искать новые исследовательские инструменты, которые устранят несовершенство прежней методологии. Однако все ценное, что уже дал экономический анализ права (например, оценка издержек и последствий от регулятивного воздействия, теория внешних ограничений, проистекающих из любого регулирования или договора, и пр.), конечно, и далее может эффективно применяться в доктрине права. Следует более подробно рассмотреть идею несостоятельности разумного субъекта. Тезис об ограниченной рациональности экономического субъекта долгое время находился в тени, но в начале 1990-х гг. неожиданно стремительно стала развиваться так называемая бихевиористская экономика, которая пошла в прямо противоположном от идеи рационального выбора направлении, а несколько ранее, в 1978 г., автор тезиса об ограниченной рациональности, показавший плодотворность этой идеи для целей изучения процесса принятия управленческих решений, получил Нобелевскую премию по экономике. Расцвет бихевиористики и раздела экономической теории <63>, изучающего мотивы, определяющие принятие тех или иных решений, видимо, можно объяснить достижениями в области когнитивной и социальной психологии, которая в период 1960 — 1990-х гг. накопила внушительный объем эмпирических данных, проливающих свет на то, чем руководствуются люди при принятии решений, а также какие ошибки мы совершаем из раза в раз, делая что-то, как нам кажется, сугубо рациональное и находящееся в рамках нашего собственного усмотрения. Многочисленные эмпирические исследования показывают, что в процессе познания окружающей действительности, а также при формулировании концептов, которые делаются на основании такого познания и принимаемых впоследствии осознанных решений, люди склонны повторять одни и те же ошибки: ——————————— <63> Ознакомиться со спектром вопросов, а также с работами наиболее ярких представителей бихевиористского подхода к праву можно, обратившись к двум сборникам статей по самому широкому кругу проблем, к которым применяется инструментарий бихевиористской экономики и психологии: Behavioral Law and Economics, Cass R. Sunstein ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2000); The Law and Economics of Irrational Behavior, Francesco Parisi and Vernon Smith eds. (Stanford: Stanford Economics and Finance, 2005).
— ошибку доступности <64> (смысл ищется и находится там, где его, возможно, нет, но где он усматривается под влиянием недавнего опыта; например, если человек имел опыт работы с недобросовестными коммерсантами, то и все остальные коммерсанты будут казаться ему в большей или меньшей степени жуликами, требующими жесткого регулирования их деятельности); ——————————— <64> Amos Tversky and Daniel Kahneman, Availability: A Heuristic for Judging Frequency and Probability, 5 Cogn. Psy. 207 (1973).
— ошибку репрезентативности <65> (отнесение одного феномена к определенному роду или виду либо наделение события признаками причины или следствия лишь благодаря частоте его появления; так, если в одном правовом институте лицо отвечает без вины, то, скорее всего, в ином схожем институте, даже если безвиновной ответственности не предусмотрено, практика его применения пойдет по тому же пути, хотя изначально логика безвиновной ответственности в первом институте может оказаться совсем другой, чем во втором); ——————————— <65> Daniel Kahneman and Amos Tversky, Subjective Probability: A Judgment of Representativeness, 3 Cogn. Psy. 430 (1972); Amos Tversky and Daniel Kahneman, Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, 185 Science 1124 (1974).
— неприятие потерь (loss aversion) <66>, что выражается в самых разных искажениях восприятия действительности и последующего принятия решений: от так называемого эффекта обладания (endowment effect — то, что принадлежит, ценится больше, чем то, что могло бы принадлежать; как показывают лабораторные опыты психологов, эффект от потери блага стоимостью 1 обычно уравнивается людьми получением благ как минимум вдвое большей ценностью, т. е. 2 и более, и наоборот, получение блага стоимостью 1 примерно равно утрате блага на 0,5; в праве этот эффект проявляется очень часто в различных правовых институтах <67> — начиная от защиты права собственности и владения и заканчивая спорами о порядке определения убытков, снижения неустойки и прочих штрафных санкций) до чрезмерного оптимизма при принятии решений (поскольку при принятии экономических решений риск возможных потерь не столь болезненный, как в случае с уже произошедшей утратой, мы чрезмерно позитивно оцениваем будущее, недооценивая при этом возможность наступления негативных последствий <68>; так, мы, конечно, допускаем, что должник может не исполнить обязательства по договору, однако в большинстве случаев существенно недооцениваем этот риск при заключении договора <69>, за что впоследствии платим высокую цену) и предпочтения оперировать небольшими числами, обычно не превышающими 5 (при анализе того или иного явления обычно принимается во внимание не более трех-пяти позиций, из-за чего анализ оказывается изначально ущербным; например, при заключении договора большинство контрагентов, а также юристов обращают, как правило, внимание на два-три ключевых условия: цена, ответственность, срок, которые в специальной литературе предложено именовать выделяющимися условиями, хотя за рамками таких условий могут содержаться куда более важные и не столь очевидные на первый взгляд условия, имеющие самое принципиальное значение для судьбы договора) <70>; ——————————— <66> Richard H. Thaler, Toward a Positive Theory of Consumer Choice, 1 J. Econ. Behavior & Org. 39, 43-4 (1980); Daniel Kahneman, Jack L. Knetsch, and Richard H. Thaler, Experimental Tests of the Endowment Effect and the Coase Theorem, 98 J. Pol. Econ. 1325 (1990); Daniel Kahneman, Jack L. Knetsch, and Richard H. Thaler, Anomalies: The Endowment Effect, Loss Aversion, and Status Quo Bias, 5 J. Econ. Perspectives, 193 (1991); Kahneman and Tversky, supra note 5, 39 Am. Psysh’t, at 342. <67> Russell Korobkin, The Endowment Effect and Legal Analysis, 97 Nw. U. L. Rev. 1228 (2003). <68> Jeffrey J. Rachlinski, The Uncertain Psychological Case for Paternalism, 97 Nw. U. L. Rev. 1165, 1172 (2003). <69> Cf., Robert A. Hillman, The Limits of Behavioral Decision Theory in Legal Analysis: The Case of Liquidated Damages, 85 Cornell L. Rev. 717, 723-5 (2000). <70> Russell Korobkin, Bounded Rationality, Standard Form Contracts, and Unconscionability, 70 U. Chi. L. Rev. 1203, 1225-34 (2003).
— эмоции, или, иначе, эмоциональное состояние, которое превалирует у конкретного человека, в коллективе или обществе в целом; оно может коренным образом видоизменять восприятие окружающей действительности и влиять на содержание принимаемых решений (наиболее интересными в данном случае являются труды по изучению влияния негативных эмоций <71> на восприятие; к огромному сожалению, очень многие явления в текущей правовой политике применительно и к договорному праву, и к иным институтам могут быть объяснены с позиций превалирования негатива, при этом негатив умножает негатив, для нейтрализации которого требуется на порядок больше усилий по установлению позитивного тона, что видно на примере тех же научных диспутов в отечественной науке права последних десятилетий). ——————————— <71> Cf., Baumeister et al., supra note 5; Rozin and Royzman, supra note 5; N. Kyle Smith, Jeff T. Larsen, Tanya L. Chartrand, John T. Cacioppo, Heather A. Katafiasz, and Kathleen E. Moran, Being Bad Isn’t Always Good: Affective Context Moderates the Attention Bias Toward Negative Information, 90 J. Pers’ty & Soc. Psy. 210 (2006).
Названные, а также многие другие ошибки <72>, которые системно совершаются вполне рациональными субъектами и которым посвящены уже сотни специальных исследований, позволяют не просто утверждать, что все склонны ошибаться, а дать более тонкое и нюансированное заключение, имеющее самое принципиальное значение для политики права: люди склонны создавать и впоследствии развивать комплексные, зависящие от контекста событий смысловые стратегии, определяющие тот или иной выбор, при этом обычно люди опираются в своих суждениях на недавний опыт восприятия, эмоции, а также недавние события и горечь потерь и сожалений <73>. Из этого вовсе не следует полный релятивизм или агностицизм, а равно отрицание самой возможности объективного познания, в том числе постижения юридической действительности. Однако изучение названных трудов когнитивных психологов позволяет более критически и с изрядной долей здорового скепсиса относиться к какой-либо юридической теории или точке зрения, притязающей на исключительные правильность, верность или объективность. Любому, кто в таком случае претендует на нахождение объективной истины, надлежит проделать титанический труд, чтобы очистить смысловые построения от наслоений, обусловленных контекстом <74> (историческим или событийным), эмоциями, собственными предпочтениями и уровнем образования, стереотипов, превалирующих в группе единомышленников — в общем, сделать по сути невозможное, выйти за пределы собственного «я» в процессе юридического познания. ——————————— <72> Обзор ошибок при «умном» восприятии окружающей действительности приводится в многочисленной литературе по этому вопросу. Для примера можно назвать пару замечательных книг и статью, с которой началось разграничение так называемых Системы 1 и Системы 2: Ziva Kunda, Social Cognition. Making Sense of People (Cambridge: MIT Press, 1999); Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011); Keith E. Stanovich and Richard F. West, Individual Differences in Reasoning: Implications for the Rationality Debate? 23 Behav. & Brain Sci. 645, 658-9 (2000). <73> Rachlinski, supra note 68, at 1168. <74> Cf., Mitchell, 91 Geo. L. J., at 125-7 (supra note 43) (всем, кто всерьез хочет применять психологическую методологию к изучению правовых проблем, необходимо научиться отделять проблему от контекста); Korobkin, supra note 70, at 1225 (принятие всякого решения обусловлено контекстом).
Сверхоптимизм, проистекающий не только из неприятия потерь, но также в больше степени из эгоцентризма, так или иначе свойственного любому человеку <75>, приводит к тому, что мы зачастую склонны приуменьшать свои ошибки и заблуждения, чем замечать их у других, а когда они все-таки были выявлены — находить оправдания. Они могут заблуждаться <76>, не понимать, испытывать всевозможное внешнее давление, быть продажными, коррумпированными и легко подпадать под влияние лоббистов (или лоббировать собственные узконаправленные интересы). Напротив, мы по большей части так или иначе адекватнее воспринимаем действительность, опытнее и образованнее, совершенно бескорыстны (или корыстны, но наши устремления полностью отвечают общему благу) и последовательно проводим в жизнь идеалы добра и справедливости. Зачастую то, что нам кажется знанием, является лишь иллюзией <77> знания или понимания, но признаться в этом мешает сверхоптимизм. Но одно дело, когда ошибается ученый-юрист или практик при формулировании договорного условия или в ходе отстаивания интересов клиента в судебном процессе, и другое — когда ошибается регулятор. ——————————— <75> Michael Ross and Fiore Sicoly, Egocentric Biases in Availability and Attribution, 37 J. Pers’ty & Soc. Psy. 322 (1979). <76> Richard E. Nisbett and Timothy DeCamp Wilson, Telling More Than We Can Know: Verbal Reports on Mental Processes, 84 Psych’l Rev. 231, 255-7 (1977); Richard E. Nisbett and Timothy DeCamp Wilson, The Halo Effect: Alteration of Judgments, 35 J. Pers. & Soc. Psychol. 250 (1977); Hanson and Yosifon, supra note 29, at 58. <77> Kahneman, supra note 72, at 79-88, 199-221; Chen and Hanson, supra note 27, at 70-91; Ronald Chen and Jon Hanson, Categorically Biased: The Influence of Knowledge Structures on Law and Legal Theory, 77 S. Cal. L. Rev. 1103, 1222-6, 1243-50 (2004).
Как часто можно встретить в литературе ссылки на некоего мистического законодателя, который что-то в свое время решил, а потому все юристы, пытающиеся постигнуть глубинный смысл соответствующего решения, призывают на помощь любой исследовательский инструментарий — от лексического толкования с использованием словаря Ожегова до обращений к черту лысому, чтобы только понять, что же имел в виду законодатель, предусматривая конкретную правовую конструкцию (или, что еще хуже, когда ничего не предусмотрел. «Намеренно ли умолчал законодатель?» — вопрошают в таком случае коллеги-юристы). Однако как детям рано или поздно приходится понять, что Деда Мороза не существует, так и юристам следует признать, что никакого Законодателя, который имеет тайный канал подпитки от Высшего Разума, в природе не существует. Текст закона или подзаконного акта, судебного прецедента рождается в результате множества смысловых переплетений, усиленной борьбы и компромиссов, обусловлен контекстом принятия политико-правовых решений и уровнем развития общества, политической и правовой элиты. К сожалению, никакого законодателя, которого можно было бы усадить в кресло напротив и обстоятельно расспросить, что он имел в виду, принимая тот или иной закон, никогда не было и не будет. А кто был в таком случае, кто сделал возможным появление конкретного регулирования? Как правило, это небольшие группы экспертов, включающие не только юристов, но и представителей сопредельных отраслей знания, которые выше предлагалось именовать юридической элитой — несколько сотен человек, которые формируют политику гражданского права, в том числе определяют идеологию регулирования договорных отношений. Видимо, это коллективное эго можно было бы назвать законодателем, однако границы этой группы крайне сложно определить. Могут ли элиты допускать ошибки, принимая решение о введении той или иной договорной конструкции? Совершенно очевидно, что да, коль скоро состоят они из людей <78>, а не из бездушных компьютеров или обитателей олимпа. ——————————— <78> Sunstein, Informed Regulation, at 1363 (официальные лица также подвержены ошибкам, поскольку они люди и им тоже свойственно ошибаться); Jolls et al., supra note 59, at 1509 (законодатели, стремящиеся быть переизбранными, будут реактивно реагировать на то, что необходимо обществу, а потому во время проведения регулятивной политики возможны ошибки при принятии законодательных решений, обусловленные видением конкретной ситуации со стороны законодателей).
Итак, допускать ошибки могут все: политики, лоббирующие принятие закона исходя из текущего социального запроса, академические ученые, глубоко изучившие ту или иную теоретическую проблему, юристы-практики, с головой ушедшие в работу, судьи, заваленные грудой дел, которые нужно разрешать, даже если нет нормы права или ранее созданного прецедента, коммерсанты, отстаивающие послабления для себя и ограничения для своих конкурентов. Но когда ошибка не отливается в форму обязательного для третьих лиц правового регулирования, она не столь опасна <79>. Напротив, если ошибка приводит к тому, что за нее приходится расплачиваться широкому кругу лиц и, возможно, бессрочно, в таком случае ее цена непозволительно высока. ——————————— <79> Glaeser, supra note 43, at 136-42.
Далее, ошибка при принятии единичного решения, пусть и имеющего юридические последствия (например, при формулировании договорных условий в ходе заключения гражданско-правовой сделки), принципиально отличается от ошибки мифического законодателя тем, что решение регулятора, однажды ставшее нормой права, если оно оказалось неверным, может мультиплицироваться многократно за счет так называемых информационных каскадов, порожденных описанной выше ошибкой доступности. Зачастую очень многие необъяснимые с точки зрения рассудочной логики законодательные инициативы или юридические решения более низкого уровня в иерархии источников права имеют под собой многократно отраженную ошибку неверного восприятия причины той или иной проблемы, требующей регулятивного реагирования, либо ошибочного регулятивного решения, реализованного в норме права. При этом эволюция такой ошибки в информационном каскаде идет по одному сценарию: мы выхватываем отдельные негативные события, нагнетаем давление, шлифуем их до неузнаваемости, отбрасывая «неважные детали», а потом, отталкиваясь от этого, начинаем применять законодательные меры, которые на самом деле направлены на борьбу не с изначальной проблемой, а с химерой, порожденной нашими страхами, помноженными на упрощенное восприятие действительности <80>. В этом смысле рассуждения о высокой ответственности за принятие законодательных (шире — любых иных регулятивных) решений оказываются вовсе не пустыми словами. ——————————— <80> Timur Kuran and Cass R. Sunstein, Availability Cascades and Risk Regulation, 51 Stan. L. Rev. 683, 715-36 (1999). Уже в статусе государственного служащего профессор Санстин реализовал схожие по существу идеи, направленные на предотвращение информационных каскадов, в ряде регулятивных инициатив, устраняющих так называемый кумулятивный эффект от регулирования (подробнее см.: Cass R. Sunstein, Memorandum For The Heads of Executive Departments and Agencies on Cumulative Effects of Regulations (March 20, 2012), available at: http://www. whitehouse. gov/sites/default/files/omb/assets/inforeg/cumulative-effects-guidance. pdf [05.03.2013]).
II.2. Возможная модель минимизации ошибок регулятора. В ситуации, когда систематическое совершение ошибок оказывается неотъемлемой частью человеческой натуры, а ошибка регулятора гораздо опаснее ошибки единичного субъекта, возникает вопрос о поиске критерия истинности: что считать мерилом правильности при принятии того или иного регулятивного решения, как понять, верна та или иная правовая конструкция, получившая силу нормы права, или нет? Не углубляясь в вопрос о содержательной составляющей норм договорного права, точнее, вовсе не затрагивая решение проблемы по существу, тем не менее можно предложить очень простой способ ее минимизации — использование в качестве общего правила для норм договорного права модели диспозитивной нормы. В таком случае законодатель может сколь угодно много допускать ошибки по существу, даже вводить самые нелепые договорные конструкции, однако наиболее продвинутые участники оборота всегда смогут отойти от навязываемого в иной ситуации (при использовании императивной нормы) правила поведения и предусмотреть для себя то, что наиболее точно отвечает специфике складывающихся между договаривающимися сторонами отношений. Можно было бы разобрать конкретные примеры, когда то или иное жесткое, не допускающее отступлений решение проблемы договорного права оказывалось ошибочным: от запрета на уступку части права требования, от которого уже давно отказались, до скорректированного порядка определения процентов за неоплату денежного долга (когда-то это была ставка рефинансирования) или уже набивших оскомину потестативных условий, точнее, до настоящего времени все еще недопускаемых договорных условий, наступление которых зависит от поведения одной из сторон по договору. Но лучше ограничиться гипотетическим примером, каким образом эффект от минимизации ошибки регулятора может работать во временном контексте и не давать эффекта информационного каскада. Предположим, что здесь и сейчас (в России 2000 г.) регулятор принял решение, реализованное в норме права (A -> B), которое, возможно, не оптимально, но в любом случае содержательно «правильно» (допустим, так считает большинство участников оборота или юридической элиты) для большей части экономических субъектов, к примеру для 85%. Для 10% оно совершенно безразлично, поскольку они все равно не соблюдают нормы права, а для 5% пагубно, так как несоразмерно ограничивает их права на то, чтобы создать оптимальное для них правило поведения (A -> C или даже целый набор решений A -> B, C, D… X). Указанная норма права будет иметь разные последствия с точки зрения ошибочности заложенного в ней содержательного решения: — если это норма императивная (только A -> B), то до 5% участников оборота пострадают от ошибки регулятора, причем они будут лишены возможности сами для себя исправить ошибку, хотя 85% все равно выиграют (для них сработает эффект юридического патернализма: регулятор за них нашел эффективное решение); — если это норма диспозитивная (A -> B, C… X), то до 90% участников (85% + до 5% включительно, поскольку, возможно, не все 5% воспользуются возможностью отступить от правила по умолчанию) оборота окажутся в выигрыше: и те, для кого эта норма (A -> B) была оптимальна, и те, кто от нее отступил (A -> C, D… X), коль скоро конструкция диспозитивной нормы это позволяла. Возможно, 5% против 85% в приведенном примере производят не столь сильное впечатление. А если наоборот, 85% против 5%? Так, если законодатель, в очередной раз проявляя заботу о некоей гипотетической бабушке или индивидуальном предпринимателе, противостоящем монополисту, фактически запрещает условие в сложном коммерческом контракте, то наблюдается именно такая ситуация, когда ради меньшинства исключается возможность заключения коммерческого контракта большинством (к примеру, бабушки или мелкие предприниматели (меньшинство) не заключают сложных сделок по приобретению бизнеса, однако крупные коммерческие структуры, которые такие сделки совершают (большинство), лишены возможности поставить наступление договорных последствий от действий (вывод активов, начало переговоров с иным покупателем и т. п.) или бездействия (неполучение регуляторных разрешений, непривлечение финансирования в срок и т. п.) противоположной стороны). Соответственно, негативные издержки от ошибки регулятора в случае использования императивной нормы несут все участники оборота, для которых то или иное решение неоптимально, пока не будет изменено. Цена ошибки регулятора, упаковывавшего, по существу, то же решение в диспозитивную норму, минимальна, негативные издержки несут только те субъекты, которые по инерции предпочитают следовать правилу по умолчанию, а не придумывать что-то для себя, что в случае с коммерческими контрактами покрывается понятием коммерческого риска, поэтому такими издержками можно пренебречь. Одно и то же юридическое решение в зависимости от исторического контекста может иметь больший или меньший негативный эффект: то, что было «правильным» вчера, сегодня уже не столь очевидно, а завтра будет представляться глупостью <81>. И в то время как диспозитивная норма — через распространение альтернативных договорных практик — допускает корректировку ошибочного решения, ранее допущенного регулятором, императивная норма, пока ее не изменит или не отменит регулятор, «правильная», даже если в ней давным-давно нет регулятивной логики. Так, приведенный выше гипотетический пример может с течением времени показывать следующую динамику, если, например, предположить, что каждые три года хотя бы 3% участников оборота будут испытывать негативные последствия от содержащегося в норме права содержательного предписания: ——————————— <81> К примеру, тот же запрет на уступку части прав требования в середине 1990-х гг., вероятно, был верным политико-правовым решением, однако в 2013 г. он представляется историческим курьезом. При этом осознание ущербности того или иного решения может приходить со временем, сообразно развитию хозяйственного оборота: так, в середине 1990-х гг. от названного запрета уступки части требования пострадали, возможно, всего несколько субъектов, однако в начале 2000-х гг. негативное последствие такого запрета могли ощущать уже сотни или тысячи экономических агентов. Другой пример из новейшей истории — запрет на уступку в массовом порядке задолженности по потребительским кредитам всем иным лицам, кроме коммерческих организаций, обладающих лицензией кредитной организации, фактически введенный недавно судами общей юрисдикции. Пока что только один банк ощутил на себе всю пагубность подобного решения, поскольку не смог реализовать кредитный портфель из-за отсутствия претендентов на его приобретение, которые бы обладали необходимой лицензией. Как следствие, для такого банка, лишенного возможности довольно просто и дешево рефинансировать ранее выданные кредиты через «оптовую» уступку задолженности, стоимость кредитных ресурсов повышается, а значит, повышается и стоимость потребительского кредита для всех его потенциальных заемщиков. Это только первый случай такого рода. Очевидно, что с развитием практики рефинансирования все больше банков и иных участников оборота будут осознавать пагубность подобного юридического решения и тем самым нести бремя издержек от непродуманного регулятивного решения, увеличивая число субъектов, для которых оно совершенно однозначно имеет негативный эффект.
Юридическая конструкция Эффект в % по годам Вариант нормы/эффективность 2000 2003 2006 2009 2012 императивная позитивно 85 82 79 76 73 нейтрально 10 10 10 10 10 негативно 5 8 11 14 17 диспозитивная позитивно <= 90 <= 90 <= 90 <= 90 <= 90 нейтрально 10 10 10 10 10 негативно >= 0 >= 0 >= 0 >= 0 >= 0
Эту динамику можно истолковать следующим образом: при императивном варианте нормы договорного права, если исторический контекст меняется, а регулятор не успевает своевременно скорректировать правило поведения, негативные последствия от ранее принятого ошибочного политико-правового решения только умножаются с течением времени, при использовании диспозитивной нормы любые ошибки корректируются рыночной практикой заключения договоров. При этом даже те, кто прежде следовал правилу по умолчанию, постепенно начинают использовать как согласованное договорное условие содержательно иное правило поведения, а потому не пополняют число проигравших, оставаясь в группе тех, для кого такое регулирование позитивно. Наконец, эффект информационного каскада, о котором говорилось выше, только умножает негативные последствия, порождаемые неверным политико-правовым выбором, облеченным в императивную норму. При этом наблюдается следующая закономерность: чем более общий характер имеет в систематике норм договорного права отдельная норма права, отлитая в гранит императивности, тем больше негатива она может вызвать для сопредельных институтов и соподчиненных ей норм. Одно дело, когда законодатель что-либо императивно решает для отдельного договорного условия, относящегося к довольно специфичному договору (например, контрактации), другое — когда императив устанавливается на уровне базовых конструкций, пронизывающих все или большинство институтов договорного права (те же потестативные условия). В первом случае негативный эффект от ошибки регулятора ограничится только отдельным договором, возможно, смешанными договорами, в которых будет присутствовать элемент поименованного договора в части императивно урегулированного договорного условия, во втором — негативный эффект от ошибки законодателя будет ощущаться по всей практике заключения договоров. Более того, публичная истерия, обычно сопровождающая информационный каскад, приводит к тому, что участники оборота начинают преувеличивать свои страхи и оценку негатива от той или иной общей конструкции, ошибочной по существу <82>. Соответственно, с позиций недопущения мультипликационного эффекта от ошибок, допущенных при принятии политико-правовых решений, касающихся общих, базовых конструкций договорного права, следует с предельной осторожностью относиться к введению императивных норм именно общего характера. Императив общего характера, если он для кого-то или со временем окажется неверным, более опасный, чем императивная норма предельно узкого применения. ——————————— <82> Так, в настоящее время многие российские трансакционные юристы полагают, что потестативные условия находятся вне закона, а потому лучше не использовать в договорной практике условий, так или иначе зависящих от поведения одной из сторон, что, наверное, также является передергиванием и отдает излишне негативным отношением, однако все это происходит вследствие информационного каскада и крайне трудно поддается исправлению. Информационный каскад не случайно сравнивают со сплетнями: его возникновение и развитие очень схоже с тем, как рождаются истории, в которых нет ни доли правды, ни разумного обоснования, но коль скоро сплетня начинает жить своей жизнью, уже неважно, что было на самом деле, а что нет. Так и в случае с информационным каскадом: зачастую юристы преувеличивают негатив от той или иной общей правовой конструкции, а для того, чтобы побороть последствия такого информационного искажения, необходимо приложить очень большие усилия.
Таким образом, по умолчанию для абсолютного большинства норм договорного права должно стать правилом, что все нормы ГК РФ о договорах обладают диспозитивным характером; нынешнюю презумпцию императивности <83> (норма императивна, если иное не следует из явно выраженного указания на иное, содержащееся в самой норме) следовало бы заменить на презумпцию диспозитивности (всякая норма договорного права диспозитивна, если иное не следует из самой нормы явно выраженным образом, например через указание на недействительность соглашения об ином условии, либо не вытекает из ее системного понимания — что в любом случае будет сделано через последующее судебное толкование, будет ли «вытекает из смысла нормы» прямо указано в законе или нет). Тем более что в отличие от иных разделов гражданского права (вещное право, определение статуса лица, наследование по закону, интеллектуальные права) суть договорного права <84>, ориентированного на согласование воль сторон, позволяет, противопоставляя интересы как минимум двух лиц, находить то или иное решение <85>, приобретающее силу нормы поведения для сторон соответствующего договора. ——————————— —————————————————————— КонсультантПлюс: примечание. Монография М. И. Брагинского, В. В. Витрянского «Договорное право. Общие положения» (книга 1) включена в информационный банк согласно публикации — Статут, 2001 (3-е издание, стереотипное). —————————————————————— <83> Как это ни странно (для гражданского права, которое как будто бы является доменом свободы и самоопределения, частного интереса и т. п.), большая часть норм договорного права — до 90%, по оценкам М. И. Брагинского, — в действующем ГК РФ имеет императивный характер (см.: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право: Общие положения. М., 1997. С. 71 (автор главы — М. И. Брагинский)). Даже если допустить, что подобные расчеты завышены, можно предположить, что они все же не слишком далеки от реальности, особенно учитывая крайне консервативный подход российских судов к толкованию договорных условий. <84> Robert A. Hillman, The Richness of Contract Law: An Analysis and Critique of Contemporary Theories of Contract Law 225 (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1997). <85> Забавно, что даже антипод гражданского права — уголовное право — избегает использования в законодательном тексте одномерных моделей в части санкции (A -> B), поскольку, как известно, уголовный закон противится так называемым абсолютно определенным санкциям, предпочитая описывать санкции за одно и то же деяние как набор возможных наказаний (A -> B, C, D) и (или) варьируя размер наказания в рамках одного вида (A -> … ). Тем самым даже для уголовного права законодатель не дает заранее предопределенных правил поведения (A -> B), оставляя правоприменителю некоторую свободу усмотрения, однако в подавляющем большинстве нормативно урегулированных ситуаций в рамках договорного права законодатель отказывает нормальным участникам оборота в способности свободного усмотрения. Видимо, тот самый мифический законодатель больше верит в разумность правоприменителя, в том числе по уголовным делам, чем в рациональность участников экономических отношений.
В чем принципиальное значение диспозитивности как правила по умолчанию, а не наоборот? Ответ, видимо, очевиден исходя из простого, но показательного примера с согласием на трансплантацию, описанного в самом начале настоящей статьи: правило по умолчанию способно направлять поведение человека в том или ином избранном правотворцами направлении. От того, насколько продуманным будет выбор, совершаемый при конструировании архитектуры выбора, зависит, в каком направлении пойдет общее развитие договорного права. В ситуации, когда суды (к сожалению, за редким пока исключением на уровне ВАС РФ), доктрина (по крайней мере в лице значительной части академической общественности) и практикующие юристы (пусть и движимые неверными страхами или информационными каскадами) исходят из общей посылки, что нормы договорного права в большинстве своем императивны, т. е. если прямо не указано где-то, то не допускается и отступление от предписанной модели поведения, это вольно или невольно сковывает развитие договорных практик. Участники оборота скорее будут ожидать недопустимости (недействительности или отсутствия судебной защиты) того или иного договорного условия, если оно прямо не дозволено. Напротив, диспозитивность задает совсем другое измерение, ориентир для правоприменителя: любое условие, вероятнее всего, действительно, ограничение договорной свободы должно быть так или иначе явственным (в законе или в судебной практике, в доктринальных источниках), а потому участники оборота вольны договариваться о чем угодно, если это не нарушает явные запреты или общие ограничительные рамки дозволенного поведения (обычно это базовый принцип добросовестности). Соответственно, презумпция императивности вне зависимости от того, в каком источнике права она закреплена (законе или судебном акте), дестимулирующе воздействует на развитие договорных практик и самого договорного права, провоцирует оппортунистическое поведение недобросовестных должников, вспоминающих каждый раз о недействительности договорных условий после того, как приходит время платить; напротив, презумпция диспозитивности отвечает духу свободы договора, делает заключаемые договоры по общему правилу подлежащими судебной защите и укрепляет договорную дисциплину участников оборота, что особенно важно в коммерческом обороте. Введение общей презумпции диспозитивности норм договорного права следует признать ключевой проблемой <86>, требующей решения в ходе проводимой в настоящее время реформы ГК РФ, однако именно эта проблема до сих пор не затронута в обсуждаемых поправках в «экономическую конституцию». Пока не будет произведена замена матрицы регулирования договоров, мы из раза в раз будем наблюдать последствия волюнтаристского выбора той или иной модели регулирования отдельных договоров, подчас принятых благодаря имеющим вес в текущий момент отдельным группам влияния, оказывающим определяющее воздействие на развитие всей договорной практики. Для того чтобы минимизировать подобные негативные последствия, нет нужды что-либо менять в политическом процессе создания норм права или нахождения критерия истинности той или иной правовой конструкции, достаточно лишь отойти от уверенности законодателя в том, что ему лучше, чем всем остальным участникам оборота и последующим правоприменителям, известно, что верно, а что нет. И сделать это можно, облачив регулятивное воздействие по конкретному вопросу в форму диспозитивной нормы, а не императивной. В свою очередь, это позволит участникам оборота самим скорректировать ошибки мифического законодателя. ——————————— <86> Некоторые видные отечественные правоведы ранее отстаивали презумпцию диспозитивности как общий принцип построения гражданского законодательства, но, к сожалению, до сих пор так и не были услышаны (см.: Гаджиев Г. А. Основные экономические права: Сравнительное исследование конституционно-правовых институтов России и зарубежных государств: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1996. С. 15, 47; Садиков О. Н. Императивные и диспозитивные нормы в гражданском праве // Юридический мир. 2001. N 7. С. 4 — 9; Карапетов А. Г. Свобода договора и пределы императивности норм гражданского права // Вестник ВАС РФ. 2009. N 11. С. 108 — 112; Розенберг М. Г. Некоторые актуальные вопросы практики разрешения споров в МКАС при ТПП РФ // Хозяйство и право. 2011. N 4. С. 58; Комаров А. С. Гражданский кодекс России как источник частного права // Развитие основных идей Гражданского кодекса России в современном законодательстве и судебной практике: Сб. ст., посвященный 70-летию С. А. Хохлова. М., 2011. С. 122 — 123).
Противники подобного подхода могут возразить, что отход от презумпции императивности норм договорного права и введение диспозитивности как принципа построения законодательного текста могут привести к тому, что проблема содержательного определения конкретных норм договорного права в таком случае не решается, а лишь откладывается на потом. При этом во время формулирования субстантивного правила, применяемого по умолчанию, либо введения жесткого предписания (позитивной обязанности или запрета), не предполагающего отступления от него по соглашению сторон, мифическому законодателю, возразят оппоненты, рано или поздно придется принять решение, что и каким образом регулировать, а значит, придется обсуждать и содержательную сторону нормирования договорных отношений. С точки зрения содержания норм договорного права, относимых к позитивному праву (законодательству), такой подход действительно не предлагает ничего нового. Более того, он не требует проведения содержательной ревизии всех норм договорного права, зафиксированных в части второй ГК РФ. Большинство предписаний части второй ГК РФ составляют нормы, сами по себе не возлагающие позитивной обязанности на участников договорных отношений (обязанность что-либо сделать в силу предписания закона в данном случае необходимо отличать от обязанностей, которые могут возникнуть у участников оборота в связи с вступлением в договорные отношения) или запрещающие что-либо (например, соглашение об ином под страхом его недействительности), напротив, значительная часть норм договорного права — это положения описательного свойства, позитивно конституирующие договорные условия и соответствующие им права и обязанности сторон договорного правоотношения. В связи с этим нет нужды пересматривать все эти нормы и расставлять маркеры императивности или диспозитивности. В таком случае если мифический законодатель закрепил нормативное положение (A -> B), но при этом умышленно или просто по забывчивости не сопроводил его стандартной оговоркой «если иное не предусмотрено соглашением сторон» или другой сравнимой с ней по правовым последствиям, то при презумпции императивности участники оборота будут лишены возможности предусмотреть любое иное договорное условие (A -> C, D… X); наоборот, при диспозитивности законодательного текста как общей предпосылке само по себе нормативное предписание останется неизменным (A -> B), но экономическим субъектам будут открыты все прочие опции (C, D… X). Тем самым проблема остается лишь в отношении норм договорного права, налагающих позитивные обязанности на участников оборота под страхом недействительности соглашения либо предусматривающих те или иные запреты. Именно для таких норм в политико-правовом контексте возможна постановка вопроса о том, чем в будущем законодателю следовало бы руководствоваться при введении того или иного ограничения договорной свободы. Не претендуя на сколько-нибудь серьезное освещение этой проблемы, поскольку она предполагает проведение отдельного обстоятельного рассмотрения <87>, можно, видимо, сформулировать в общем виде критерии, которыми следовало бы руководствоваться при возможном ограничении свободы договора на уровне закона. ——————————— <87> Серьезная разработка этой проблемы, подкрепленная историческим и сравнительно-правовым обзором литературы по данному вопросу, приводится в специальной монографии (см.: Карапетов А. Г., Савельев А. И. Свобода договора и ее пределы. В 2 т. М., 2012).
Во-первых, установление в договорном праве запретов или позитивных обязанностей, не предполагающих отступлений от предписанной модели поведения, видимо, возможно только тогда, когда особой защиты требуют права и законные интересы в принципе неограниченного <88> числа третьих лиц <89>, к примеру ограничения на совершение сделок под влиянием насилия, противоречия добрым нравам и т. п. Защита лишь отдельных категорий участников оборота должна достигаться посредством последующего судебного контроля за справедливостью договорных условий или средствами публичного права (антимонопольного регулирования, законодательства о рынке ценных бумаг, техническом регулировании, наконец, средствами уголовного права) там, где это необходимо. Гражданское право, особенно в его договорно-правовой части, не должно стремиться к регулятивной гегемонии и пытаться решать все проблемы правопорядка, с которыми сталкивается регулятор, причем исключительно средствами договорного (и в целом гражданского) права. Очевидно, подход к созданию норм гражданского права должен быть противоположным: гражданское право должно предельно аккуратно относиться к ограничению свободы договора, имея в виду, что помимо средств частноправового регулирования существует целая публично-правовая машина. ——————————— <88> В данном случае подобное ограничение свободы договора является частным случаем более общей проблемы — негативного эффекта от обладания любым имуществом, поскольку любая собственность, имущество, точнее, его использование, может иметь негативные последствия для третьих лиц. Эта проблема серьезно изучается в рамках традиционного экономического анализа права и известна под наименованием «внешний эффект» (external effect/externalities) (cf., Steven Shavel, Foundations of Economic Analysis of Law 77 — 87 (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2004)). <89> Аналогичную позицию см.: Карапетов А. Г., Савельев А. И. Указ. соч. Т. 1. С. 317 — 321.
Во-вторых, введение или устранение императивных норм в договорном праве должно ориентироваться на регулятивную конкуренцию и регулятивный арбитраж, которые существуют объективно, вне зависимости от того, обращено на них наше внимание или нет. Следует напомнить, что под регулятивной конкуренцией обычно понимают процесс создания в рамках конкретной юрисдикции отдельных правовых построений, ориентированных на привлечение новых экономических субъектов. Иными словами, регулятивная конкуренция исходит из того, что правовое регулирование относится к тем благам <90>, по поводу которых возможна конкуренция между правопорядками, и чем лучше регулятивная среда, тем привлекательнее она для субъектов оборота. В данном случае конкуренция скорее позитивный процесс, поскольку благодаря гонке правопорядков распространяются по миру прогрессивные юридические идеи и новые регулятивные практики. ——————————— <90> Основоположником концепции конкуренции в области правового регулирования принято считать Чарльза Тибо, предложившего в 1956 г. общую модель конкуренции в области публичных благ (see, Charles M. Tiebout, A Pure Theory of Local Expenditures, 64 J. Pol. Econ. 416, 420-1 (1956)).
Напротив, регулятивный арбитраж выравнивает регулятивный ландшафт разных юрисдикций <91> за счет того, что правопорядки, пытающиеся средствами законодательного регулирования в одиночку бороться с негативными экономическими практиками, рано или поздно вынуждены следовать примеру своих соседей, которые не имеют подобных ограничений, иначе капитал перетекает в те юрисдикции, где ему ставят меньше препятствий. Соответственно, регулятивный арбитраж на деле оказывается оборотной стороной процесса конкуренции правопорядков, хотя и с негативным оттенком. Так, если регулятивная конкуренция представляется как движение вверх, по направлению к более прогрессивным идеям и лучшим регулятивным практикам, то регулятивный арбитраж — как гонка вниз, к тому, чтобы сломать очередной барьер или ограничение, в результате чего и честный субъект оборота, и бандит с большой дороги станут одинаково свободны. Между тем от такой свободы скорее страдают, чем выигрывают большинство участников оборота, поскольку она выливается во вседозволенность. ——————————— <91> Детальный и глубокий анализ феномена регулятивного арбитража на примере налогов см.: Victor Fleischer, Regulatory Arbitrage, 89 Tex. L. Rev. 227 (2010).
Воздействие регулятивной конкуренции и арбитража на процесс создания императивных норм договорного права очевидно. С одной стороны, российский правопорядок не может стоять в стороне от процесса глобализации, а потому все новое и прогрессивное, что можно увидеть в сопредельных юрисдикциях, так или иначе будет воспринято российским правом, в том числе и запреты или ограничения договорной свободы. С другой стороны, тенденция к размыванию границ жесткого регулирования затрагивает и российское право, а потому российский законодатель не сможет вводить те или иные запреты, если от них отказываются иные юрисдикции. Тем самым за рамками защиты интересов неограниченного числа третьих лиц и тех объективных пределов, которые задают регулятивная конкуренция и регулятивный арбитраж, видимо, абсолютное большинство норм договорного права должны быть нормами, применяемыми по умолчанию, коль скоро стороны договора не установили для себя иного, а по своей политико-правовой направленности — нормами, реализующими политику мягкого патернализма. Возможно, некоторая градация в пределах спектра «императивное — диспозитивное» для норм договорного права также должна производиться исходя из того, кто является стороной гражданско-правового договора.
II.3. Уровень субъектов регулирования. Коль скоро гражданское, или частное, право — это единая система права и законодательства, пронизанная одной внутренней логикой, не имеет смысла умножать количество законов, в которых могут содержаться нормы гражданского права: вариант, однажды избранный российским правопорядком, при котором все наиболее принципиальные нормы гражданского права размещаются в одном законодательном акте, ГК РФ, видимо, стоит признать наиболее оптимальным с точки зрения систематики законодательства. Вместе с тем включение всех норм гражданского права в единый законодательный акт вовсе не означает, что внутри системы норм гражданского права не может проходить их дифференциация, в том числе по отдельным институтам или группам субъектов. Напротив, пандектная система гражданской кодификации, которой традиционно следует российское законодательство, как известно, предполагает не только выделение общей и особенной частей в кодексах, но и обособление каждый раз отдельных общих положений применительно к группе институтов или одному конкретному институту в рамках более общих смысловых групп. Соответственно, в части общих положений о договорах ГК РФ может быть проведена градация регулирования по линии «императивное — диспозитивное» в зависимости от субъектного состава <92>. Такая градация будет органично вписываться в существующую структуру Кодекса и выполнять функцию смыслового единения разных норм гражданского права, что не предполагает распыление норм договорного права по иным законам или создание отдельных специализированных кодексов (коммерческого, предпринимательского и т. п.). ——————————— —————————————————————— КонсультантПлюс: примечание. Монография М. И. Брагинского, В. В. Витрянского «Договорное право. Общие положения» (книга 1) включена в информационный банк согласно публикации — Статут, 2001 (3-е издание, стереотипное). —————————————————————— <92> Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ. соч. С. 74 — 75 (автор главы — М. И. Брагинский).
Итак, в связи с предлагаемой дифференцированной законодательной политикой в области договорного права можно выделить следующие группы субъектов и соответствующие им вариации, различающиеся по субъектному составу, которые требуют разного подхода при регулировании договорных отношений, возникающих между такими лицами: 1) граждане (дееспособные физические лица, включая граждан Российской Федерации, иностранных лиц, лиц без гражданства), вступающие в договорные отношения с гражданами, причем такие отношения для каждой стороны не сопряжены с осуществлением предпринимательской деятельности (далее — модель «гражданин — гражданин»); 2) граждане, вступающие в договорные отношения с коммерсантами (лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, включая граждан, на регулярной основе занимающихся предпринимательской деятельностью, как правило, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя, коммерческими организациями, а также некоммерческими организациями в случае осуществления последними предпринимательской деятельности; определяющим в данном случае должен быть не формальный критерий статуса (зарегистрирован в качестве предпринимателя или статус коммерческой организации), а характер деятельности и природа заключенного договора с гражданином) (далее — модель «гражданин — коммерсант»); 3) коммерсанты, вступающие в договорные отношения друг с другом, причем ни одна из сторон таких отношений не является гражданином в том смысле, как это определено выше, т. е. участвует в договорном отношении не в качестве потребителя, а лишь как коммерсант (далее — модель «коммерсант — коммерсант»); 4) граждане, вступающие в договорные отношения с некоммерческими организациями не связи с какой-либо коммерческой деятельностью последних, а, напротив, в связи с так называемой идеальной, некоммерческой целью (благотворительность, волонтерство, духовные общины, религиозные организации, политические партии и т. п.), причем получателем благ от такой деятельности может быть как гражданин (например, безвозмездно обучаемый чему-либо), так и некоммерческая организация, получающая что-либо (материальные блага, услуги) от гражданина (далее — модель «гражданин — НКО»). В силу очевидного диспаритета переговорных возможностей (информационная асимметрия, разные объемы знаний и экономической власти) излишняя патерналистская забота, а значит, большая степень императивности норм договорного права и меньшая договорная свобода необходимы для второй группы отношений, «гражданин — коммерсант», поскольку коммерсант как a priori более продвинутая сторона всегда может навязать невыгодные гражданину договорные условия. Видимо, чуть меньший патернализм необходим для первой и четвертой групп («гражданин — гражданин» и «гражданин — НКО») и в данном случае он должен быть направлен скорее на то, чтобы предотвратить нерациональное поведение участников оборота, не обладающих тем потенциалом средств и возможностей, а также правовых знаний, которые есть у коммерсантов, а не на то, чтобы минимизировать негативный эффект от неравенства переговорных возможностей, как в случае с моделью «гражданин — коммерсант». Наконец, для группы субъектов «коммерсант — коммерсант» патернализм, а значит, и уровень императивности норм договорного права, должен быть наименьшим, в противном случае законодатель рискует непропорционально ограничить договорную свободу с малопонятной целью. Графически интенсивность императивного или диспозитивного начала может быть представлена в виде вектора, на котором отмечены названные группы субъектов регулирования при движении от императивного начала к диспозитивному:
\ \ \ \ \ \ \ НАИБОЛЬШАЯ — гражданин — гражданин ДИСПОЗИТИВНОСТЬ \ ИМПЕРАТИВНОСТЬ > — гражданин — коммерсант — гражданин — НКО — коммерсант — коммерсант / / / / / / / /
При этом разная интенсивность императивного и диспозитивного начал в регулировании договорных условий применительно к каждой группе субъектов вовсе не предполагает большее или меньшее использование только прямых запретов или позитивного обязывания. Напротив, в зависимости от целей того или иного патерналистского вмешательства в договорную свободу со стороны государства могут различаться и используемые в таком случае средства регулирования. Можно выделить следующие орудия регулятивной политики и наиболее подходящие для них средства из арсенала императивных норм или того, что может быть выражено как правило по умолчанию в случае использования диспозитивной нормы. Модель «гражданин — коммерсант». Возможное обоснование регулятивного патернализма, цель ограничения договорной свободы: защита слабой стороны в договоре, неравенство переговорных возможностей, информационная асимметрия (профессионал всегда лучше знает тонкости своего дела, чем обычный гражданин). Варианты прямого регулирования, облеченного в форму императивных норм, направленных главным образом против сильной стороны в договоре, т. е. коммерсанта, в отношения с которым вступает гражданин: 1) общий запрет несправедливых договорных условий как гарантия ex ante и возможность судебного контроля за справедливостью договорных практик при неравенстве договорных возможностей, особенно при заключении договора с использованием стандартных проформ <93>, как компенсирующий механизм ex post <94>; 2) обязанность коммерсанта раскрывать информацию по целому набору принципиальных коммерческих условий, причем делать это как в форме детального раскрытия (например, в специальных материалах, сопровождающих заключение сложных финансовых договоров — банковского кредита на значительные суммы, ипотеку, приобретение ценных бумаг, участие в программах коллективного инвестирования, строительства жилья и т. п.), так и в виде доступного и понятного любому человеку перечня наиболее принципиальных позиций <95>, определенных регулятором как ключевые для принятия решения о заключения договора (примерно так же, как это делается для указания состава продуктов питания: не более четырех-пяти позиций, которые любому позволяют понять, с чем он имеет дело); 3) при использовании коммерсантом стандартных форм при заключении договора: не только информирование потребителя о ключевых условиях договора, но также выделение на законодательном уровне перечня принципиальных условий, требующих специального согласования с потребителем, а равно введение отдельного договорного режима для принятия тех или иных условий (например, обязанность получения согласия на уступку прав требования лишь после наступления определенных событий, а не при заключении самого договора, заключение соглашения о третейской оговорке в форме отдельного соглашения <96> и т. п.) — словом, обеспечение того, чтобы при заключении договоров посредством использования договорных форм давать право решающего выбора гражданину по так называемым выделяющимся <97> договорным условиям; 4) введение требований о временных ограничениях на вступление в силу отдельных договоров или договорных условий лишь после истечения «периода остывания» <98>, с тем чтобы ограничить граждан от принятия поспешных решений, грозящих им в будущем существенными финансовыми рисками, а равно намеренное поддержание диспаритета между гражданином и коммерсантом на последующий отказ от отдельных договоров либо несправедливых договорных условий, судебную защиту в части сроков на заявление таких отказов и исков (большие сроки для граждан, сокращенные — для коммерсантов); 5) введение требований о необходимости получения гражданином профессионального совета (юридического, финансового, медицинского и т. п.) при заключении отдельных видов договоров; 6) ограничение круга коммерсантов, которые могут заключать отдельные виды договоров, лишь теми, кто обладает специальной лицензией или состоит в саморегулируемой организации, застраховал свою профессиональную ответственность; 7) расширение круга сделок, заключаемых в квалифицированной письменной форме (с нотариальным удостоверением или в приравненном к нему порядке). ——————————— <93> Korobkin, supra note 70, at 1245. <94> Сравнительно-правовой обзор подходов, используемых при судебном контроле за справедливостью договорных условий см.: Карапетов А. Г., Савельев А. И. Указ. соч. Т. 2. С. 211 — 450. <95> О различии полного и суммированного раскрытия информации как эффективного средства регулирования поведения, а также об уместности одного и другого варианта раскрытия информации применительно к различным ситуациям см.: Sunstein, Informed Regulation, at 1366-87. <96> Korobkin, supra note 70, at 1250. <97> Подробнее о разграничении выделяющихся и стандартных условий при использовании стандартных договорных форм см.: Korobkin, supra note 70, at 1225-57; Sunstein, Informed Regulation, at 1405. <98> Camerer et al., supra note 51, at 1238.
Модель «гражданин — гражданин» или «гражданин — НКО» <99>. Возможное обоснование патернализма и ограничения договорной свободы: минимизация нерационального поведения субъектов, информационная асимметрия, обеспечение права на судебную защиту гражданина. ——————————— <99> Возможно, для группы «гражданин — НКО» следовало бы допустить даже чуть большую свободу усмотрения сторон, коль скоро стороны сами идут на сознательный выбор, направленный на облагодетельствование другого лица, однако здесь подобной нюансированной дифференциацией можно пренебречь. При более детальном рассмотрении, очевидно, группа «гражданин — НКО» заняла бы промежуточное положение, предполагающее сравнительно более высокую долю диспозитивности, на приведенном выше векторе между позициями «гражданин — гражданин» и «коммерсант — коммерсант».
Варианты прямого регулирования, облеченного в форму императивных норм, направленных на решение указанных задач: 1) те же общие запреты несправедливых договорных условий, что указаны выше; 2) ограничение набора типов и видов договоров (а также элементов таких договоров при заключении смешанных договоров), которые могут заключать эти субъекты, и соответствующее расширение числа сугубо коммерческих контрактов и условий, доступных исключительно коммерсантам; 3) введение требований о временных ограничениях на вступление в силу отдельных договоров или договорных условий лишь после истечения некоторого «периода остывания» (например, для договоров, направленных на отчуждение жилья, если продавец-гражданин не желает удостоверять договор нотариально), установление более продолжительных в сравнении с сугубо коммерческими контрактами сроков для судебной защиты нарушенных прав; 4) введение требований о необходимости получения гражданином профессионального совета (юридического, финансового, медицинского и т. п.) при заключении отдельных договоров; 5) расширение круга сделок, заключаемых в квалифицированной письменной форме (с нотариальным удостоверением или в приравненном к нему порядке). Модель «коммерсант — коммерсант». Возможное обоснование патернализма и минималистичного ограничения договорной свободы: предотвращение нерационального поведения субъектов коммерческого оборота, информационная асимметрия, различие в переговорных возможностях между мелким коммерсантом и представителем крупного бизнеса. Варианты прямого регулирования, облеченного в форму императивных норм, направленных на решение указанных задач либо реализуемых как правило по умолчанию в случае использования диспозитивной нормы, от которого, однако, коммерсанты все же вправе отойти, следующие: 1) те же общие запреты несправедливых договорных условий, что указаны выше, но с введением более жесткого (в сравнении с иными группами субъектов, указанных выше) стандарта разумности и осмотрительности стороны при заключении договора; 2) введение обязанностей раскрывать информацию как минимум по наиболее принципиальным позициям, определенным регулятором как ключевые для принятия решения о заключения договора для отдельных видов договоров; 3) ограничение круга коммерсантов, которые могут заключать отдельные виды договоров, лишь теми, кто обладает специальной лицензией или состоит в саморегулируемой организации, застраховал свою профессиональную ответственность либо отвечает иным специальным требованиям (квалифицированный инвестор, участник торговой системы и т. п.). За рамками этих ограничений договоренности коммерсантов должны подлежать судебной защите, насколько это возможно, а не лишаться свойства юридически обязательного акта и тем более не признаваться недействительными сделками по сугубо формальным основаниям. Таким образом, разная интенсивность императивного или диспозитивного начала в законодательном тексте может быть реализована не только посредством насаждения запретов или обязанностей, но также введением информационных гарантий и ужесточением требований к порядку заключения отдельных договоров для некоторых категорий участников оборота, главным образом граждан. Однако отправной точкой даже такой дифференциации правового регулирования служит общая презумпция диспозитивности: общее дозволение как базовая норма для законодательного текста с последующим точечным, каждый раз специально выверенным отступлением от общей нормы, которое не облекается обязательно в форму запрета, а реализуется с помощью целого арсенала возможных правовых средств. При этом в отношениях, построенных по модели «коммерсант — коммерсант», подобные отступления от общего принципа диспозитивности должны стать экстраординарным исключением, допускаемым в самых редких случаях, и такая исключительность должна определяться в ходе публичных юридических дискуссий, а не решаться келейно академическими учеными, притязающими на монополизацию истинности юридического знания. Отход от презумпции императивности и признание за нормами договорного права общего характера диспозитивных норм вовсе не приведут, как полагают критики подобного законодательного движения, к хаосу и анархии: поскольку большинство участников оборота обычно предпочитают использовать правило по умолчанию <100>, фактически не задействуя предоставляемое право выбора иного, то и переключение матрицы регулирования принципиально не изменит поведение значительной части субъектов. ——————————— <100> Kahneman, supra note 72, at 348, 367; Sunstein, Informed Regulation, at 1350-1; Russell Korobkin, The Status Quo Bias and Contract Default Rules, 83 Cornell L. Rev. 608, 611 (1998); Jolls et al., supra note 59, at 1507; Cass R. Sunstein, Switching the Default Rule, 77 N. Y.U. L. Rev. 106, 109 (2002); James J. Choi, David Laibson, Brigitte C. Madrian, and Andrew Metrick, Optimal Defaults, 93 Am. Econ. Rev. 180 (2003).
Внимательное изучение того, что следует понимать под диспозитивной нормой, также наводит на мысль, что в зависимости от той или иной модели диспозитивной нормы (и любой нормы, не являющейся императивной), задействованной законодателем, регулятивный эффект может сильно различаться.
II.4. Вариативность диспозитивных и иных слабоимперативных норм. До настоящего момента противопоставление императивных и диспозитивных норм договорного права презюмировалось как само собой разумеющееся, однако для создания более нюансированной картины правовой действительности все же необходимо подробнее рассмотреть это соотношение. Под императивной нормой (и соответствующей ей презумпцией императивности законодательного текста) следует понимать любую норму, которая не допускает отступления от содержащегося в ней правила поведения <101>. Если отход от правила поведения, предписанного императивной нормой, порождает для участников оборота негативные последствия: от признания гражданско-правовой сделки недействительной или лишения ее последующей судебной защиты до публично-правовой (административно — или уголовно-правовой) ответственности, то конкретная норма квалифицируется как императивная. По этому критерию (учитывая также отсутствие в норме указания на возможность иного варианта поведения, выбираемого участниками оборота), видимо, следует отграничивать собственно императивные нормы от сопредельных правовых конструкций. ——————————— —————————————————————— КонсультантПлюс: примечание. Монография М. И. Брагинского, В. В. Витрянского «Договорное право. Общие положения» (книга 1) включена в информационный банк согласно публикации — Статут, 2001 (3-е издание, стереотипное). —————————————————————— <101> Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ. соч. С. 71, 78 (автор главы — М. И. Брагинский); Ian Ayres and Robert Gertner, Filling Gaps in Incomplete Contracts: An Economic Theory of Default Rules, 99 Yale L. J. 87 (1989); Alan Schwartz, The Default Rule Paradigm and the Limits of Contract Law, 3 S. Cal. Interdisc. L. J. 389, 390 (1993); Ian Ayres, Valuing Modern Contract Scholarship, 112 Yale L. J. 881, 885 (2003); Adam J. Hirsch, Default Rules in Inheritance Law: A Problem in Search of Its Context, 73 Fordham L. Rev. 1031, 1032 (2004).
Так, можно обнаружить как минимум две ситуации, когда норма, формально-юридически признанная императивной, на деле таковой не является. Во-первых, если в норме отсутствует указание на иное, однако по характеру содержащегося в ней предписания можно понять, что за отступление от него не наступает каких-либо правовых санкций (например, декларативные нормы-принципы, как правило, обозначающие общие рамки поведения или принципы регулирования того или иного института), такая норма, строго говоря, не может быть квалифицирована как императивная <102>. Во-вторых, императивная норма, не только не содержащая указания на иное, но, возможно, даже предусматривающая те или иные негативные последствия на случай ее несоблюдения (может быть, не такие жесткие, как ничтожность соглашения об ином, а такие, как, например, невозможность использовать определенные средства защиты, если не соблюдено предписанное правило поведения), с развитием оборота и договорных практик главным образом через судебное толкование может быть со временем признана как фактически диспозитивная <103>, т. е. в принципе допускающая установление участниками оборота такого варианта поведения, которое отличается от предписанного этой недифференцированной нормой. В последнем случае в результате судебного правотворчества создается новая, уже диспозитивная норма, хотя и опирающаяся на формально императивную норму, содержащуюся в позитивном праве. ——————————— <102> Для тех, кто любит играть понятиями, конечно, подобную норму можно отнести к императивным нормам в широком смысле слова: формально она принадлежит к императивным нормам, но в узком смысле слова ее сложно признать императивной, если понимать под этим нормы, не допускающие отступления от содержащегося в них правила поведения. <103> Примеры из новейшей судебно-арбитражной практики подобной переквалификации норм с императивных на диспозитивные см.: Карапетов А. Г., Савельев А. И. Указ. соч. Т. 2. С. 46.
Презумпция императивности законодательного текста, таким образом, органически связана с сугубо формальным отношением к нормам, не имеющим указания на иное: если не предусмотрена возможность участников оборота избирать иной вариант поведения, то норму следует признать императивной, за нарушение ее должны наступать определенные правовые последствия. При этом слабая интенсивность негативных правовых последствий (в первом из указанных случаев) либо отступление судов от императивного характера конкретной нормы (во втором случае) рассматривается как эрозия императивности, принципа законности либо как некоторое отклонение от общепризнанной модели поведения, а потому требующая коррекции, исправления, восстановления законности, понимаемой в таком случае сугубо с позиций юридического формализма и позитивизма. Как одно противостоит другому, черное — белому, тьма — свету, так и норма императивная может быть противопоставлена диспозитивной. Самый простой вариант определить диспозитивную норму гражданского законодательства — это отнести к диспозитивным нормам все нормативные предписания, которые, строго говоря, не являются императивными. Но в таком случае можно обнаружить целый спектр норм, которые не будут подходить под то, что традиционно российские юристы относят к диспозитивной норме гражданского законодательства, т. е. правилу поведения, содержащемуся в позитивном праве и применяемому по умолчанию, если стороны не установили для себя иного <104>. При более пристальном рассмотрении всего, что буквально не относится к императивным нормам поведения, можно будет найти как нормы, допускающие иное в максимально широких границах (возможно, в таком случае рамки допустимого поведения будут ограничены лишь принципами законности, добросовестности и разумности поведения), так и нормы, формально допускающие иные варианты поведения, которые, однако, будут заданы такой нормой, а потому в данном случае сложно говорить о диспозитивности и свободе усмотрения сторон. Указанный спектр норм гражданского договорного права, строго говоря, не являющихся императивными, может быть представлен следующими законодательными моделями. ——————————— —————————————————————— КонсультантПлюс: примечание. Монография М. И. Брагинского, В. В. Витрянского «Договорное право. Общие положения» (книга 1) включена в информационный банк согласно публикации — Статут, 2001 (3-е издание, стереотипное). —————————————————————— <104> Ср. с рассуждениями профессора Брагинского о соотношении диспозитивных и императивных норм: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ. соч. С. 78 (автор главы — М. И. Брагинский).
1. Диспозитивная норма, содержащая правило поведения, применяемое по умолчанию, если стороны — все или некоторое большинство (а в случаях, допускаемых такой нормой, также по решению всего лишь одной стороны) — не предусмотрели иной вариант поведения, полностью или в части отступающий от того, что указано в содержательной части нормативного предписания (A -> B, только если не выбран любой из вариантов A -> C, D… X). Обычно именно такая модель юридико-технического исполнения правила поведения рассматривается <105> как диспозитивная норма в строгом смысле слова <106>. При этом диспозитивная норма, с одной стороны, играет роль подсказки участникам оборота при конструировании ими будущих договорных отношений, задавая некие ориентиры, от которых они могли бы отталкиваться, с другой стороны, дает инструмент судам для разрешения договорных споров там, где стороны договора изначально не согласовали конкретное договорное условие <107>. Эту модель диспозитивной нормы можно обозначить как диспозитивную норму с возможностью отступления от нее <108>, причем тут нет, как может показаться на первый взгляд, тавтологии, поскольку возможен иной вариант диспозитивной нормы. ——————————— <105> Hirsch, at 1032; Ayres and Gertner, at 87; Schwartz, at 390 (cited in supra note 101). <106> Опять же для любителей игры в понятия указанную модель можно обозначить как диспозитивную норму в узком смысле слова, имея в виду, что все прочие модели, не относимые при этом к императивным нормам, могут быть грубо обозначены как диспозитивные в широком смысле слова. <107> Любой договор, насколько бы тщательно он ни согласовывался сторонами и сколько бы самых прогрессивных юристов ни участвовали в его написании, всегда так или иначе будет неполным: нельзя в единичной сделке предусмотреть решения на все случаи жизни, именно поэтому суды призваны восполнять неполноту контракта (cf., Shavel, supra note 88, at 300-1; Ian Ayres and Robert Gertner, Strategic Contractual Inefficiency and the Optimal Choice of Legal Rules, 101 Yale L. J. 729 (1992); Randy E. Barnett, The Sound of Silence: Default Rules and Contractual Consent, 78 Va. L. Rev. 821 (1992)). <108> К этой разновидности диспозитивных норм, видимо, следует отнести описанную выше ситуацию судейского правотворчества, когда суды через толкование нормы, формально-юридически являющейся императивной, придают ей фактически характер нормы диспозитивной.
2. Диспозитивная норма, содержащая правило поведения, применяемое только при условии, что стороны — все или некоторое большинство (а в случаях, допускаемых такой нормой, также по решению всего лишь одной стороны) — предусмотрели ее применение полностью или в части (A -> B, когда выполнимо условие C -> D) <109>. Опять же диспозитивная норма служит здесь подсказкой для участников оборота, однако в силу различных политико-правовых соображений, как правило, связанных с неоднозначностью правовых последствий от ее выбора <110>, она не предлагается в качестве правила, применяемого по умолчанию. Более того, в отличие от диспозитивной нормы, допускающей возможность отступления от нее, на которую большинство соглашается не глядя, в случае данной модели диспозитивной нормы участники оборота сравнительно реже выбирают содержащееся в ней правило поведения <111>. И хотя после того, как стороны договора делают выбор, включается правило поведения, описанное в указанной норме, сама по себе ее конструкция не перестает быть диспозитивной, коль скоро такое правило поведения, точнее, его применение, всецело зависит от воли сторон, а не жестко предписано законодательством: в конце концов, стороны могут предусмотреть иной вариант поведения, не имеющий ничего общего с предлагаемой в позитивном праве моделью поведения, либо не предусмотреть ничего и тем самым не задействовать предлагаемую в позитивном праве модель поведения (понятно, что подобная конструкция диспозитивной нормы малопривлекательна для судов, поскольку они лишаются правила, применяемого по умолчанию). Подобную модель диспозитивной нормы можно обозначить как диспозитивную норму, требующую указания на ее выбор. От диспозитивной нормы, требующей явно выраженного согласия для применения ее как модели поведения, отличается следующая конструкция, которая, скорее, ближе к норме императивной. ——————————— —————————————————————— КонсультантПлюс: примечание. Монография М. И. Брагинского, В. В. Витрянского «Договорное право. Общие положения» (книга 1) включена в информационный банк согласно публикации — Статут, 2001 (3-е издание, стереотипное). —————————————————————— <109> Профессор Брагинский предлагал именовать подобные нормы факультативными (см.: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ. соч. С. 77 — 78 (автор главы — М. И. Брагинский)). Однако, как представляется, противопоставление собственно диспозитивных норм и факультативных несколько искусственно, поскольку обе конструкции по сути являются разновидностью нормы одного и того же рода. <110> Как правило, такие нормы используются при неравновесном распределении между сторонами договорных и иных коммерческих рисков, а потому сторонам словно бы говорится: вы, конечно, вольны решать сами (и принять в таком случае предлагаемое вам решение, содержащееся в такой диспозитивной норме), но тогда вы должны иметь в виду все негативные последствия, связанные с вашим выбором. <111> Sunstein, Informed Regulation, at 1393, 1424.
3. Норма, предполагающая активный выбор <112> одной из предписанных моделей поведения (А -> B v C v D… X); при этом участнику оборота предлагается как минимум два-три возможных варианта и он должен выбрать ту модель поведения, которая ему представляется наиболее оптимальной («уведомление должно быть направлено стороне одним из следующих способов: по почте, путем личного вручения, с использованием средств телефонной, телеграфной связи, через сеть Интернет, при этом договором должен быть предусмотрен конкретный способ отправки уведомления»). В зависимости от отсутствия или наличия опции, применяемой по умолчанию, такая конструкция может: ——————————— <112> Cf., Sunstein, Informed Regulation, at 1400-1; Gabriel D. Carroll, James J. Choi, David I. Laibson, Brigitte Madrian, and Andrew Metrick, Optimal Defaults and Active Decisions, 124 Q. J. Econ. 1639, 1639-40 (2009).
(1) являться разновидностью довольно жесткой императивной нормы (необходимо выбрать один вариант; если выбор не сделан, правило по умолчанию не применяется, соответствующее договорное условие признается не согласованным сторонами или наступают иные неблагоприятные последствия, указанные в самой норме или следующие из ее системного толкования: A -> B v C v D, в отсутствие выбранного B v C v D применимо A -> S, при этом S не правило по умолчанию, а санкция за отсутствие выбора B v C v D); (2) сближаться с императивной нормой, точнее, являться ее разновидностью, хотя бы и не такой жесткой с точки зрения негативных последствий (A -> B v C v D, в отсутствие выбранного B v C v D применимо A -> B), поскольку участникам оборота дается право выбора, но только из того набора опций, правил поведения, что описано в самой норме («если договором не предусмотрен ни один из указанных способов, оно [уведомление] должно быть отправлено по почте»), тем самым некая свобода усмотрения присутствует в такой конструкции, но эта свобода не предполагает возможности содержательно определять конкретное правило поведения, именно поэтому данную норму, скорее, следует отнести к императивным; (3) превращаться в вариант диспозитивной нормы, хотя бы и содержащей несколько вариантов поведения и предполагающей наличие правила, применяемого по умолчанию. В таком случае норма, предполагающая активный выбор, может сопровождаться правилом, применяемым по умолчанию (A -> B v C v D v X, в отсутствие выбранного B v C v D v X применимо A -> B), при этом перечень допустимых вариантов включает «иной вариант, предусмотренный соглашением сторон» (X), через который стороны могут ввести какое угодно правило поведения, подлежащее применению к их будущим договорным отношениям. Подобная конструкция по существу является нормой диспозитивной, причем соединяющей в себе как модель диспозитивной нормы с возможностью отступления от нее (в случае использования предоставленных возможностей создать содержательно новое правило поведения A -> X), так и диспозитивной нормы, требующей указания на ее выбор (A -> B v C v D для каждого B v C v D); при неиспользовании любой из предоставленных опций содержательным правилом, применяемым по умолчанию, будет выступать указанное в норме правило поведения (A -> B) так, как это обычно происходит в случае с диспозитивной нормой. Нормы, предполагающие активный выбор, не слишком часто используются в гражданском законодательстве, особенно императивные нормы, содержащие набор опций, игнорирование которых приводит к негативным последствиям (вариант 3(1)), такие конструкции скорее характерны для публичного права. Напротив, множество моделей поведения, предлагаемых на выбор, а при отсутствии осознанного выбора — применение правила по умолчанию соответствуют духу диспозитивности и позволяют сокращать ошибки регулятора при том или ином политико-правовом выборе, совершаемом по поводу регулирования договорных условий. Таким образом, в связи с конструкцией диспозитивной нормы, применяемой в договорном праве (и в целом в гражданском законодательстве) можно вести речь о наиболее распространенной модели диспозитивной нормы с возможностью отступления от нее, а также модели диспозитивной нормы, требующей указания на ее выбор, включая активный выбор из множества предоставленных опций. Собственно, эти две базовых модели (в англоязычной литературе они обычно обозначаются как opt-out и opt-in соответственно) покрывают собой все разновидности диспозитивных норм, включая гибридную конструкцию, предполагающую активный выбор и правило по умолчанию (вариант 3(3)). Коль скоро модель диспозитивной нормы, требующей указания на ее выбор, предполагает так или иначе явно выраженное указание в самой норме, что она подлежит применению лишь тогда, когда стороны согласились на ее применение, наиболее оптимальной (для участников оборота и судов, применяющих договорное право) следует признать модель диспозитивной нормы с возможностью отступления от нее. Видимо, именно поэтому данная модель наиболее часто используется в законодательстве: участники оборота, как уже упоминалось, в подавляющем большинстве случаев следуют правилу, предлагаемому обычно по умолчанию, а потому, если регулятор пожелает провести в жизнь некоторое правило поведения, не ущемляя свободы договора, такое правило будет представлено в виде диспозитивной нормы. Напротив, там, где правильность политико-правового выбора неочевидна, включая ситуации юридического экспериментализма (введение конструкций, изначально ориентированных на возможный содержательный пересмотр в будущем) и неравновесного распределения коммерческого риска между сторонами договорного отношения, регулятор может предложить участникам оборота правило поведения менее желательное, чем любое иное правило, применяемое по умолчанию, а потому облеченное в форму диспозитивной нормы, требующей указания на ее выбор <113>. В законодательстве такая норма может использоваться как переходная конструкция от императивной к диспозитивной норме, содержащей уже иное правило поведения, применяемое по умолчанию, либо для корректировки поведения. В последнем случае регулятор не видит оптимального решения, которое можно предложить как правило по умолчанию, но и не уверен, что подавляющее большинство должно следовать тому правилу, которое облекается в форму нормы, требующей ее выбора. ——————————— —————————————————————— КонсультантПлюс: примечание. Монография М. И. Брагинского, В. В. Витрянского «Договорное право. Общие положения» (книга 1) включена в информационный банк согласно публикации — Статут, 2001 (3-е издание, стереотипное). —————————————————————— <113> Некоторые соображения по поводу того, где более уместны нормы opt-out и opt-in или нормы с активным выбором, приводит проф. Санстин в специальном меморандуме, подготовленном им во время работы в Администрации Президента США (see, Sunstein, Informed Regulation, at 1424-7). Об этой проблеме см. также: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ. соч. С. 77 — 78 (автор главы — М. И. Брагинский).
Следовательно, презумпция диспозитивности законодательного текста, о которой неоднократно упоминалось выше, предполагает отнесение всякой нормы договорного права к диспозитивной норме, допускающей отступление от нее, если из ее буквального содержания (например, через формулу «соглашение об ином ничтожно»), смысла содержащегося в ней нормативного предписания (например, норма, описывающая запрет, явно указывает на это, специальные уточнения в тексте самой нормы по части последствий не нужны) или толкования в системной связи с иными нормами не вытекает ее императивный характер. Такое переключение матрицы правового регулирования позволит если не свести на нет, то минимизировать риски, связанные с ошибками в ходе политико-правового выбора, предоставив участникам оборота действительную свободу договора. Благодаря проведенной выше дифференциации по субъектам права, предполагающей большую или меньшую долю патернализма в регулировании договоров, вместе с критериями интенсивности императивного начала (защита интересов неограниченного числа третьих лиц и тех объективных пределов, которые задают регулятивная конкуренция и регулятивный арбитраж) может быть более тонко реализована идея единства и дифференциации гражданско-правового регулирования договоров в рамках одного законодательного акта. Иными словами, здесь может быть реализована сама идея кодификации: не просто включение различных норм в законодательный акт, именуемый кодексом, т. е. кодификация лишь по названию, формально, но создание добротного законодательного текста, идейно и содержательно являющегося кодифицированным источником права, в котором заложена своя глубинная логика построения регулирования договоров. Эти моменты, определяющие направления регулирования, могут быть сведены воедино с указанием превалирующих моделей императивных или диспозитивных норм в регулировании договорных отношений и представлены в виде следующих смысловых групп.
Группы субъектов Основания императивности/пределы договорной свободы и соответствующие им модели норм договорного права Защита интересов неограниченного числа третьих лиц Регулятивная конкуренция и регулятивный арбитраж Гражданин — коммерсант — императивные нормы — императивные нормы с активным выбором (без правила по умолчанию или с таковым, но в интересах гражданина) — императивные нормы с активным выбором (с набором моделей и правилом по умолчанию, ориентирующимися на зарубежный опыт регулирования) — диспозитивные нормы (правило по умолчанию в интересах гражданина или повторяющее зарубежный опыт регулирования) Гражданин — Гражданин Гражданин — НКО — императивные нормы — императивные нормы с активным выбором (с правилом по умолчанию, ориентированным на минимизацию неразумного поведения) — диспозитивные нормы (с правилом по умолчанию, ориентированным на минимизацию неразумного поведения) — императивные нормы с активным выбором (с правилом по умолчанию, ориентирующимся на зарубежный опыт регулирования) — диспозитивные нормы (правило по умолчанию, повторяющее зарубежный опыт регулирования) Коммерсант — коммерсант — диспозитивные нормы — императивные нормы с активным выбором (с правилом по умолчанию, ориентированным на минимизацию неразумного поведения) — императивные нормы как исключение — диспозитивные нормы — императивные нормы с активным выбором (с правилом по умолчанию, ориентирующимся на зарубежный опыт регулирования)
Как можно понять из превалирующих тенденций в регулировании, задаваемых, с одной стороны, стремлением регулятора защищать граждан, по определению не являющихся продвинутыми субъектами оборота, а с другой — регулятивным арбитражем, подвергающим смысловой эрозии любые сугубо партикуляристские, ориентированные на отдельный правопорядок, ограничения свободы договора, введение общей презумпции диспозитивности норм договорного права главным образом ориентировано на отношения «коммерсант — коммерсант». Напротив, в группе отношений «гражданин — коммерсант» даже при введении общей презумпции диспозитивности, видимо, будет сохраняться предельно ограничительное для свободы договора правовое регулирование, имеющее в основе своей множественные императивные нормы. Поскольку введение общей презумпции диспозитивности норм договорного права само по себе не предполагает решения содержательного вопроса — того, что именно должно предусматриваться в таких нормах как правило, применяемое по умолчанию, — дискуссия о содержании каждой конкретной нормы (на тот случай, если она в дальнейшем будет подвергаться ревизии в сравнении с действующей редакцией части второй ГК РФ, а также при введении новых правил регулирования договоров) откладывается до момента такой ревизии или принятия содержательно новых правил. В свою очередь, это позволяет даже без проведения такой ревизии, точнее, до того момента, когда на нее решится мифический законодатель, уже сейчас или в самом скором времени ввести общее правило о том, что все нормы договорного права, если из нормы не следует иного, по крайней мере для коммерсантов, являются диспозитивными. Впоследствии, при проведении ревизии или введении новых норм в качестве критерия отнесения правила поведения к императивной норме или правилу, применяемому по умолчанию для всех иных нормативных моделей, можно было бы ориентироваться на обозначенные выше критерии защиты интересов третьих лиц и зарубежный опыт нормирования соответствующих отношений. Наконец, введение презумпции диспозитивности позволило бы вернуть российское гражданское право в лоно общемировой частноправовой референции. Коль скоро реформа гражданского законодательства в настоящее время находится в довольно активной фазе, то помимо общетеоретических рассуждений, обосновывающих ту или иную точку зрения, видимо, следует думать и о конкретных вариантах юридико-технического исполнения соответствующих политико-правовых идей. Так, указанная норма-принцип, вводящая общую презумпцию диспозитивности норм договорного права, могла бы выглядеть <114> следующим образом: ——————————— <114> Ранее схожие формулировки, правда, несколько различающиеся в деталях, уже предлагались Рабочей группой по созданию Международного финансового центра (МФЦ), а также НП «Содействие развитию корпоративного законодательства», однако были отвергнуты Советом по кодификации (см. тексты предлагаемых соответственно МФЦ и названным НП поправок, доступные на сайтах: http://mfc-moscow. com/assets/files/documents/gk_gp_220411.pdf [01.03.2013]; http://www. civillegislation. ru/public/upload/file/resolution. pdf [01.03.2013]; см. также: Карапетов А. Г., Савельев А. И. Указ. соч. Т. 2. С. 51).
«В случае отсутствия в норме, определяющей права и обязанности сторон договора, указания на ее императивный или диспозитивный характер квалификация нормы осуществляется судом с учетом анализа целей законодательного регулирования. Нормы гражданского законодательства, определяющие права и обязанности сторон договора, заключенного между лицами в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности, предполагаются диспозитивными, если в самих нормах не предусмотрено иное или иное не вытекает из их смысла и целей законодательного регулирования (защиты публичных интересов, охраняемых законом интересов третьих лиц и т. д.)». Приведенная норма-принцип могла бы быть размещена в ст. 421 ГК РФ как новый пункт в дополнение к уже существующим. Учитывая, что сфера применения предлагаемой нормы ограничена исключительно отношениями «коммерсант — коммерсант», вряд ли можно согласиться с доводами противников подобной конструкции <115>, что после введения такой презумпции коммерческий оборот будет парализован, наступят хаос и анархия, а суды, главным образом арбитражные, будут завалены делами, в которых судьям придется заниматься квалификацией каждой нормы как диспозитивной или императивной <116>. ——————————— <115> Обзор критических аргументов против презумпции диспозитивности см.: Евстигнеев Э. А. Указ. соч. С. 17 — 31. Следует отметить, что Э. А. Евстигнеев, насколько можно понять из его буквальных утверждений («…все постулаты свободы договора и автономии воли сторон, несомненно, поддерживаются и остаются для автора первостепенными» (с. 16)), а равно финальных выводов, к которым приходит автор (с. 37 — 38), в целом является сторонником презумпции диспозитивности, однако дискутирует о том, какими средствами эта диспозитивность должна быть реализована на практике: не через норму закона, а посредством разъяснений со стороны высшей судебной инстанции с опорой на доктринальные источники (с. 38). Вместе с тем работа Э. А. Евстигнеева по ее прочтении оставляет странное чувство: большую часть текста — порядка 22 страниц из неполных 25 — автор отводит не только и не столько критике идеи законодательного закрепления презумпции диспозитивности, сколько критическому разбору аргументов, ранее высказанных в пользу самой идеи диспозитивности норм договорного права. Поэтому возникает ощущение, что позиция сторонников диспозитивности автору не так уж симпатична. Более того, в тексте он постоянно оценивает ранее высказанные аргументы в пользу диспозитивности как слабые и недостаточно убедительные, мало что обосновывающие, и еще не ясно, к чему они приведут. В итоге Э. А. Евстигнеев, сам, видимо, того не желая, не столько играет роль адвоката дьявола (попробуем отстоять одинаково хорошо аргументы pro et contra), что простительно хорошему юристу, либо приводит объективный анализ и разбор различных точек зрения, сколько сбивает читателя с толку: вроде бы автор обеими руками за диспозитивность, но против того, как предлагается ее проводить в жизнь, при этом как раз своей точке зрения — ее изложению, обоснованию и развитию — он отводит всего пару страниц. В связи с этим (если здесь правильно понимается основная мысль Э. А. Евстигнеева) не имеет смысла разбирать детально критику автором аргументов о введении диспозитивности, единственное, о чем можно в таком случае спорить, — о тезисе, что диспозитивность следует вводить не через норму закона (норму-принцип), а посредством судебного толкования. Если же Э. А. Евстигнеев против самого тезиса диспозитивности, то в таком случае позицию автора следует разбирать более подробно. <116> Критику этого довода более подробно см.: Карапетов А. Г., Савельев А. И. Указ. соч. Т. 2. С. 50.
Во-первых, в значительной части развитых правопорядков как романо-германской, так и англосаксонской правовой традиции презумпция диспозитивности норм договорного права представляет собой один из ключевых принципов толкования законодательного текста, императивные нормы или явно обозначаются законодателем в тексте закона, или толкуются (создаются) судами, но как отход от общей диспозитивности <117>, а потому сохраняющаяся в российском договорном праве презумпция императивности есть атавизм советского права, который следовало бы устранить еще на этапе принятия первоначальной версии ГК РФ. Сейчас, когда идет столь масштабная реформа ГК РФ, самое время исправить это досадное историческое недоразумение. ——————————— <117> Обзор иностранных источников по данному вопросу см. в таблице поправок, предлагавшихся Рабочей группой по созданию МФЦ к ст. 421 ГК РФ. Более подробный обзор различных правопорядков см. также: Карапетов А. Г., Савельев А. И. Указ. соч. Т. 2. С. 24 — 36.
Во-вторых, введение презумпции диспозитивности норм договорного права только для ограниченной группы продвинутых субъектов с учетом того, что большинство участников оборота, а коммерсанты здесь не исключение, обычно предпочитают использовать правило по умолчанию и не создавать что-либо новое, вряд ли вызовет вал дел, в которых суды будут заняты квалификацией соответствующих норм. Кроме того, можно предположить, что количество таких дел будет не больше, чем тех ныне существующих, где суды, напротив, заняты квалификацией формально-юридически императивных норм договорного права как диспозитивных. Между тем положительный эффект для коммерческого оборота от либерализации регулирования договорных отношений будет несравнимо выше, чем издержки судебного толкования. И в-третьих, риск увеличения нагрузки на суды из-за смены матрицы регулирования может быть сведен к нулю, если указанную норму включить в текст закона, но отсрочить вступление ее в силу до принятия поправок в часть вторую ГК РФ, отражающих ревизию всех норм договорного права в Особенной части Кодекса. При таком юридико-техническом решении норма-принцип будет сообщена участникам оборота и судам, поэтому, даже если ревизия отдельных норм договорного права затянется на годы, норма-принцип к тому моменту, когда ее формально введут в действие, впитается в гражданско-правовую материю через судебное толкование и судейское правотворчество. Подобное минималистичное решение (программа-максимум, напротив, предполагает введение общей нормы без каких-либо отсрочек), с одной стороны, позволит безболезненно провести в жизнь принцип диспозитивности, с другой — отложить на будущее все споры о содержании того или иного нормативно-правового предписания. Вне всякого сомнения, высшие суды, главным образом ВАС РФ, уже сейчас с успехом могли бы справиться с этой задачей, не допуская ни хаоса и анархии, ни перекосов в развитии практики. Почему закрепление нормы-принципа на уровне закона столь важно? Прежде всего, несмотря на пожелания, высказываемые в литературе, что общую диспозитивность норм договорного права следовало бы вводить посредством судебных разъяснений, основанных «только на доктрине» <118>, представляется, что ВАС РФ без опоры на законодательный текст в ближайшее время не пойдет на подобный шаг. Конечно, это тот случай, когда очень хотелось бы ошибиться, но в настоящее время позиция, допускающая введение общего принципа диспозитивности исключительно средствами судебного толкования, представляется в некотором смысле романтизированным взглядом на текущую правовую действительность. Кроме того, введение принципа диспозитивности через норму закона, как верно отмечает Э. А. Евстигнеев, само по себе не решит проблему чрезмерного юридического позитивизма и формализма <119>, так как это само по себе продукт позитивистского мышления. Однако бороться с позитивизмом в праве и юридическим формализмом только и исключительно средствами увещевания участников оборота, от доктринальных изысканий до разъяснений высших судов, сродни тому, как пытаться увещевать разъяренного хулигана, взывая к его разуму. Очевидно, что с позитивизмом нужно бороться и средствами позитивизма (через введение новых норм), и средствами юридического формализма (подтверждением основных идей вновь введенных норм через разъяснения высших судов и их детализацию, может быть, чрезмерную и ненужную для искушенного академического ума, но полезную для обычных участников оборота, для которых порой важно иметь четкий ответ на вопрос «Где это написано?»), и, наконец, посредством развития современной доктрины права, актуальной научной мысли, встроенной в общемировой научный контекст, а равно благодаря просвещению как юристов, так и самых широких слоев населения <120>. В таком случае введение нормы-принципа на уровне закона сыграет как на ускорение этого процесса, так и на проактивное купирование на практике, особенно в ходе заключения договоров и рассмотрения договорных споров в нижестоящих судах, рудиментов советского гражданского права, проявляющихся в обратной презумпции любой нормы договорного права, презумпции императивности. ——————————— <118> Евстигнеев Э. А. Указ. соч. С. 37. <119> Там же. <120> Если использовать методологию бихевиористского подхода к праву, то указанный аргумент можно переформулировать так, что для преодоления информационного каскада императивности норм российского договорного права необходимо чрезвычайно большое усилие. Если угодно, один информационный каскад (гипертрофированное восприятие императивности юристами, от коммерческих юристов до судей и ученых) должен быть заменен другим (довольно громкое, если не сказать экзальтированное артикулирование диспозитивности), для чего необходимо вести работу по всем направлениям одновременно.
Соответственно, не столько важно как, сколько когда презумпция диспозитивности из области абстрактных рассуждений в юридической литературе перейдет в юридическую действительность, станет принципом, определяющим договорную практику. Поэтому вопрос средств реализации подобного принципа, его претворения в жизнь — это вопрос правовой реформы, а всякая реформа рано или поздно должна завершиться. Если тот или иной механизм позволяет наиболее полно и быстро провести в жизнь реформу, то почему от него следует отказываться в пользу иных механизмов, политико-правовая ценность которых не столь очевидна? Таким образом, необходимо констатировать, что при условии согласия с самой идеей диспозитивности норм договорного права аргументы против законодательного закрепления подобного принципа на уровне закона звучат неубедительно, а отказываться от такой идеи, пока она не вошла в судебную практику как один из базовых принципов российского правопорядка, было бы странно. Кроме того, отнесение на уровень судов процесса выявления собственно императивных норм при общей нормативно закрепленной презумпции диспозитивности <121>, возможно, более правильно с политико-правовой точки зрения <122>, поскольку позволяет нащупать наиболее спорные моменты в регулировании договоров не абстрактно или келейно, а отталкиваясь от конкретных практических проблем <123>. В данном случае не нужно, видимо, повторять очевидные истины, что ни одна абстрактная конструкция, полученная в результате умозрительных рассуждений, не сравнится по своей функциональности с тем, к чему приходят судьи, разрешая вопросы права в ходе рассмотрения конкретных споров. ——————————— <121> Аналогичную позицию ранее отстаивали коллеги Карапетов и Савельев (см.: Карапетов А. Г., Савельев А. И. Указ. соч. Т. 2. С. 49). <122> Cf., Elhauge, supra note 25, at 24-5 (аналогичная аргументация используется и для выявления смысла диспозитивных норм: суды лучше, чем законодатель, могут установить смысл оптимальной модели регулирования и, соответственно, дать более адекватное понимание содержания нормы права). <123> Критика правотворчества судов, правда, опирается на схожие аргументы: суды могут также заблуждаться, совершать когнитивные ошибки, например, при толковании договорных условий они могут быть чересчур проактивны и требовать от участников оборота того уровня осмотрительности, которым в действительности те не обладают (cf., Rachlinski, supra note 68, at 1197).
Именно суды могли бы решить другую, еще более сложную задачу, которая стоит перед тем, кто пытается оптимально регулировать договорные условия: проблему соотношения справедливости, морали, с одной стороны, и коммерческой природы договорных отношений — с другой. Иными словами, того, что не имеет общего решения, но составляет центральную проблему для подавляющего большинства норм договорного права <124>, а потому подлежит решению предельно узко, исходя из специфики каждого специального института, даже конкретной нормы договорного права. Соответственно, функции по содержательному наполнению норм (императивных и того, что может стать в будущем правилом по умолчанию для норм диспозитивных) следовало бы отдать именно судам, а не тому самому мифическому законодателю. Подобный подход — общая презумпция диспозитивности и последующее выявление императивов судами — позволил бы создать стабильную и в то же время последовательно развивающуюся систему договорного права как минимум в части коммерческих контрактов, существенно ограничив ошибки поспешных законодательных решений и предоставив прогрессивным участникам оборота настоящую свободу договора как базовый принцип гражданского права. ——————————— <124> Shavel, supra note 88, at 613-646; Карапетов А. Г., Савельев А. И. Указ. соч. Т. 1. С. 296 — 307.
Заключение
Последовательный обзор представленных в зарубежной литературе теорий регулирования, а также текущих разработок в области политической теории, бихевиористской экономики и когнитивной, социальной психологии заставляют с большой долей скепсиса относиться к любым теориям или идеям, проповедники которых притязают на то, что наконец нашли единственно возможный критерий истинности при регулировании договорных (и, шире, частноправовых) отношений. Необходимо всегда помнить, что та или иная регулятивная политика (или, напротив, политика предельного дерегулирования экономических отношений), особенно транслируемая узкой группой экспертов, представляющих юридическую элиту, может быть сопряжена с ошибками, свойственными человеку. Существенно минимизировать такие политико-правовые ошибки можно в том случае, если широко использовать диспозитивные нормы, при этом различающиеся по силе патерналистского воздействия в зависимости от того, к какой группе участников оборота принадлежит тот или иной субъект. Более того, применение диспозитивных норм позволяет нормам гражданского права эволюционировать сообразно развитию договорных практик, не требуя при этом подправлять каждый раз законодательство. Дифференцированное отношение к разным группам субъектов вместе с иными ограничениями, которые в силу объективных причин просто нельзя не видеть (регулятивная конкуренция и арбитраж, а равно потребность в защите неограниченного круга лиц), и нюансированное рассмотрение спектра «императивное — диспозитивное» приводят к тому, что регулирование договоров оказывается не зажатым в противопоставление только двух конструкций, императивной и диспозитивной норм, а получает целую палитру регулятивных моделей, отражающих больший или меньший элемент императивности или диспозитивности, а также патернализма или, наоборот, либертарианства. При этом для коммерческих контрактов уже сейчас, в рамках проводимой реформы гражданского законодательства, может быть введена общая презумпция диспозитивности, применимая к основной части законодательного текста, содержащего нормы договорного права. Напротив, императивные нормы договорного права должны быть маркированы по тексту закона через специальные указания на то, что соответствующая норма является императивной, а при отсутствии такого указания суды со временем сами определят нормы, которые следует отнести к императивным. Следующим разделом гражданского законодательства, где могла бы быть реализована схожая логика регулирования, является корпоративное право, но лишь в части, относящейся к так называемым закрытым корпорациям, а для публичных корпораций, акции которых обращаются на бирже, возможно, только в части акционерных соглашений. Поскольку в основе таких корпораций лежит гражданско-правовой договор, хотя бы и многосторонний, а участники подобных корпоративных образований, как правило, подходят под описание группы «коммерсант — коммерсант», то с политико-правовых позиций ничего не мешает распространить на них ту же логику регулирования, опирающуюся на принцип диспозитивности. Эта проблема требует специального рассмотрения, в настоящей статье она лишь обозначается как тезис, требующий более глубокого осмысления <125> и доктринальной разработки в будущем. Для сугубо договорных образований, хотя бы и обладающих при этом статусом юридического лица, т. е. хозяйственных товариществ, применение подобного подхода еще более очевидно, за исключением норм о неограниченной имущественной ответственности товарищей, ответственных за ведение бизнеса товарищества (полного или коммандитного), поскольку это исключение составляет ключевую и, видимо, единственную собственно императивную норму, все прочие нормы позитивного права для таких товариществ могли бы быть диспозитивными. Такой же ход рассуждений применим, судя по всему, к экзотической форме коммерческой организации — хозяйственным партнерствам. ——————————— <125> Предварительные подходы к этой проблеме см. в другой работе автора: Степанов Д. И. Свобода договора и корпоративное право (готовится к опубликованию в издательстве «Статут» в 2013 г.).
В завершение хотелось бы выразить скромную надежду, что настоящая публикация даст толчок публичной научной дискуссии о возможной архитектуре системы гражданского законодательства в части регламентации договоров, диспуту, лишенному излишней эмоциональности и субъективных оценок, а скорее, ориентированному на детальный разбор тех или иных политико-правовых идей и используемых юридико-технических конструкций. При этом вопросы, которые следовало бы обсуждать, совершенно очевидны. Во-первых, нужна ли в принципе диспозитивность договорного права либо существующая презумпция императивности должна быть сохранена? Во-вторых, если нужна, то какими средствами (законодательными, судебными) она могла бы быть проведена в жизнь, что конкретно нужно скорректировать в таком случае в законе или какие судебные разъяснения необходимы со стороны высших судов? В-третьих, в чем состоят политико-правовые критерии ограничения свободы договора и как не оказаться в другой крайности, когда суды будут совершенно непрогнозируемо допускать ту или иную квалификацию норм? В-четвертых, должен ли российский правопорядок в части диспозитивности договорного права участвовать в международной конкуренции правопорядков, не забывая при этом, что оборотной стороной такой конкуренции является регулятивный арбитраж, насколько далеко отечественное право может идти по этому пути? Наконец, в-пятых, какие иные сферы гражданского права, помимо договорного обязательственного права, могли бы двигаться в том же направлении?
——————————————————————