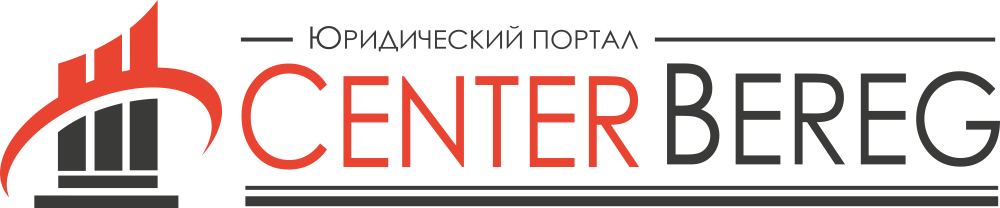Сделка и ее действие
(Скловский К. И.) («Вестник гражданского права», 2012, N 3)
СДЕЛКА И ЕЕ ДЕЙСТВИЕ <1>
К. И. СКЛОВСКИЙ
——————————— <1> В статье развиваются идеи, ранее изложенные в: Скловский К. И. О природе сделки, передаче права и фикции действия // Основные проблемы частного права / Отв. ред. В. В. Витрянский, Е. А. Суханов. М., 2010; Он же. Действие сделки и пределы реституции // Проблемы развития частного права / Отв. ред. Е. А. Суханов, Н. В. Козлова. М., 2011. Прочитав первую из указанных статей, А. Л. Маковский поддержал высказанные в ней достаточно нетрадиционные взгляды на сделку. Разговор с ним оказался весьма стимулирующим, и я занялся темой более детально, по ходу дела обнаруживая новые и новые ее повороты, новые аспекты, до сих пор едва ли замечаемые. При этом я постоянно вступал в мысленный диалог с нашим замечательным цивилистом и потому посчитал правильным посвятить работу ему. К моей радости, Александр Львович не стал возражать против этого.
Скловский К. И., доктор юридических наук, адвокат.
Автор предлагает рассмотреть сделку вне представлений, связанных с германским вещным договором (dinglicher Vertrag or Einigung). Соответственно, сделка рассматривается как принципиально неутилитарное действие. Показывается, что прекращение обязательства — это мотив, а не цель исполнения. Тем самым создается возможность освободиться от представлений о сделочной природе исполнения. Обсуждаются сложные вопросы соотношения договора и обязательства. Предлагается рассматривать реституцию в порядке п. 2 ст. 167 ГК РФ как один из возможных видов последствий недействительности сделок, применимых лишь к сделкам, создавшим обязательства.
Ключевые слова: сделка, воля и волеизъявление, эффект сделки, исполнение обязательства, договор и обязательство, природа обязательства, юридический факт, кондикция, фикция, передача права, мотив и цель исполнения.
The author considers a legal transaction independently of the German concept of the proprietary bargain (dinglicher Vertrag or Einigung). So, a transaction is being considered as a thoroughly non-utilitarian act. Respectively, a discharging of an obligation is treated as a motive, but not as a legal purpose (aim) of an act of fulfillment, exercised by a debtor. This conclusion follows the idea that it is possible to eliminate the understanding of obligation’s performance as a transaction. The article handles complicated issues of correlation between a contract and an obligation. He also suggests to consider the restitution under the Art. 167 of the Civil Code of the Russian Federation as the only one legal consequence among other effects, risen out of the void transaction.
Key words: transaction, will, expression of will, fulfillment of an obligation, contract, legal nature of obligation, legal fact, condictio, unjust enrichment, legal fiction, transfer of rights, motive of performance of an obligation.
Посвящается А. Л.Маковскому
О природе сделки
Начиная 15 лет назад обсуждение казавшейся достаточно частной проблемы соотношения реституции и виндикации, мы едва ли могли предположить, что, во-первых, сможем увидеть ее осуществление в практическом результате и что, во-вторых, данный результат выйдет за рамки одной этой проблемы <1> и будет положен в основание целой системы положений о собственности, далеко выходящей за пределы толкования гл. 20 ГК РФ и показывающей особенности отечественного права в этой сфере. ——————————— <1> Собственно говоря, в точном смысле слова результат этой дискуссии представлен в первых трех пунктах информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 ноября 2008 г. N 126.
Одновременно с разворачиванием и расширением (второе, впрочем, скорее следует связывать с работой над проектом ГК РФ) материала о собственности и вещных правах обозначились новые проблемные точки, точнее, области поиска, лежащие достаточно глубоко, особенно если сравнить их с весьма живой, но, на мой взгляд, не слишком глубоко укорененной корпоративной проблематикой <1>. ——————————— <1> Вероятно, этим объясняется та легкость (некоторые говорят — легкомысленность), с которой в проект ГК РФ внедряются сегодня конструкции из англо-американского права.
Интенсивное развитие теории собственности, владения, недействительности сделок привело нас к достаточно серьезным и, несомненно, имеющим системное значение вопросам общего характера. Не требует, кажется, обоснования ввиду своей очевидности обострение актуальности проблемы распорядительной сделки, и в частности проблемы вещного договора. В этом же ряду — природа исполнения обязательства, связавшая трудности в теории сделки, правопреемства, защиты владения в одну проблему так, что все теперь нужно рассматривать вместе. Менее очевидна, но, как представляется, весьма важна проблема соотношения обязательства и договора. Можно, впрочем, обнаружить связь этой проблемы с теорией распорядительной сделки. Понимая, что все обозначенные выше вопросы невозможно отделить один от другого, начнем со сделки в ее связи с правопреемством. Дело в том, что обсуждение передачи права постоянно приводит к представлениям об удвоении акта передачи права. Сам термин «удвоение» был предложен И. Н. Трепицыным (в варианте «скучного удвоения»). Но после этого удвоение воли внимания соотечественников И. Н. Трепицына не привлекало. Попробуем все же понять, куда уводит аргумент об удвоении воли. Первый раз воля на отчуждение (буквально — воля на то, чтобы вещь продавца стала вещью покупателя) содержится в сделке об отчуждении. Второй раз, как говорят те, кто не смущается (а чаще не замечает) удвоения, воля на отчуждение снова, повторно выражается продавцом при «передаче права». Большое количество литературы по этому вопросу, особенно возросшее в последнее время, избавляет меня от не слишком увлекательного, но довольно сильно уводящего в сторону обзора источников этих воззрений. Несомненно, мы обнаружим здесь проявление германской доктрины. Не было бы никаких трудностей, если бы при явлении германской доктрины мы бы не были вынуждены иметь дело не с германским, а с российским правом. Поскольку же дело обстоит иначе, я бы для начала попытался отделить факторы и факты естественные, или непосредственные <1>, от конструкций и понятий, многократно превращенных, переработанных юридическим инструментарием самого разного происхождения и принадлежности. ——————————— <1> Мы, конечно, понимаем, что речь не идет о фактах, являющихся нам чувственно. Факты, о которых мы говорим, — это уже результат известных социальных отношений, но они все еще имеют внешнее отношение к праву. Кроме того, это все же факты, они имеют материальную, а не идеальную, чисто мыслительную природу.
Познавательные проблемы, которые обычно парадоксальным образом не замечаются в ходе рассуждения, но тем более существенны, состоят, как представляется, в конфликте между принципиально посредственным юридическим мышлением, по самой своей сути воспринимающим окружающий мир через посредство сложившихся конструкций, и истиной, которая существует (и дается) все же непосредственно. В ситуации устоявшейся системы юридических средств операционная эффективность, требуемая от права, достигается известными техническими комбинациями. Но в современном российском праве сама система далеко еще не сложилась, и не вполне осознанные попытки решить возникающие проблемы посредством (прежде всего) германских юридических конструкций, поскольку мы говорим о сделке и обязательстве, затрудняют непосредственное восприятие некоторых фундаментальных истин, освоение (и опосредование) которых как раз и стоит на повестке дня. Думаю, что именно этот процесс и является вызовом, на который должна ответить наука российского гражданского права. Если мы говорим о сделке, то важно, отчасти следуя логике И. Н. Трепицына, обсудить те ее качества, которые оказались неинтересными германскому правоведению после создания им конструкции вещного договора. Соответственно, нам придется иметь в виду вещный договор как альтернативу предлагаемым нами построениям. А то, что некоторые наши суждения окажутся не совсем привычными и не совсем тривиальными свидетельствует, пожалуй, о том, что вне представлений, вытекающих из фикции вещного договора, оказалось не так уж мало фактов. Изучение сделки обычно начинается с обсуждения воли и волеизъявления и состоит, во-первых, в изучении тех факторов, которые формируют волю, и, во-вторых, в изучении процесса выражения (изъявления) сформированной воли вовне таким образом, чтобы она могла быть воспринята другими людьми. Традиционно привлекает внимание значение воли и волеизъявления как обоснования действия сделки. С одной стороны, только та воля, которая вполне свободно формируется, может быть верным основанием обязательства, иначе будет нарушен важнейший, базовый принцип свободы и автономии лица. В силу принципа, лежащего в основании сделки вообще (мы к нему будем вынуждены еще не раз вернуться), никто не может обязаться (лишиться права) иначе как по своей воле <1>. ——————————— <1> Понятно, что этот принцип в чистом виде господствует в гражданском обороте, если под ним понимать совокупность сделок. В сфере деликтов и публичного права упомянутый принцип, никогда не исчезая, временами проявляется опосредованно, но мы эту сферу и не затрагиваем.
Это самоочевидное и самоценное положение можно, кажется, дополнить доводами более приземленными (особенно учитывая, что теория доминирующей в праве воли время от времени расценивается как устаревшая). Дело в том, что важнейший вопрос, разрешаемый участником оборота и выражающийся в конечном итоге в сделке, состоит, как известно, в определении цены или — в более широком варианте — в приравнивании различных объектов. Ф. Хайек показал, что суждение о цене — это результат знаний, по своему объему стремящихся к знанию о мире в целом. Неслучайно в древности купцы считались обладателями магических способностей потому, что знали цены товарам. Поскольку полное знание в принципе недоступно, цена содержит в себе элемент риска, восполняющего отсутствие знания. Последствия этого риска может, конечно, нести только тот, кто самостоятельно и вполне свободно принял решение о цене, иначе экономика неминуемо рухнет: недопустимо возлагать риск на того, кто не принял решение <1>. Но именно поэтому возложение всех последствий волеизъявления на того, кто принял решение, дает ему право освободиться от этих последствий, если процесс принятия решения, формирования воли, был искажен факторами, находившимися вне его контроля. ——————————— <1> См. некоторые замечания по этому поводу: Гордли Дж. Ошибка при заключении договора // Вестник гражданского права. 2009. Т. 9. N 4. С. 249. Нужно только уточнить, что риск стороны, заключающийся в сделке, следует отличать от распределения рисков между сторонами сделки: первый риск лежит за пределами сделки (и скорее поглощен мотивом), второй (распределенные риски) — это содержание сделки. См. также о пороках воли: Панов А. А. К вопросу о категориях воли, волеизъявления и порока воли в теории юридической сделки // Вестник гражданского права. 2011. Т. 11. N 1.
Возникающая здесь идея лишения сделки действия, объявления ее недействительной в тех или иных случаях, отнюдь не очевидна, однако сам по себе этот подход, несмотря на его традиционность, как представляется, так и не обоснован до конца. Ведь сделка (шире — волевое действие сделочной природы (усыновление, брак, развод и т. д.)) — единственный юридический факт, который может лишиться действия. Теоретические уловки, состоящие в том, что вместе с недействительностью считают исчезнувшим и сам факт, дискуссионны и на почве римского права, в котором они наиболее уместны в силу отождествления факта и его действия <1>. А в ГК РФ лишение сделки действия лишь превращает ее в другой юридический факт, несомненно, имеющий волевое содержание, хотя и отличный от сделки. В частности, недействительная сделка способна, помимо реституции, прервать исковую давность, установить цены в дальнейших отношениях сторон и т. д. Тем самым факт все же остается, остается и воля сторон, но и природа факта, и юридический результат воли преобразуются (отчасти — путем редукции) законом. ——————————— <1> Подробнее см.: Ширвиндт А. М. Значение фикции в римском праве: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2011.
Естественное право может поставить под сомнение сделку с позиций пороков воли как естественных пороков сделки, возникающих помимо закона. Но в этом случае сделка как факт, несомненно, сохраняется, что видно из самого понятия оспоримости сделки: предметом спора является именно факт, а при отсутствии спора факт сделки вообще не может быть поставлен под сомнение. Следовательно, в обосновании нуждаются прежде всего постановления позитивного права, лишающие сделку ее действия вопреки воле сторон (при том что стороны далеко не всегда имеют намерение опереться на закон для придания своей сделке силы). При остающихся в качестве обоснования только нормах позитивного права (что само по себе, конечно, весьма шаткая основа) мы считаем важным всемерное подтверждение тенденции, идущей в нашем праве от Д. И. Мейера и в последние годы отчетливо проявившейся в практике ВАС РФ, состоящей в предельном ограничении практики аннулирования сделок. Впрочем, важнейший вопрос о самом феномене недействительности слишком сложен и заслуживает того, чтобы сделать его предметом отдельного исследования, в связи с чем здесь высказываются только отдельные замечания по этому поводу. Ближайшим образом нас, впрочем, интересует не то, насколько точно (адекватно) воля сформирована и изъявлена вовне, и даже не отношение воли и ошибки, а то, в какой связи находится воля и действие как ее результат. Акты, в которых существенным оказывается исключительно волевое содержание, называемые сделками, люди совершают потому, что они понимают значение прав и обязанностей в своей жизни, и, совершая такие действия, они ставят перед собой цель достичь именно юридического результата. Достаточно самого общего представления о праве <1>, — собственно, только понимания того, что изъявление воли порождает правовые последствия. ——————————— <1> Поскольку сделка, как мы полагаем, является первичной по отношению к праву, то данное общее представление о результате сделки не могло быть сначала ничем иным, и это сохранилось и в дальнейшем, как и вообще понимание того, что сделка обязывает.
Цель сделки <1> с точки зрения права видится прежде всего в установлении обязательства. Но сделка в то же время может быть представлена так, что, устанавливая обязательство (и достигая тем самым собственной цели), она является средством достижения того, что продиктовано мотивом, — того жизненного блага, которое будет дано исполнением обязательства. ——————————— <1> В дальнейшем, поскольку иное прямо не вытекает из текста, сделка будет рассматриваться также и как договор. Разграничение сделки и договора в данном случае не кажется существенным. Односторонние сделки и договоры, создающие эффекты, отличные от обязательства, обсуждаются в последней части работы.
Как говорил Иоанн Дунс Скотт, «акт воли соединяет с дающим блаженство объектом» <1>. Это высказывание, замечательное своей точностью, вполне согласуется с распространенным среди юристов пониманием объекта права как блага. Наверное, это важно заметить потому, что в последнее время оно нередко отбрасывается ввиду «ненаучности». Научными же почитаются различные логические схемы распределения юридического материала, в которые благо не вписывается ввиду отсутствия у него нужных для силлогизмов признаков. Между тем объекты (вещи, взятые в более широком смысле) — это те реальные явления, которые, создавая право, очерчивают и его границы, как об этом уже говорилось; соответственно, они едва ли могут успешно подвергаться чисто юридическим спекуляциям, являясь внешними для них. Впрочем, в дальнейшем мы проблематику объектов права не затрагиваем, удовлетворившись лишь той очевидной истиной, что воля лица не будет выражаться бесцельно, без стремления к благу («блаженству»), а цель эта лежит за пределами права. ——————————— <1> Бл. Иоанн Дунс Скотт. Избранное / Сост. и ред. Г. Г. Майоров. М., 2001. С. 471.
Функция сделки как средства не должна упускаться из виду, тем более что «помимо конечной цели появляется ряд подчиненных целей, и то, что является средством, само на известном этапе становится целью» <1>. Это жизненное значение сделки как средства (ибо сделка сама по себе никакой жизненной потребности не удовлетворяет), однако, выводится за рамки ее юридического содержания, хотя никогда, конечно, не исчезает. ——————————— <1> Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб., 2000. С. 532.
В любом конкретном споре, в любой юридической ситуации целесообразность сделки (а тем самым — ее значение как средства) оценивается (за рамками собственно юридического анализа, с точки зрения «здравого смысла») в первую очередь и затем является тем вектором, той мерой, которые позволяют понять суть отношений. Собственно говоря, известный постулат, в силу которого не должна влиять на оценку сделки ее целесообразность, т. е. степень связи сделки с мотивами (а мотивы всегда находятся за пределами сделки, идут дальше нее <1>), пришлось формулировать именно потому, что мотивы на самом деле всегда так или иначе видны либо должны быть отысканы и только после их обнаружения делается специальное указание, заставляющее от них отвлекаться. ——————————— <1> Сделка не может совершаться ради себя самой и не может быть, следовательно, мотивом сделки. Соответственно, есть серьезная слабость в представлениях, рассматривающих исполнение обязательства как сделку, тем более двустороннюю. Тогда получается, что цель сделки — совершение сделки. Кроме того, при понимании исполнения как сделки утрачивается верная почва для решения дальнейших вопросов, вытекающих из сделки, договора, обязательства. Некоторые известные исключения (прежде всего предварительный договор) как раз и показывают, что исполнение, кроме этих исключений, принципиально не может быть сделкой. Кстати, раз мы уже затронули предварительный договор, интересно отметить, что его действие состоит в заключении сделки на заранее сформулированных условиях, воля стороны на что-либо иное тем самым игнорируется; оговорки при исполнении предварительного договора ничтожны — возможны лишь действия в рамках той воли, которая изъявлена ранее. В этом смысле действие предварительного договора обнаруживает автоматизм, присущий и иным обязательствам. Об этом будет говориться дальше.
Дело в том, что сила права <1> может быть применена лишь в том случае, если мы будем исходить из того, что сделка (промежуточная цель) становится конечной целью для оценки воли с юридической точки зрения. Сам процесс достижения цели посредством права становится тем самым «известным этапом», о котором говорит Рубинштейн, на котором сделка выступает как цель. ——————————— <1> Я бы сказал — созидающая сила права. Эта созидающая сила состоит в том, что стороны обязательства понуждаются к реальным действиям, к созданию новых ценностей, а отнюдь не в разрушении достигнутого и отбрасывании назад, как это присуще реституции (ст. 167 ГК РФ), — разрушении не только юридическом (отпадении эффекта сделки), но и материальном (возврат вещей и денег).
В конечном итоге сделка необходима тогда, когда лицо, полагая материальное впереди как цель и не видя возможности достичь его собственными усилиями, стремится привлечь других людей для достижения цели, используя механизм обязательства. Именно поэтому сделка и становится способом установления такого обязательства. При этом сделка совершается без дополнительных материальных источников, лежащих вне человека: усилие, необходимое для выражения воли, всегда имеется в наличии, пока есть воля; возможность совершения сделки объективными препятствиями не ограничена (в отличие от реальных актов). Можно было бы сказать, что она становится столь же удобным и универсальным средством установления связи между людьми, как и деньги, если бы она не была еще проще и доступнее.
Если оценивать сделку как одну из фундаментальных форм идеальной связи людей, я бы отметил как вполне очевидное развитие сделки из религиозного ритуала и понятную отсюда важность для архаичной сделки предписанных слов и жестов. Кстати, именно из логики ритуала, видимо, возникла сама идея тщетности, недействительности совершенного действия, распространенная впоследствии на сделку. Как известно, даже незначительные нарушения процедуры ритуала могли рассматриваться как причина его неудачи <1>. Такого рода примеры неудачного вследствие формальных упущений ритуала хорошо известны из античной литературы; не чужды они и обыденному сознанию, даже и современному. ——————————— <1> Вероятно, на этой почве могла бы возникнуть дискуссия о том, является ли ритуалом такое действие, в котором не все надлежащие атрибуты ритуала могут быть обнаружены. В ходе этой дискуссии ее участникам, возможно, было бы интересно обратиться к накопившейся литературе о том, является ли недействительная сделка сделкой (Белов В. А. Учение о сделке в российской доктрине гражданского права (литературный обзор) // Сделки: проблемы теории и практики: Сб. ст. / Отв. ред. М. А. Рожкова. М., 2008. С. 101 — 105). Впрочем, выше мы уже коснулись этого вопроса; очевидно, что только в рамках позитивизма, полагающего, что все явления права созданы законом, этот подход имеет какой-то смысл. Из него, однако, следуют очевидно разрушительные выводы, в том числе «полицейский» подход к сделкам, когда всякое несоответствие закону должно влечь реакцию в виде обязательного аннулирования сделки. Обширный материал из романистики, показывающий нюансы ничтожности и несуществования сделки, приводится в статье: Таламанка М. Несуществование, ничтожность и недействительность юридических сделок в римском праве // Цивилистические исследования: Ежегодник гражданского права / Под ред. Б. Л. Хаскельберга, Д. О. Тузова. Выпуск третий. М., 2007. А. М. Ширвиндт высказывает некоторые замечания по поводу этой работы известного романиста (см.: Ширвиндт А. М. Указ. соч. (особенно — гл. 3)).
Можно также заметить разделение первично синкретического религиозного ритуала на собственно волю, внутренний акт (моление и др. <1>), и социально значимые действия, обнаруживающие эту волю. В данном ряду сделка оказывается неизбежным инструментом для установления социальных связей, отличных от связей грубо вещественных, непосредственно материальных. ——————————— <1> Среди этих других внутренних актов воли обнаруживается и такой важный для религиозного сознания, как согрешение в помыслах.
Вероятно, сделка не сразу возникла в виде чистой демонстрации воли. В самом общем виде можно предположить, что сначала порождаемая ею юридическая связь нуждалась еще в обязательном опосредовании вещами и развитие сделки шло, с одной стороны, через переход к условной вещи с дальнейшим отказом от вещи вообще (какова манципация одной монетой, а в какой-то мере и на каком-то этапе и весь ритуал манципации отказался от непосредственной связи с вещами <1>), а с другой — через превращение вещного опосредования в частный случай (как реальные договоры <2>) с выходом на первый план воли, соглашения <3>. ——————————— <1> У других древних народов существовали свои ритуалы для установления обязательств, обычно включавшие клятвы. <2> Передача вещи (предоставление) всегда имеет то или иное основание (каузу), которое и указывает на то, что уже имеется волеизъявление (т. е. сделка), из которого и видно это основание. Поэтому предоставление вещи как в реальном контракте, так и в акте исполнения не может быть противопоставлено сделке, создающей обязательство. Напротив, юридическое развитие шло как раз по пути встраивания акта передачи в исполнение обязательства. Наиболее известная конструкция — обязательство, исполняемое в момент его возникновения. Нужно сразу подчеркнуть, что это далеко не то же самое, что обязательство, исполняемое автоматически или само собой. Передача вещи в порядке исполнения обязательства, хотя бы и в момент его возникновения, — действие несомненно существующее. Исполнение обязательства само собой, автоматически, — действие вымышленное, фиктивное. <3> См., например: Полдников Д. Ю. Основные этапы формирования современного понятия гражданско-правового договора // Цивилистические исследования: Ежегодник гражданского права. Выпуск третий. С. 72 — 73, 98.
Будем считать, что интересующий нас феномен, заключая в себе свое начальное развитие, выражен в понятии сделки (договора), направленной на создание обязательства. Есть основания согласиться с тем, что в этом направлении развивался договор в римском праве <1>. ——————————— <1> Малков А. Д. Сущность договора в римском праве // Древнее право. 1999. N 1(4). С. 186.
Мне бы не хотелось далее вдаваться в теорию сделки, учитывая известный переизбыток литературы по этому вопросу, «приевшейся в обилии», как хорошо сказал Дювернуа <1>, но все же нельзя не заметить, что феномен сделки как волевого действия, направленного на установление социальной связи, конечно, шире не только закона, но и вообще сферы права. Скажем, когда охотники договариваются о распределении своих позиций в предстоящей охоте (а также когда актеры-любители распределяют роли в пьесе и т. д. и т. п.), этот договор по своей природе, по связи воли и ее выражения, ничем не отличается от юридической сделки, кроме того, что он не порождает прав и обязанностей, признанных правопорядком (в узком смысле — государством). Но само сообщество охотников добровольно подчиняет себя такому договору <2>. Соответственно, требование законности сделки не вытекает из существа сделки (как нередко заявляют), но лишь позволяет ей создавать юридическое действие, т. е. является одним из признаков той частной, хотя и самой важной сферы, в которой бытует сделка. ——————————— <1> Дювернуа Н. Л. Чтения по гражданскому праву. Т. 2. М., 2004. С. 77. <2> См. об этом также: Гримм Д. Д. Основы учения о юридической сделке в современной немецкой доктрине пандектного права. Т. 1. СПб., 1900. С. 49 и сл.
Если воспользоваться понятиями естественного права, которые всегда уместны при обсуждении фундаментальных явлений, то в сделке то доброе и справедливое, которое составляет суть естественного права, до и независимо от права позитивного (из которого, как мы можем видеть, сделка вообще не возникает) выступает как требование к каждому выполнять свои обещания, ведь сделка всегда так или иначе сводима к обещанию. Интересно в этом смысле, что справедливое в boni et aequi, как полагает В. С. Нерсесянц, точнее перевести как «соответствующее» <1> — тогда справедливость, состоящая в том, что каждый должен выполнить должное (так ее понимал Ф. Хайек), вполне совпадает с сущностью сделки. ——————————— <1> История политических и правовых учений. Древний мир / Отв. ред. В. С. Нерсесянц. М.: Наука. 1985. С. 300 — 301.
Но это действие сделка имеет независимо от закона, и закон может лишь санкционировать, но не создать его. Гораздо понятнее роль закона в отмене того следующего из сделки должного, которое вступает в конфликт с основами жизни общества. Но не зря же естественное право одновременно с aequitas требует и bonitas! Соответственно, действие сделки в силу естественного права социально полезно и, стало быть, оправдано в тех случаях, когда она существует помимо права публичного. Когда Д. М. Генкин говорит, что «правомерность или неправомерность не являются необходимым элементом сделки как юридического факта, а определяют лишь те или иные последствия сделки» <1>, он верно замечает, что правомерность или неправомерность — это внешняя реакция правопорядка, неспособная изменить суть явления. Причины, по которым позитивное право так или иначе реагирует или не реагирует на сделки, совершаемые в жизни, изменчивы и не всегда создают точно определенные границы. ——————————— <1> Генкин Д. М. Недействительность сделок, совершенных с целью, противной закону // Ученые записки ВИЮН. Вып. V. М., 1947. С. 50.
Я бы сказал, что сделка, наряду с некоторыми иными феноменами, формирует право, но отнюдь не право создает сделку. В этом смысле первичной идеей была, конечно, не возможная недействительность сделки (которая, как уже говорилось выше, еще нуждается в обосновании), но, напротив, ее действительность. Ведь чтобы придать силу действиям отвлеченным, не имеющим прямого, видимого материального результата, людям пришлось прийти к такому порядку, когда это невидимое действие почитается за силу, за действительность. Этот порядок признания силы за тем, что само по себе иначе как по установлению между людьми и существовать не может, и есть право. Такие тривиальные истины есть смысл помнить для того, чтобы не пытаться изменить сделку силами права. Сделка (как, скажем, и деньги) первична по отношению к праву и потому находится вне его технических возможностей. Можно, кажется, заметить, что понятие и действие сделки неизменны по своей природе (и даже если становятся предметом дискуссии, то именно с позиций этой неизменности, которую тот или иной автор понял лучше других), тогда как недействительность сделки и последствия ее недействительности, напротив, вещь очевидно изменчивая, различающаяся от кодекса к кодексу, от правопорядка к правопорядку. Это, конечно, в меньшей степени относится к сделкам с пороками воли, имеющими в себе недостатки, вполне выводимые из представлений естественного права о воле (и потому в наибольшей степени представленные в сравнительно-правовых штудиях), но весьма ощутимо в прочих — особенно незаконных — сделках. Интересно в этом плане обратиться к феномену ничтожных сделок, которые некоторыми юристами, следующими букве позитивизма, считаются вовсе не существующими в мире права, в мире юридических фактов. Можно заметить, что ничтожные сделки имеют разную природу. Среди тех совершаемых помимо права волевых актов, которые во всем подобны сделкам, кроме того, что их стороны не намерены создавать (передавать и т. д.) права и обязанности, позитивное право (правопорядок) само выбирает некоторые и объявляет ничтожными в силу их крайней противозаконности: это прежде всего сделки, нарушающие добрые нравы (противные основам правопорядка и т. п.). Логика закона в этом случае никак не может быть объяснена только реакцией на публичный деликт с целью его превенции и (или) наказания. Ведь деликт — это действия по реализ ации антисоциального соглашения, которые сами по себе влекут ответственность. А сделка между тем ничтожна независимо от того, совершат ли ее участники то, о чем договорились. Если наказывается покушение (приготовление), то в наших рассуждениях ничего не меняется. Лишение сделки, направленной на деликт, юридической силы (или, в системе представлений тех, кто отрицает бытие ничтожной сделки, — статуса юридического факта), квалификация ее как ничтожной никак не препятствуют совершению деликта, поскольку стороны сделки ни в какой поддержке общества не нуждаются, вовсе не собираются поэтому придавать своему соглашению юридическое значение и сами его сделкой в этом смысле не считают. Не имеют значения и имущественные последствия сделки, противной добрым нравам: во-первых, в большинстве случаев такие последствия вовсе не предусмотрены; во-вторых, сделки считаются ничтожными независимо от получения имущества по такой сделке и до ее исполнения; в-третьих, для целей имущественной санкции совсем не нужно прибегать к квалификации в качестве ничтожной сделки того, что сделкой не является, — есть более подходящие средства. Очевидно, что стороны вовсе и не хотели создавать права и обязанности при сколь угодно смутном представлении о правах в целом. Эти действия потому и совершаются скрытно, что стороны не собираются прибегать не только к защите права, но и к какой угодно публичности, апеллировать к какой-либо социальности (ибо нельзя считать изолированную группу социумом в точном смысле) вообще. Получается, что правопорядок расценивает некоторые акты как сделки, несмотря на бесспорное отсутствие у сторон намерения создать юридические последствия, только для того, чтобы эти сделки тут же объявить ничтожными. Так, если друзья договорились встретиться в кафе, это, конечно, вообще не сделка ни в каком смысле, в том числе и не ничтожная, но если они договорились побить стекла в том же кафе или, пуще того, поджечь его, то это уже ничтожная сделка. Но ведь общепризнано, что сделка потому и является сделкой, что стороны хотя бы смутно стремятся создать именно правовые последствия. Именно поэтому уместно покровительство закона сделке и именно так, видимо, и может быть в конечном итоге объяснена вообще связь закона со сделкой. Однако если стороны антисоциальной сделки относятся к закону (что вообще свойственно деликту) безразлично или негативно, то исчезает принципиально важное качество сделки — намерение сторон создать правовые последствия. Единственное суждение, которое, как представляется, можно привести в обоснование того, что антисоциальная сделка все же является сделкой, состоит, видимо, в том, что если по этой сделке должны быть переданы деньги или вещи, то хотя бы в этой части мы имеем все же сделку и должны ее запретить. Но, во-первых, не всегда нарушители даже в части создают такую квазисделку <1>. Во-вторых, остается без ответа более принципиальный вопрос: в каком отношении к праву находится поведение сторон, не желающих создать своим соглашением последствия, в принципе подлежащие защите законом? ——————————— <1> Одно дело, когда нанимают за деньги добровольцев проголосовать поддельными бюллетенями, хотя бы и не заплатив им, но другое — когда «человека человек послал к анчару властным взглядом». Здесь возмездность даже не предполагается (более прозаичные варианты из современной криминальной действительности читатель без труда сформулирует сам).
Не призывая, конечно, к аннулированию самого понятия сделки, нарушающей добрые нравы (из ГК РФ следует элиминировать лишь санкцию), я бы вновь отметил серьезные неясности в самом обосновании недействительности сделок. Продолжая наши наблюдения, заметим, что есть другая, гораздо более многочисленная группа ничтожных сделок. Это сделки, которые закон квалифицирует как ничтожные в силу присущих им отдельных пороков, хотя они совершены намеренно и открыто как сделки. Это то множество обычных, повседневных хозяйственных сделок, стороны которых имеют намерение создать именно юридические последствия, но сделки эти таковы, что по точному смыслу закона являются ничтожными. По самым поверхностным прикидкам, подавляющее их большинство никогда не попадает в суд, не аннулируется, спокойно исполняется и реституция по ним не производится. В то же время оборот имущества по этим сделкам облагается налогами по правилам для действительных сделок, причем НК РФ, что весьма замечательно, вообще не нуждается в понятии ничтожной сделки, не говоря уже об их тонких градациях, даваемых экзегезой. И в этом с НК РФ согласен, пожалуй, и здравый смысл. О том же свидетельствует и тот факт, что никто никогда и не пытался вычислить, сколько же ничтожных сделок оказались фактически действительными: это занятие не только безнадежное, но и бессмысленное. Очень хорошо об этом сказал Д. И. Мейер: «Ничтожество поражает эти сделки только при соприкосновении их с общественной властью, а независимо от того они существуют точно так же, как и сделки законные, и нередко встречаются в действительности» <1>. ——————————— <1> Мейер Д. И. Русское гражданское право (по изд. 1902 г.). Ч. 1. М., 1997. С. 179.
Сложившийся правопорядок, стало быть, основан на том, что если ничтожная сделка не затрагивает чьих-либо прав (интересов) <1>, то она существует в обороте как действительная, как сделка. ——————————— <1> Интерес в оспаривании сделки возникает не только и не столько потому, что этой сделкой он был нарушен, — принципиально важно, чтобы имелась реальная возможность материальной защиты интереса средствами, указанными в законе. Суть спора о недействительной сделке, стало быть, не в «выявлении нарушения», а в присуждении денег или вещей истцу (см. п. 2 ст. 167 ГК РФ; иногда может быть также интерес в подтверждении того, что право не передано, а осталось у стороны недействительной сделки; в то же время никакого «возврата права», конечно, быть не может). Если такое присуждение объективно невозможно, то интерес в споре о недействительности сделки отсутствует. Само по себе ограничение возможности оспаривания сделки известными объективными условиями (среди которых, скажем, наличие фактической возможности обнаружить и присудить исполненное по сделке, срок исковой давности и другие ограничения) указывает на отсутствие не только в праве, но и в законе идеи тотального аннулирования ничтожных сделок, коль скоро они случились.
Конечно, сторонники той теории, что ничтожная сделка не является юридическим фактом (а заслуживает только именования «юридического нуля» <1>), скажут: если такова хозяйственная жизнь, то тем хуже для жизни, что громадное количество существующих в обороте незаконных сделок, несмотря на их несоответствие закону, — это не свойство самого оборота, самой жизни, а лишь досадные, хотя и массовые недоработки органов власти, государственного принуждения. ——————————— <1> Эта теория оспаривается, например, с той позиции, что всякая ничтожная сделка — это юридический факт, потому что она является правонарушением (см., например: Чуваков В. Б. К теории ничтожных сделок // Очерки по торговому праву: Сб. ст. / Под ред. Е. А. Крашенинникова. Вып. 15. Ярославль, 2008). Это иногда (статистически — редко) бывает верно, если мы имеем дело со сделкой, состав которой включает в себя деликт (ст. 171, 179 ГК РФ и др.). Остается, однако, вопрос, является нарушение частным или публичным, поскольку любые последствия недействительности носят только частноправовой характер (кроме применения конфискации), нередко при этом вполне очевидно нарушая публичный интерес. Но помимо вмешательства суда и даже независимо от такого вмешательства ничтожная сделка имеет все же свойства юридического факта, отличного от правонарушения. Об этом уже говорилось выше. Если же сделка, открыто исполненная, сыгравшая роль акта реализации товаров, работ, услуг (по терминологии НК РФ) в гражданском обороте, а также и факта, с которым связан переход прав, осталась не оспоренной в суде, то трудно отрицать за ней значение юридического факта, причем никак не правонарушения. А такова судьба большинства сделок с теми пороками, которые означают «ничтожность саму по себе».
Однако это неверно: между сделками и аналогичными актами, которые сделками не являются (назовем их бытовыми соглашениями), существует еще пограничная сфера (при весьма размытых границах) ничтожных сделок, не все из которых по своей сути — деликты, в том числе латентные. Большинство из них вовсе не квалифицируются в качестве правонарушений, никем не скрываются и открыто заключаются и исполняются. При этом, коль скоро никто не обратился за защитой своих прав или интересов <1>, такие сделки полноценны для оборота и его участников. Стало быть, повседневная жизнь не делит сделки на действительные и ничтожные столь категорично, как это делает закон (что, пожалуй, можно расценивать как еще одно проявление вторичности закона (и права) по отношению к сделке, к хозяйству, к жизни). ——————————— <1> А если и обратился, то далеко не всегда, как об этом уже говорилось, публичная власть имеет достаточные основания для аннулирования сделки, хотя бы ее пороки и были доказаны.
Впрочем, даже и в случае аннулирования они сохраняют качества юридического факта, но факта особого — недействительной сделки. По существу все сознательные действия одинаковы в том отношении, что без воли, мотивов и цели они не совершаются. Поэтому имеет смысл задуматься над тем, почему же в сделках значение воли так велико, а в поступках, реальных актах и других действиях становится юридически неважным; ведь воля есть в любом сознательном действии, и механизм ее реализации, воплощения принципиально один и тот же. Видимо, сделка имеет специфику, состоящую в том, что она сама по себе вовсе не затрагивает ничего вещественного, материального, а создает связь только идеальную, юридическую. Она потому и такова, что совершается вне процесса воздействия на вещное, материальное окружение. Мне кажется, что это отрицательное, «нереальное», неутилитарное качество сделки никак нельзя упускать при анализе, что оно имеет решающее значение. А тот факт, что до сих пор на это разделение не обращалось внимания, объясняется, как уже говорилось, сильнейшим влиянием теории вещного договора (распорядительной сделки), одно из следствий которой — размывание границ сделки, распространение ее действия за ее рамки и тем самым — утрата строгости в ее понимании. «Нереальность» не означает нематериальности сделки: сделка всегда действие, т. е. материальна. Но она принципиально — не полезное действие с вещами, не действие по производству полезности вообще. (Под непосредственной полезностью следует понимать, конечно, и передачу готовой вещи другому человеку.) Как действие, лишенное полезной материальности, сделка принципиально отлична от иных актов, преследующих жизненные цели своей исключительной направленностью на будущее — на то, что возникает после сделки. Напротив, как только действие человека, имеющее, в отличие от сделки, непосредственную материальную полезность получения искомого блага, достигает его <1>, оценка волевого содержания этого действия с точки зрения соотношения воли и ее изъявления вовне <2>, а также соотношения мотивов и цели утрачивает смысл (хотя вполне возможны и оправданны с психологической, терапевтической и т. п. точек зрения) <3>. ——————————— <1> Впрочем, и недостижение желаемого результата ничего не изменит в наших рассуждениях. <2> Возвращаясь к юридическим упражнениям, можно сказать, что если дом построен, то именно такова и была цель действий строителя. Та же логика верна и для действия по передаче вещи: вещь передана потому, что такая цель была у человека. Суждения о совпадении воли и волеизъявления не более уместны применительно к передаче вещи, чем применительно к строительству дома. <3> Кроме того, именно отношением к материальной цели оценивается воля в деликте, и этим отличается юридическое значение воли в деликте от воли в сделке.
На самом деле не нужно выяснять, какая цель ставилась актором, если она уже достигнута (упущена). С точки зрения возложения риска на того, кто принял решение, также не имеет смысла распределять последствия решения, когда риск уже реализован в виде получения выгоды или иного материального результата и (или) понесенных расходов и утрат. Эти вполне очевидные суждения нам нужны для того, чтобы вернуться к вопросу о сделке и возможности удвоения воли. Как уже говорилось, ситуация удвоения воли возникает всякий раз, как конструкция вещного договора переносится в российское право <1>. Удвоение состоит, напомню, в том, что вещь якобы отчуждается дважды: в момент заключения договора об отчуждении вещи и в момент передачи самой вещи. Оба акта в рамках таких представлений являются действительными сделками. ——————————— <1> М. Твен говорил, что веру получают всегда из вторых рук и всегда без проверки. Вот такое религиозное качество получил в нашей литературе (не всей, конечно) германский вещный договор. Мои авторитетные собеседники, услышав это замечание, высказались в том смысле, что оно уже утратило актуальность, что времена безоглядного увлечения нашей молодежи вещным договором прошли несколько лет назад. На следующий день я получил работу, которая посвящена именно тому, что «концепция вещного договора, господствующая в ФРГ… применима и к регулированию отношений по договорному приобретению недвижимости в РФ» (Волочай Ю. А. Гражданско-правовая конструкция приобретения права собственности на недвижимое имущество по договору: сравнительно-правовой анализ законодательства России и Германии: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010. С. 10). Автор, конечно, обосновал актуальность темы. Другой автор настаивает на введении в закон указания на совершение комиссионером вещных (распорядительных) сделок, нисколько не сомневаясь, стало быть, в существовании вещного договора в ГК РФ (Байгушева Ю. В. Институт представительства в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации // Вестник ВАС РФ. 2010. N 6. С. 25 — 26). Может быть, имеет смысл вспомнить в связи с этим частным вопросом, что Г. Ф. Шершеневич не видел удовлетворительного обоснования механизма возникновения права собственности комитента в рамках теории вещного договора, которой он придерживался (Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права. М., 1994. С. 208). Такого обоснования не имеется, как представляется, и сегодня. Предлагаемые варианты в виде, например, специального согласия комитента на получение им права собственности на каждую полученную комиссионером вещь (Станкевич А. Момент перехода права собственности в комиссионных отношениях: проблемы теории и практики // Хозяйство и право. 2012. N 2. С. 107 — 111), совершенно неприемлемы не только потому, что они сводят на нет смысл комиссии как профессиональной деятельности комиссионера, освобождающего комитента от участия в ней (иначе зачем вообще нужна комиссия?), но и потому, что отбрасываются все столь долго и трудно конструируемые различия между вещными и обязательственными правами; впрочем, из работы А. Станкевича не видно, что он замечает трудности обоснования вещного эффекта комиссии, возникающие в зависимости от наличия или отсутствия вещного договора (распорядительной сделки), хотя если отказаться от вещного договора и не придумывать совершения фиктивных распорядительных сделок «по передаче права собственности» комиссионером комитенту, то все трудности сразу же исчезают: право собственности возникает у комитента в силу указания закона (норма ст. 996 ГК РФ носит, кстати, императивный характер) по возникновению соответствующих юридических фактов и без всякого акта «передачи права». Думаю, что все же прав М. Твен, а не мои собеседники.
Ценность удвоения (независимо от верности этого представления; напротив, скорее предполагается, что верностью стоит пожертвовать в пользу практических потребностей) объясняется чаще всего нуждами легализации сделки по продаже чужого. Впрочем, сторонники вещного договора в нашем праве имеют преимущество перед иными отечественными цивилистами, которые полагают действительной продажу чужого имущества и без последующего вещного договора. Ведь если первый акт отчуждения ничтожен, так как никто пока еще не говорит, что дозволительно отчуждать чужое, а второй (вещный договор) вовсе не происходит, то получается, что отчуждения так и не случилось. Стало быть, допускать действительность продажи чужого без вещного договора можно только в одном случае — если не дать себе труда понять, что этого просто не может быть, что само это представление лишено логики и смысла, несостоятельно. В этом отношении сторонники концепта вещного договора в российском праве похвально отличаются от своих коллег, говорящих о возможности продажи чужого, тем, что они все же как-то сомневались в таких суждениях и для устранения сомнений распространили действие Германского уложения на другую страну. Мы уже могли убедиться, что весь процесс совершения любого действия принципиально един <1>: воля формируется вокруг своей цели, и они не могут быть отделены либо раздвоены (умножены) по своей сути. У одной воли не может быть двух целей, так как цель — это и есть (реализованная) воля. ——————————— <1> В общем виде такой процесс условно представляется как выбор цели и инициация действия по достижению такой цели (см.: Ильин Е. П. Психология воли. 2-е изд. СПб., 2009. С. 64 (Серия «Мастера психологии»)).
Если целью является совершение сделки, то воля состоит именно в совершении сделки. Сложный договор (обычно соглашения представляют собой множество сделок) является на самом деле множеством связанных вместе волеизъявлений (на этом и основана конструкция частичной недействительности сделки). Каждая воля достигает (или не достигает) только своего собственного результата, своего изъявления вовне — волеизъявления, которое и является ее целью. Если применить эти вполне очевидные суждения к акту передачи вещи во исполнение договора об отчуждении вещи — traditio (или исполнения обязательства о передаче вещи в собственность — dare), то в первую очередь возникает вопрос: насколько уместно квалифицировать это действие как сделку? На мой взгляд, основания для такой квалификации, если исходить из самой сущности явлений, едва ли усматриваются. В крайнем случае, вступая в конфликт с логикой, традицию можно считать сделкой, направленной на прекращение обязательства. При этом под сделкой понимается в данном случае действие, направленное на прекращение обязательства, что вроде бы описывается ст. 153 ГК РФ. Но на самом деле прекращение обязательства — мотив, а не цель исполнения. Ценности в этом, по существу, ошибочном представлении об исполнении как о сделке, хотя бы прекращающей обязательство, немного, но оно, видимо, приемлемо по крайней мере как способ смягчить и без того острую проблему. Пожалуй, эта оговорка может все же дезориентировать читателя. Давайте убедимся в неверности представления об исполнении как сделке, прекращающей обязательство в аспекте возможности признания исполнения или его результата недействительным, поскольку в других аспектах, как мы видели выше, исполнение признаков сделки уже не обнаружило. Мы видим, что весьма затруднительно обнаружить здесь почву для недействительности передачи — именно потому, что передача — действие утилитарное, достигающее известной полезной цели само по себе; все построения, исходящие из утверждения о возможности лишения этого акта результата, наталкиваются на тот факт, что результат есть помимо права, что передача, стало быть, состоялась и тем самым действительна в том смысле, что владение, созданное ею, наглядно и действительно, и праву эту действительность никак невозможно уничтожить. Действительность юридическая, приходится напомнить, состоит в возможности права подействовать на поведение обязанного лица (должника, как правило). Но здесь это уже не нужно: вещь уже доставлена, поведение уже завершено. Поэтому состоявшееся исполнение уже не может быть ни действительным, ни недействительным. Признание же результата исполнения — владения недействительным логически невозможно и практически бессмысленно. Незаконность владения, в отличие от недействительности, имеет иной источник, коренящийся в соотношении сделки отчуждения вещи с волей собственника на отчуждение, т. е. не затрагивает и не ставит под сомнение факт владения и его принадлежность к сфере действительного, к действительности. Незаконным, что вполне очевидно, может быть только наличное, т. е. действительное, владение. Совсем уж нет оснований рассуждать о недействительности работ или услуг, а часто практикуемые попытки противопоставлять разные способы исполнения обязательства для облегчения обсуждения их недействительности представляются ущербными из-за принципиально единой волевой природы исполнения. Но если бессмысленно рассуждать о недействительности исполнения в части работ или услуг ввиду практической невозможности их возврата, то обсуждение недействительности передачи вещи, кажется, такой возможности не лишено. Однако, коль скоро такой возврат не отменяет самого обязательства, его практическая возможность лишена и юридического, и практического смысла (нельзя требовать того, что будет сразу же возвращено должнику <1>). ——————————— <1> Р. Циммерманн приводит это правило среди тех принципов, которые входят в фундамент европейской правовой культуры (Циммерманн Р. Римское право и европейская культура // Вестник гражданского права. 2007. N 4. Т. 4. С. 216). С. В. Сарбаш обосновывает тот же вывод в рамках теории совпадения, которая лишает исполнение возвратного действия ввиду волевых пороков, если фактически исполнение завершено. Компромиссом в позиции С. В. Сарбаша я бы назвал его суждение о том, что «волевой характер не имеет первостепенного значения для юридического характера исполнения» (Сарбаш С. В. Исполнение договорного обязательства. М., 2005. С. 10 — 11). На самом деле, коль скоро исполнение состоялось, воля (точнее, пороки воли) исполнителя не имеет уже и второстепенного значения.
Некоторые оговорки, которые никак не отрицают сказанного выше, нужно сделать в отношении недавно введенных в наше законодательство механизмов, позволяющих отдельно оспаривать действия по исполнению (чаще все же — по прекращению) обязательств в процессе банкротства. Сама по себе возможность приравнивания акта исполнения к сделке и тем самым допущения его юридического аннулирования вытекает, конечно, из того, что не только сделка, но и любое сознательное действие человека является волевым, о чем мы уже говорили. В этом смысле исполнение обязательства и сделка, конечно, действия. Вместе с тем действия должника по исполнению обязательств в процедуре банкротства нельзя считать столь же жестко предопределенными ранее выраженной волей, как это присуще обязательству исправного должника. Нетрудно убедиться в существовании общего (и весьма древнего) правила игнорирования воли неисправного должника <1>. Возможны и нюансы этого подхода, которые Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Федеральный закон о несостоятельности) замечательно обозначены как подозрительность сделок неисправного должника (ст. 61.2). Это позволяет говорить о том, что в случае неисправности воля должника утрачивает свое действие и более не имеет права на уважение. ——————————— <1> Подробнее см.: Скловский К. И. Собственность в гражданском праве. 5-е изд. М., 2010. С. 199 — 204.
Соответственно, последующие действия такого должника в той или иной мере освобождаются от связанности этой волей и приобретают самостоятельное значение. Поэтому возникает юридическая возможность отдельной оценки и отдельного оспаривания этих действий, не затрагивая предшествовавшую им сделку, просто отбрасывая ее и отвлекаясь тем самым от фундаментального принципа «обязательства должны быть исполнены». Способы и последствия такого оспаривания отличаются от общих правил о реституции, закрепленных в ст. 167 ГК РФ, и представляют собой совокупность специальных норм <1>. ——————————— <1> В самом общем виде суть ст. 61.6 Федерального закона о несостоятельности состоит в следующем: такие последствия недействительности сделки, как, скажем, прекращение обязательства отступным (одна из основных гипотез обсуждаемых новелл Федерального закона о несостоятельности), не охватываются нормой ст. 167 ГК РФ. Данная норма не предусматривает возможности возврата права (это и вообще невозможно, хотя нередко данная простая истина оказывается запутанной вследствие довольно широко распространенной ошибки восприятия права как материального предмета), «восстановления обязательства» и т. п. Соответственно, в силу ст. 1103 ГК РФ при недействительности отступного применимы нормы о неосновательном обогащении, использующие более тонкий инструментарий, чем норма ст. 167 ГК РФ, в частности такие конструкции, как сбережение или приобретение имущества. Однако применение норм о кондикции (практически приводящее обычно к выводу о том, что ни одна из сторон не обогатилась), так же как и норма ст. 167 ГК РФ, оставляет в стороне интересы прочих кредиторов. Поэтому специально введенные правила Федерального закона о несостоятельности предписывают обращение не к кондикции (как средству субсидиарному), а к этим новым нормам (как средству прямому). Вместе с тем применение ст. 61.6 Федерального закона о несостоятельности должно происходить все же по общим правилам о реституции, т. е. в виде встречного взыскания полученного каждой стороной недействительной сделки. Во всяком случае суд должен применять эти последствия полностью, а не только в части, требуемой истцом (иначе получается односторонняя реституция). В этом смысле решение суда о признании сделки неисправного должника недействительной и о применении последствий недействительности сделки (акта исполнения обязательства) должно сопровождаться проверкой условий, изложенных в ст. 61.6 (например, в части резервирования средств под применение реституции), и при их наличии решение будет состоять не только в возврате имущества в конкурсную массу, но и во введении кредитора (стороны обязательства) в конкурс с точным определением его положения. Если же окажется, скажем, что резервирования под оспариваемую сделку не имеется, суд обязан отказать в применении последствий, указанных в ст. 61.6, полностью.
В то же время нормы ст. 61.6 Федерального закона о несостоятельности позволяют лишний раз убедиться в том, что, поскольку Закон не говорит иного, отдельное от сделки оспаривание исполнения не имеет правовых оснований. Квалификация передачи вещи в качестве реального акта <1> (поступка), но не сделки, как в немецком праве, не только не исключена, но и более последовательна в проведении взгляда на сделку как на акт неутилитарный, о чем уже говорилось (передача вещи имеет, очевидно, непосредственную полезность). Поэтому она кажется предпочтительной <2>, в том числе по сравнению с квалификацией исполнения как сделки по прекращению обязательства. ——————————— <1> Общая оценка соотношения сделки и реального акта такова: сделки содержат одну или больше деклараций о намерениях с добавлением последующего акта, который, поскольку его больше не нужно поддерживать специальным намерением при совершении, именуется реальным актом (Realakt). Так, передача собственности в соответствии с § 929 BGB требует вещного договора и передачи фактического владения, причем передача, как и вещный договор, не требует специального намерения (Markesinis B., Unberath H., Johnston A. German Law of Contract. A Comparative Treatise. 2nd ed. Hart Publishing, 2006. P. 27 — 30). Дело, однако, в том, что реальный акт не только не нужно поддерживать особой волей, но, более того, недопустимо после сделки снова требовать проявления воли, ее подтверждения, так как подобный взгляд на исполнение исходит из ошибочного допущения, что воля может быть пересмотрена после совершения сделки и потому нуждается в повторении (обновлении, подтверждении и т. д.). Именно из-за непонимания этого обстоятельства и возникли тупики в интерпретации передачи собственности в нашем правоведении. <2> Это, конечно, не означает, что тем самым мы должны перенести на нашу почву все прочие представления германских юристов.
Обе квалификации исходят, впрочем, из того, что передача вещи — сознательное действие, направленное именно на вручение вещи другому лицу (его участие требует признать это действие совместным, что в данном случае не обсуждается). Везде одно и то же, и различия интерпретаций, если довести рассуждение до конца, состоят лишь в том, что в одном случае считается, что воля на передачу права уже выражена раньше, в договоре, причем эта воля проявилась как действие договорного обязательства, подлежащего исполнению без всякого нового изъявления воли на передачу права, а в другом случае считается, что новый, повторный договор о передаче права «мысленно присоединяется» к реальному акту передачи вещи. Преимущества обоих подходов состоят в том, что в их рамках предприняты попытки создать логичный механизм связи между волей обладателя права и переходом права. Отсутствием такой логики (и, пожалуй, всякой логики) страдает то удвоение, которое возникает у тех наших цивилистов, которые считают передачу вещи и сделкой, прекращающей обязательство (при этом, как уже отмечалось, по сути смешиваются цель и мотив сделки, если это сделка), и одновременно сделкой, «передающей» право собственности. Получается, что одно действие — это две сделки или одна сделка с двумя целями. Сторонники указанных взглядов и не стремятся выбрать один из этих двух вариантов; впрочем, любой из них ошибочен и оставляет всю теорию в тупике. Попробуем наметить решения, свободные от ошибки удвоения воли в одном действии, не прибегая в то же время к конструкции вещного договора. Детальное изучение процессов формирования и выражения воли психологами не дает никаких оснований для любого допущения, что воля может иметь более одной цели. Вопрос о множественности возникает только в аспекте трудности формирования воли при множественности (или неясности) мотивов вплоть до паралича воли при взаимоисключающих мотивах <1>. Мотивы могут быть, конечно, неполярными — тогда цель определяется легче и стремление к ней может быть сильнее в силу умножения мотивов. Но в любом случае, при любой множественности мотивов, цель, т. е. сознательное действие, будет единственной, а действие, вполне понятно, — одним действием <2>. ——————————— <1> Леонтьев А. Н. Воля // Вестник Московского университета. Сер. 14. Психология. 1993. N 2. С. 3 — 14. Иоанн Дунс Скотт полагал, впрочем, что воля может удерживаться от акта воления и в том случае, «когда ей явлено блаженство» (Бл. Иоанн Дунс Скотт. Указ. соч. С. 469, 506 — 507). Здесь показана уже не только производность права от сделки, но и сделки, т. е. воли, от жизненных нужд. <2> «В таком случае, когда конфликт, заключенный в борьбе мотивов, не получил разрешения, которое исчерпало бы его, особенно осознается и выделяется решение, как особый акт, который подчиняет одной принятой цели все остальное» (Рубинштейн С. Л. Указ. соч. С. 529).
Представления об удвоении действия воли связаны главным образом с квалификацией исполнения договора об отчуждении вещи (но, раз возникнув, эти представления могут обнаружиться и в других юридических конструкциях). Остановимся на этом пункте. Мы видим, что германские юристы, придумав концепт вещного договора, предусмотрительно избавили себя от тупика удвоения, лишив действие по передаче вещи значения юридического акта и оставив ему лишь статус поступка (реального акта, в более удачной терминологии германских юристов). Тем самым фикция вещного договора игнорирует юридические свойства традиции. Реальный акт, как и всякое действие, имеет, конечно, свою цель — передачу вещи. Другой воли и другой цели, выходящей за рамки передачи вещи, здесь не остается. Но к передаче домысливается вещный договор. Я не думаю, что здесь имеет смысл подробно показывать фиктивность вещного договора ввиду достаточной, как представляется, ясности этого вопроса. Важнее, кажется, остановиться на некоторых особенностях фикции, учитывая, что в условиях процесса кодификации, который мы сейчас переживаем, интерес к средствам техники (а таким средством и является фикция) закономерно возрастает. В этом смысле можно заметить, что фикция в принципе не может быть доказана, так как она не может быть явлением, она лишена всякого реального бытия. А доказан может быть только факт — то, что существует. Однако фикция всегда обосновывается практическими нуждами: она устраняет противоречия в системе, позволяя ей успешно функционировать. Таким образом, обоснование фикции состоит в показывании ее удобства, а отнюдь не того, что она якобы действительно существует. Между тем множество недоразумений и потерь для права возникает именно из стремления юристов доказать, что фикция не столько удобна, сколько реальна — просто не все ее видят (с трудом удерживаюсь, чтобы не вспомнить об очевидцах НЛО или снежного человека). Вполне понятно, что если сложившиеся фактические отношения одновременно и удобны для регулирования, то они не являются препятствием действию закона. В этом случае они не создают никакой юридической проблемы и не привлекают внимания юристов. Поиски же фикции следуют всегда за обнаружением юридического тупика, тяжелого противоречия, возникшего в реальности. Другое дело, что, раз возникнув усилиями закона, фикция со временем начинает восприниматься юристами как реально существующее явление. Нам может показаться курьезной убежденность многих немецких юристов в естественности вещного договора, но если мы вспомним, как сами воспринимаем юридическое лицо, вспомним тяжелые баталии по поводу его социальной реальности, известные нашей литературе, то ситуация предстанет в ином свете <1>. ——————————— <1> Отвлекаясь от темы статьи, я бы заметил, что отдельное исследование судьбы той или иной фикции, особенно давно внедренной в право, было бы достаточно интересным. Мы бы получили почти в чистом виде историю истинно юридическую, историю созданного в юридической реторте явления, зажившего самостоятельной жизнью и даже способного подчинить себе сознание юристов, только в котором оно и может существовать.
Как заметил еще Гай, в праве существуют лица, действия <1>, вещи. Нетрудно заметить, что при всех известных юридических опосредованиях каждое из этих явлений — все же материальный феномен. ——————————— <1> В первоисточнике, конечно, иски (actiones). Но расширение понятия в данном случае, на мой взгляд, не искажает рассуждение, если распространить его за рамки римского права.
Эту связь внешне явленного и преобразованного сознанием в простейшее понятие, все еще в основном фактическое, мы часто даже не замечаем. Чувственно мы воспринимаем картину, в которой один человек передает другому пять яблок. Но известные нам социальные связи, в которых мы сами участвуем, заставляют нас воспринимать одного человека как продавца, другого — как покупателя, а пять яблок — как товар, покупку. В другом случае мы видим человека за рулем автомобиля, но существующая социальность приводит к восприятию этого явления как владения автомобилем. И факт покупки, и факт владения при этом не утрачивают материальности (потому они и факты). В этом смысле, кстати, владение, как и другие факты, заведомо социально, продукт рефлексии, результат общественных отношений. Квалификация его как факта не имеет иного смысла, кроме как выражения той малопонятной современному российскому юристу истины, что социальная значимость владения возникает до и помимо присвоения владельцу того или иного субъективного права действующим законом. Широко известно в этом же плане противопоставление натурального владения (из-за разрыва исторической традиции в нашем праве и использован термин «фактическое владение» вместо «натуральное владение»), натурального обязательства владению и обязательству юридическому, по праву. А. М. Ширвиндт, цитируя М. Казера, говорит о натуральном владении, обязательстве как о «понятиях природы, выведенных из существа вещей» <1>. ——————————— <1> Ширвиндт А. М. Указ. соч. С. 103.
Стоит лишь добавить, что «вещи» здесь — не тела только, но сложившаяся реальность, коренящаяся в природе, в материальном. Поэтому весьма эмоциональная критика Д. В. Дождевым понятия владения как факта <1> представляется мне направленной не по адресу. ——————————— <1> Дождев Д. В. Владение в системе гражданского права // Вестник гражданского права. 2009. Т. 9. N 4.
Говоря о фактическом владении, современные отечественные юристы (и среди них — автор настоящей статьи), подвергнутые Д. В. Дождевым критике, имели в виду не природный феномен владения — такого вообще нет, и это как раз обычно все понимают (тогда как далеко не все понимают, что есть владение вне закона), — но достаточно сложное и неоднократно опосредованное реальностью явление, выведенное, однако, не из закона (тем более что ГК РФ это явление замечает лишь в части и бессвязно), а из «существа вещей». Стоит лишь порадоваться за нашего замечательного романиста и прекрасного человека, который столь редко сталкивается с грустными реалиями современного российского правоприменения и правосознания, заставляющими останавливаться, уступая внешним препятствиям, там, где юристы более просвещенные не видят повода даже для замедления движения. Именно поэтому фикции прежде всего имеют своим объектом именно лиц (можно указать здесь на фикцию юридического лица), вещи (я бы сослался на такую актуальную сегодня для нас фикцию вещи, как помещение <1>) и, наконец, действия. ——————————— <1> Подробнее см.: Скловский К. Помещение как объект права // Закон. 2010. N 1; см. также: Егоров А. В., Церковников М. А. Права на пространство в здании: Комментарий к Постановлению Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. N 64 // Вестник ВАС РФ. 2010. N 2 (авторы говорят, что помещение — «своего рода фикция» (Там же. С. 67), но фикция — всегда своего рода, фикции вообще не существует, хотя общие черты у разных фикций, вероятно, обнаружить все же можно).
Вещный договор и является фикцией действия (договора о передаче права), которого на самом деле как действия не существует. В действительности права, конечно, не передаются, а устанавливаются, т. е. волеизъявлением обладателя права прекращаются у него и возникают у получателя права: «Передача есть материальное действие, которое не может совершаться относительно невещественного предмета, каким является право» <1>. ——————————— <1> Планиоль М. Курс французского гражданского права. Петроков, 1911. С. 612. Это фундаментальное положение становится очевидным после определенного размышления (на которое, однако, не все юристы находят время) и обычно как очевидное и излагается в литературе, например: «Перенос права нельзя облечь в обязательственную форму» (Блинковский К. А. Система обязательств // Практика применения общих положений об обязательствах: Сб. ст. / Отв. ред. М. А. Рожкова. М., 2011. С. 13); «Нематериальный характер объекта интеллектуальной собственности обусловливает невозможность передачи или перехода такого объекта от одного лица к другому» (Дедков Е. А., Александров Е. Б. Сделки по распоряжению правом на товарный знак: отчуждение и лицензия // Сделки: проблемы теории и практики: Сб. ст. / Под ред. М. А. Рожковой. С. 392). Понятно, что нематериальный характер любого права влечет тот же вывод.
Этот механизм передачи (установления) субъективного права принципиально не отличается (и не должен отличаться, поскольку здесь затрагиваются фундаментальные качества права вообще <1>) от установления обязательства. Разница лишь в том, что при установлении обязательства должник обязывается и тем самым создает право кредитору, а при передаче права обладатель права лишает себя принадлежащего ему права, что сродни установлению обязательства в том смысле, что в обоих случаях лицо ухудшает свое юридическое положение. ——————————— <1> Мы наблюдаем осуществление одного из базовых принципов частного права, о котором уже говорили: никто не может быть лишен права либо обременен обязанностью иначе как по своей воле. Те особенности, которые этот принцип приобретает в сфере деликтов, и некоторые иные исключения мы не обсуждаем, поскольку наше исследование ограничено сферой сделок, которая всецело подчинена данному принципу или, точнее, которая его и создала.
Впрочем, существует концепция, согласно которой права не устанавливаются актом воли, а буквально передаются, точно так же как вещи. При том что эта концепция, как видим, не перегружена рефлексией, один логический аргумент она все же использует: если считать, что права не передаются, а устанавливаются сделкой <1>, то невозможно объяснить тождественность прав при передаче. ——————————— <1> Можно, напротив, заметить, что теория передачи права не в состоянии объяснить ни одну из сделок собственника, кроме отчуждения, ведь право собственности как право неделимое (поскольку неделима вещь) не может передаваться по частям. Соответственно, собственник каждый раз устанавливает права своим контрагентам — как при установлении обязательств (доверительного управления, перевозки, подряда, аренды и пр.), так и при установлении вещных прав. То же самое можно сказать и о других неделимых правах. Впрочем, показывать частные случаи несостоятельности теории передачи права — задача малоинтересная ввиду неубедительности этой теории в целом.
На самом деле здесь просто упускается из виду, что весь механизм передачи права полностью подчинен действию того фундаментального правила, которое только что приводилось. Поскольку всякое относительное право одновременно означает и чью-либо обязанность, то расширение права невозможно без согласия обязанного лица. Значит, право не может быть установлено у получателя в большем объеме, чем оно имеется у передающего право, ведь тогда за спиной обязанного лица помимо его воли расширится его обязанность, что невозможно. Так и получается тождественность. Что касается прав абсолютных, полных, т. е. ограниченных только законом, а не объемом прав обязанного лица <1>, то они передаются как наиболее полные права, их тождество — это тождество полноты, оно задается правопорядком (для упрощения можно понимать — позитивным правом). ——————————— <1> В рамках известной идеи, согласно которой абсолютному праву якобы противостоит обязанность неопределенного круга лиц «не нарушать права» (на самом деле здесь не обязанность, а запрет, обеспечиваемый прежде всего публичными средствами), насколько известно, не предпринималось попыток содержательно описать эту обязанность (вероятно, потому, что такие попытки окажутся, скорее всего, перечислением множества норм уголовного, административного и других законов, причем это множество едва ли может быть исчерпано). Между тем неопределенная обязанность (как, впрочем, и право) не может считаться юридической обязанностью, что лишь подкрепляет все прочие аргументы, показывающие неадекватность указанного представления. Среди этих прочих доводов, о которых мне не раз доводилось говорить, редко приводится один, который хочется все же здесь напомнить. Если собственнику противостоят все прочие лица, якобы «обязанные» не нарушать его право, то во всяком случае на первом месте среди обязанных должен стоять, видимо, незаконный владелец. Однако незаконный владелец не имеет на самом деле обязанности выдать вещь собственнику (не говоря уже о том, что он обычно и не знает, кто же собственник вещи) и потому не несет никакой ответственности за невыдачу вещи собственнику в определенный срок и в определенное время (уже хотя бы потому, что ни срок, ни место исполнения этой несуществующей обязанности нигде не указан даже на случай явной недобросовестности владельца; впрочем, различия в ответственности владельца добросовестного и недобросовестного сами по себе указывали бы на отсутствие всеобщей обязанности, которая не должна знать исключений, однако отсутствие всякой ответственности подтверждает отсутствие придуманной обязанности еще убедительнее). Еще меньше оснований придумывать обязанность «не нарушать право» всем прочим лицам. Если же вернуться к аргументу о том, что неопределенность запрета лишает его качеств обязанности, то мы должны обсудить другой вопрос: не свойственно ли то же и обязанности воздержаться от действий как одной из форм обязательства? Например, К. А. Блинковский соглашается с тем, что эта обязанность как понятие отрицательное лишена необходимой определенности и вообще ограничивает правоспособность (Блинковский К. А. Указ. соч. С. 15). Думаю, что это не так. Обязательство воздержания от действия (ст. 307 ГК РФ) — это всегда обязательство воздержаться не только от правомерного действия (чем оно принципиально отличается от публичного запрета, всегда запрещающего преступление или иное неправомерное действие), но именно от осуществления субъективного гражданского права (Г. Ф. Шершеневич говорит о воздержании от тех действий, «исключительное право совершения которых принадлежит должнику» (Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. М., 2005. С. 9)). Именно поэтому обязательство воздержаться от действия адресовано не любому лицу, а обладателю этого субъективного права; именно его кредитор отыскивает среди прочих для получения от него данного обязательства, хотя правоспособность ведь есть у всех, и у всех одинаковая. Понятно, что обязанность воздержания от действия непременно имеет меру, иначе действительно можно сказать, что обязательство не установлено (спорные ситуации чаще всего связаны с различными договорами об ограничении конкуренции). При этом мера воздержания естественно ограничена рамками самого субъективного права, которое, в свою очередь, также, как известно, ограничено, также — мера, поэтому невозможно предположить, что обязательство воздержания от действия может быть безграничным.
Интересно, что в достаточно распространенных представлениях о существовании в реальности акта передачи права мы обнаруживаем известную еще из схоластики и весьма на самом деле живучую идею реалистов, которые, как мы помним, полагали, что общие понятия имеют реальнее бытие, в противовес номиналистам, считавшим, что понятия реально не существуют. В представлениях реалистов субъективное право должно обнаруживаться в реальном мире, мире вещей, а стало быть, и передаваться точно так же, как вещь. Тот факт, что нынешние сторонники реальной передачи права чаще всего не подозревают, что они стоят в знаменитом противостоянии на стороне простодушных реалистов, лишь подчеркивает неслучайность этой старинной полемики, которая на самом деле постоянно длится, возникая время от времени в разных науках. Учитывая, что уже несколько столетий назад была все же убедительно показана несостоятельность реализма (с тех пор реализм, как и в нашем случае, проявляется обычно стихийно, с некоторыми исключениями, которые все же можно обнаружить за пределами науки о праве <1>), я бы ограничился, как бесспорным, положением о нематериальности права и, следовательно, отсутствии в реальности акта передачи права. Тем самым исключается и обязательство по передаче права (что вытекает и из текста ст. 307 ГК РФ). ——————————— <1> Трудно сказать, есть ли среди современных юристов сознательные сторонники реализма; во всяком случае тезис о материальности права, насколько можно судить, ни один из ведущих отечественных правоведов не отстаивает. Курьезно, что об этом не говорят и те, кто всерьез рассуждает о реальности передачи права.
Дело, однако, осложняется тем, что не только в представлениях юристов, но и в законе мы можем натолкнуться на слова, позволяющие обнаружить следы обязательства по передаче права. По крайней мере в двух местах (в ст. 1106 и 1234 ГК РФ) так или иначе упоминается обязательство по передаче права. Между тем в ст. 1106 ГК не содержится никакого правила в отношении передачи права, и остается лишь исходить в этой части из вторичного характера нормы, отсылающей, следовательно, к ст. 382 ГК РФ, которая подобного обязательства не упоминает, но, напротив, говорит о том, что право может быть передано «по сделке». В то же время само правило ст. 1106 ГК РФ ясно говорит о том, что если право требования передано по ничтожному основанию, то прямо применимы нормы о неосновательном обогащении (на это указывает помещение нормы в гл. 60). Учитывая, что выше, в ст. 1103 ГК РФ, предписывается субсидиарное применение норм о неосновательном обогащении для случая возврата исполненного по недействительной сделке, мы должны исходить из того, что в ст. 1106 ГК РФ имеется в виду другой случай и, очевидно, речь не идет о возврате переданного права, как исполненного по недействительной сделке, иначе с позиций обычного систематического толкования эта норма была бы лишней и дезориентирующей. Упоминание в ст. 1106 ГК РФ «восстановления прежнего положения» <1> также нужно для того, чтобы указать, что речь идет не о «возврате исполненного» по обязательству, а о другом способе защиты. ——————————— <1> «Восстановление первоначального положения», несмотря на упоминание в ст. 12 ГК РФ («восстановление положения, существовавшего до нарушения права…»), не является само по себе определенным способом защиты права, а, напротив, может быть отождествлено, пожалуй, с любым иным способом. Во всяком случае одно лишь указание этого способа в законе, без детализации и конкретизации, не дает почвы для применения определенной защиты, поэтому задача состоит в отыскании иной, специальной защиты. В данном случае на такую специальную защиту указывает помещение нормы в гл. 60 ГК РФ.
В ст. 1234 ГК РФ сказано, что передача права (исключительного) осуществляется как непосредственно по договору, так и посредством обязательства, установленного этим договором. Можно заметить, что при крайней сомнительности, а пожалуй, и невозможности, самой идеи, что один и тот же объект может передаваться принципиально разными способами — как одной только сделкой, одной волей сторон, так и их действиями по исполнению обязательства, с точки зрения терминологии, употребленный в ст. 1234, оборот «по договору» применительно к передаче права (в отличие от передачи по обязательству) подкрепляет наше понимание текста п. 1 ст. 382 ГК РФ (передача права «по сделке») в том смысле, что эта основная норма о цессии не указывает на обязательство. Возвращаясь же к ст. 1234 ГК РФ, укажем, что эмпирически обязательства по передаче исключительных прав не наблюдаются, как практически весьма мало и договоров, заключенных на таких условиях <1>. ——————————— <1> Обычно, даже если в договоре упоминается обязательство по передаче права, на самом деле оно просто передается в момент, отличный от момента заключения договора.
Хотя нередко составляются, помимо договоров, акты приема-передачи права (эта традиция была создана еще в рамках практики уступки права требования) <1>, сами эти акты следует признать лишенными юридического значения. Ведь акт приема-передачи не может быть сделкой, но является лишь доказательством совершения того действия, которое в нем описано <2>. Если же никакого действия не было, то акт утрачивает достоверность и ничего не доказывает. ——————————— <1> Имея в виду те остающиеся в тени области современного отечественного правосознания, которые составляют ведущий мотив настоящей статьи, следовало бы задаться вопросом, является практика составления актов приема-передачи права уступкой ригоризму бухгалтеров, как часто говорят, или это проявление того наивного реализма, о котором говорилось выше. <2> Применительно к сделке таким доказательством может быть, скажем, протокол подписания договора. В некоторых сложных случаях такой протокол мог бы быть рекомендован для практических целей, прежде всего для снижения риска оспаривания сделки.
Знаменательно, что сразу после появления норма ст. 1234 ГК РФ подверглась убедительной критике именно в части упоминания обязательства по передаче права <1>. ——————————— <1> См.: Дедков Е. А., Александров Е. Б. Указ. соч. Разделяя критику авторами указания на обязательство о передаче права, я бы также отметил определенное противоречие между п. 1 ст. 1234 ГК РФ, допускающим как передачу права договором, так и обязательство по передаче права, и п. 4 той же нормы, ничего уже не говорящим об обязательстве. Здесь речь идет о выборе того или иного факта, с которым стороны связывают переход права. По умолчанию право переходит в момент заключения договора. О том, как могло бы выглядеть исполнение обязательства по передаче исключительного права, закон ничего не говорит. Не говорят этого и комментаторы закона, даже в тех случаях, когда они обнаруживают консенсуальность лицензионного договора (договора о передаче исключительного права) (Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный) / Отв. ред. Л. А. Трахтенгерц. М.: КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2009; Гаврилов Э. П., Еременко В. И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009; Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) / Под ред. А. Л. Маковского. М.: Статут, 2008; см. также: Павлова Е. А. Договоры о распоряжении исключительным правом: Комментарий к Постановлению Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2009. N 9). Суждение о консенсуальности договора в сопоставлении с содержанием п. 4 ст. 1234 ГК РФ приводит к выводу, что в рамках консенсуального договора стороны вправе указать момент перехода исключительного права, отличный от момента заключения договора, — тогда реальность будет совпадать с возникновением права в момент заключения договора. Но в строгом смысле это едва ли может означать как консенсуальность, так и реальность договора. Поэтому представляется не лишенным противоречий верное по началу заявление: «…права и обязанности сторон исчерпываются фактом перехода исключительного права, т. е. моментом заключения договора», — сопровождаемое, однако, далее сравнением с реальным договором дарения (Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая (постатейный). 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. С. А. Степанова. М.: Проспект; Институт частного права, 2009 (автор комментария к ст. 1234 — Д. В. Мурзин)). Хотя в договоре дарения обязательство по передаче вещи не возникает (и в этом смысле сопоставление вполне уместно), действие по передаче подаренной вещи тем не менее имеется, тогда как при отчуждении права никакого действия нет, а достаточно «момента договора», как верно указывается в Комментарии. То, что авторы комментариев никак не описывают ни обязательства по передаче исключительного права, ни какие-либо действия по передаче права, неслучайно. Ни ст. 1234 ГК РФ, ни иные нормы никак не включают в механизм распоряжения исключительными правами действия по передаче права. И в случае принудительной лицензии никакого акта передачи (возврата) права не требуется (ст. 1239 ГК РФ). Среди средств защиты такой способ, как требование возврата права, не указывается. Может быть недобросовестный приобретатель материального носителя, но не права (подп. 4 п. 1 ст. 1252 ГК РФ). И это тоже неслучайно. Одно только поименование обязательства о передаче права не создает нормы. Норма — это правило поведения. А вот предписанного поведения по передаче права закон нигде не указывает. Думаю, такой нормы и не может быть. Руководствоваться же существующими нормами о времени, месте, способах исполнения обязательств, включая известные правила об отгрузке, пересылке, хранении, случайной гибели и т. д., применительно к праву крайне затруднительно.
Подобному анализу ст. 382 ГК РФ не подвергалась, но эта норма, как уже говорилось, и не дает оснований усматривать наличие обязательства по передаче права. Чаще можно встретить суждения о существовании распорядительной сделки наряду с договором купли-продажи (иного отчуждения) права требования, которые мы уже начали обсуждать как фикцию. Замечу лишь, что даже введение второй (фиктивной) сделки по передаче права никак не требует введения при этом фиктивного обязательства — это просто не нужно. А фикция может быть только нужной. Наконец, ст. 251 ГК РФ, говорящая об отчуждении доли в праве общей собственности, исключает всякое обязательство по передаче права (классическое право требовало для вещного эффекта введение покупателя во владение общей вещью, что также, конечно, никак не может интерпретироваться в смысле передачи права). Едва ли могут быть сомнения в том, что передача любого права как единственного объекта (предмета) сделки (собственно, качества объекта права эти права и приобретают потому, что могут стать сами по себе предметом сделки) обладателем приобретателю должна иметь общий механизм. В этом смысле отчуждение доли в праве общей собственности <1> описано в законе, на мой взгляд, наиболее адекватным образом. ——————————— <1> Упреки в ее некорректном наименовании — ведь речь идет о праве — отчасти можно отразить именно тем, что термин «доля» облегчает восприятие этого права как объекта права (по поводу правомерности существования прав в качестве объекта прав имеются гораздо более серьезные сомнения).
Именно так передаются и права требования, и исключительные права: переход права производится «по сделке», но стороны могут указать в этой сделке иной момент перехода права (против платежа, по сроку и т. п.). В любом случае обязательства по передаче права не возникает, и действия по передаче права быть не может. Соответственно, не может быть в принципе требования о возврате права, независимо от того, признает закон абстрактные распорядительные сделки или нет. Поскольку не существует обязательства по передаче права вообще и передаче права собственности в частности, утрачивают основания и достаточно распространенные заявления о якобы существующей обязанности «передать право», «наделить правом» и т. п. Оценивая акт передачи вещи во исполнение обязательства из договора об отчуждении вещи, мы можем согласиться с тем (и только с тем), что должник передает вещь, чтобы освободиться от своей обязанности <1>. ——————————— <1> «Должник платит для того, чтобы освободиться от своего долга» (Иеринг Р. фон. Цель в праве // Иеринг Р. фон. Избранные труды. Самара, 2003. С. 26). Мы уже говорили, что если бы исполнение и было сделкой, то «освободиться от обязательства» — определенно мотив, а не цель. А цель — передать вещь, передать деньги, выполнить работу, оказать услуги и т. п.
Вообще говоря, здесь есть несомненно действующий механизм, который сам по себе обеспечивает весь гражданский оборот. Этот механизм сложился именно таким образом, что должники стремятся исполнить свои обязательства, подстегиваемые, скажем, нежеланием подвергнуться различным санкциям (а также и прочими мотивами: заботой о деловой репутации и т. д.). Принимая решение о том, как исполнить свое обязательство, должник привлекает все свои знания, опыт, навыки, тем самым делая достоянием иных участников оборота те собственные качества и ценности, которые иначе оставались бы только у него и попросту пропали бы для развития общества. (В этом и проявляется позитивная сила права, о которой уже говорилось.) Но при этом его воля направлена только на одну цель (причем воля всегда бывает направлена только на одну цель) — действие по исполнению обязательства. С другой стороны, если следовать идеям, возникшим из вещного договора (но затем получившим отдельное, хотя и не вполне осознаваемое существование), действие продавца по исполнению обязательства из договора купли-продажи, сохраняя качество сознательного волевого акта исполнения обязательства, является также и другим сознательным волевым актом — актом по передаче права собственности. Но дело в том, что если в германском праве вещный договор является полноценной фикцией, т. е. предусмотрен законом и является важной частью его системы <1>, то система нашего права подобной фикции не содержит, вследствие чего возникла идея присваивать функции акта по передаче права тому акту, который является совсем иным действием. А это систему закона и права, напротив, деформирует. ——————————— <1> Как выразился А. Ваке, «родоначальники BGB посчитали необходимым в интересах торгового оборота признать абстрактность распорядительной сделки по поводу вещи» (Ваке А. Приобретение права собственности покупателем в силу простого соглашения или лишь вследствие передачи вещи? // Цивилистические исследования. Вып. 1: Сб. научных трудов памяти проф. И. В. Федорова / Под ред. Б. Л. Хаскельберга, Д. О. Тузова. М., 2004. С. 136). Автором дано адекватное описание сознательного установления фикции, которая со временем начинает восприниматься юристами — потомками родоначальников уже естественно, что также отмечает А. Ваке в той же статье.
Сторонники идеи удвоения воли обычно полагают не только то, что акт передачи права существует на самом деле, но также то, что существует обязательство по передаче права, вопреки тому, что показано выше. Именно эти убеждения и не позволяют им заметить всей проблематики, связанной с фиктивностью вещного договора. Потому и не имеется попыток обосновать эти взгляды, Обычно дело ограничивается ссылками на немецкую, реже — французскую литературу. Кстати, некоторые высказывания французских авторов приводят к интересным выводам. Например, М. Планиоль говорит, что обязанность продавца перенести право собственности «считается исполненною в момент заключения договора» <1>, причем никакого действия по исполнению обязанности передать право, конечно, нет и быть не может ввиду «автоматизма» перехода права. ——————————— <1> Планиоль М. Указ. соч. С. 540. Такие же взгляды высказывают и другие французские авторы (см.: Церковников М. А. Приобретение права собственности на движимые вещи посредством соглашения: французский и российский опыт // Вестник гражданского права. 2009. Т. 9. N 3. С. 106, 114).
Можно было бы говорить о буквальном совпадении с объяснениями перехода права собственности, даваемыми отечественными авторами (см. ниже), если бы не обнаружилось разительного отличия: французские юристы увязывают «автоматический» переход права собственности с моментом заключения договора, а российские — с моментом передачи вещи. Тот факт, что на самом деле никакого действия по передаче права не существует, как видим, позволяет довольно легко манипулировать этим воображаемым актом. Вместе с тем мы должны дать оценку самой идее «автоматизма», без которой, как видим, невозможно вообще описать вещный эффект и которая известна цивилистам. Об этом, в частности, говорит С. В. Сарбаш <1>. Впрочем, автор достаточно осторожно, кажется, относится к обнаруженному им «автоматизму», в некотором роде противопоставляя ему заявление о регистрации вещного права как «дополнительное волеизъявление» <2>. Однако это лишенное определенности суждение, увы, пожалуй, ни о чем не говорит. ——————————— <1> Сарбаш С. В. Удержание правового титула кредитором. М., 2007. С. 104 (при этом автор ссылается на работу Т. Д. Бенциановой). М. А. Церковников, вопреки идее «автоматизма», предлагает, напротив, разъединение договора и передачи права собственности, причем при отчуждении чужой вещи «такой договор не производит вещного эффекта и может рассматриваться как недействительный в части при наличии условия, предусмотренного ст. 180 ГК» (Церковников М. А. Приобретение права собственности на движимые вещи посредством соглашения: французский и российский опыт. С. 131). Конечно, суждение автора нуждается в большей внятности ввиду его новаторского содержания. Насколько можно понять из процитированных слов, договор купли-продажи, по мысли автора, сохраняет действительность в любом случае, а ничтожность его вещного эффекта отделяется и не поражает договор, поскольку применен механизм частичной недействительности сделки, благодаря воле сторон, которая, таким образом, оказывается средством рассечения сделки на две: куплю-продажу и условие о «наделении собственностью покупателя». Автор, видимо, ссылается на идею отбрасывания в силу ничтожности условия с сохранением сделки в прочем. В нашем праве такой механизм вызывает, пожалуй, сомнения или во всяком случае затруднения, поскольку все же норма ст. 180 ГК РФ тяготеет к расчленению сделки, а не к отделению от сделки условия, которое само по себе сделкой не является (подробнее см.: Новицкая А. А. Недействительность части сделки: сравнительно-правовой анализ российского и немецкого правового регулирования // Вестник гражданского права. 2011. Т. 11. N 1). Но дело совсем не в этом, ведь сама по себе идея, что договор купли-продажи может быть заключен как с условием передачи собственности, так и без этого условия, бесспорно, ошибочна. Если вещь передается без отчуждения, то это не договор купли-продажи (мены, дарения и т. д.). Никакого условия о переходе собственности, конечно, стороны не устанавливают, и это условие от сделки об отчуждении не может быть отделено, независимо от текста договора об отчуждении вещи, в любом случае. Выбор сторонами договора об отчуждении вещи не только уже содержит в самом этом выборе волю на отчуждение, но в силу правопорядка эта воля, это намерение отчуждения не может быть предметом обсуждения и изменения и тем более устранения из договора, поскольку стороны не отказались от самого договора в целом. Видимо, поэтому до М. А. Церковникова никто данную идею и не излагал. В то же время ее анализ лишний раз показывает, что противопоставить «автоматизму» перехода права собственности на самом деле нечего. Однако мы можем заключить, что решение возможно не на пути малоубедительных попыток отыскания фактов, спасающих желаемую юридическую конструкцию (в частности, попыток выявления отделимого условия о передаче (наделении и т. п.) права собственности в договоре купли-продажи), которых, как кажется автору, никто до того просто не смог заметить, а на пути создания фикций, т. е. для начала признания того, что этих фактов просто нет. <2> Сарбаш С. В. Удержание правового титула кредитором. С. 104.
Любое действие — волевое. Можно называть его и волеизъявлением, если оно должно быть воспринято. Но намек на то, что заявление о регистрации является сделкой, сознательно невнятен. Автор определенно не желает, чтобы ему была приписана эта заслуга. Конечно, акт регистрации не является сделкой уже хотя бы потому, что он, очевидно, адресован органу, не являющемуся «гражданином и юридическим лицом» (ст. 153 ГК РФ). На самом деле заявление о регистрации не является не только сделкой (что бесспорно), но и актом по исполнению обязательства, как не существует и обязательства по регистрации права. Это видно как из того, что заявление о регистрации никак не вписывается в содержание ст. 307 ГК РФ, так и из того, что, в отличие от обязательства, оно не имеет стоимости, не подлежит цессии, не может быть прекращено по правилам о прекращении обязательств, его участники не имеют качеств кредитора и должника и т. д. Налицо обязанность и действие, имеющее публично-правовую природу. Известны и другие акты той же (публичной) природы, влекущие частноправовые последствия (акт регистрации брака, рождения, установление опеки, заявление о бесхозяйном имуществе или находке, заявление о получении разрешения на строительство и т. п.). Эти действия между тем являются актами и потому, как и любые акты, вполне могут быть названы «волеизъявлением», как это и сделано С. В. Сарбашем. Но это волеизъявление не на передачу (получение) права, а на регистрацию. Передача права является следствием правильной регистрации не потому, что стороны якобы «подтвердили» свою волю на отчуждение, а потому, что они ранее заключили и исполнили сделку об отчуждении вещи. После этого судьба права больше не нуждается в изъявлении ими еще одной воли на отчуждение (получение) права. От них, напротив, требуется выполнить то, о чем они договорились и что в связи с этим договором требует закон. Итак, «автоматизм» возникновения права собственности состоит именно в том, что для возникновения этого права не нужно никакого второго, специального волеизъявления, что мы всегда и обнаруживаем при внимательном рассмотрении механизма исполнения договора об отчуждении вещи. Пожалуй, и для первоначального возникновения права собственности эти соображения в значительной мере уместны, хотя автоматизм в них играет менее заметную роль, поскольку речь идет о собственных действиях приобретателя, не сопряженных с обязательствами перед иными лицами по поводу приобретения вещи. В этом смысле, например, односторонняя сделка собственника участка о разделе своего участка реализуется в действиях по разделу, которые приводят к возникновению права собственности на новые участки без необходимости второго изъявления воли на их приобретение <1>. ——————————— <1> Подробнее см.: Скловский К. И. Собственность в гражданском праве. 5-е изд. С. 325 — 341.
Понятно, что освобождение от обязанности влечет не только освобождение от ответственности, но и само собой нередко дает определенные права в силу оговоренных условий: передача арендованной вещи не только освобождает арендодателя от ответственности, но и дает ему право требовать арендной платы и т. п. На самом деле здесь нет никакого умножения целей. Достаточно представить себе гипотезу: вручая вещь арендатору, арендодатель не имеет намерения получать арендную плату (скажем, во избежание списания полученных сумм по долгам) либо вещь вручается приставом, вовсе не имеющим никакого намерения. Но отсутствие намерения никак не скажется на возникновении права. Мы здесь видим тот же самый, уже известный нам «автоматизм», когда обусловленные в договоре действия (и иные факты) влекут свои последствия уже без всякого учета воли участников на эти последствия <1>. ——————————— <1> Описанием этого «автоматизма» можно, например, считать такое: «…когда продавец должен перенести право собственности на покупателя, говоря иначе, когда в отношении данного товара должен состояться переход прав собственности…» (Хаскельберг Б. Л., Ровный В. В. Обязанность продавца — обеспечить юридическую чистоту отчуждаемого имущества и последствия ее неисполнения // Цивилистические записки: Межвуз. сб. научных трудов. Вып. 2. М., 2002. С. 79). Авторы, вовсе не стремясь поставить под сомнение пресловутую обязанность продавца «наделить правом собственности» покупателя, не могут, однако, отступить от действительности, в которой это право все же переходит само, автоматически. Замечание авторов, что обязанность передать вещь и передать право связаны «неразрывно» (Там же. С. 74), — иной способ сказать то же самое: покупатель не выполняет никакого действия по осуществлению своей «обязанности передать право» помимо передачи вещи; тем не менее право собственности переходит.
Говоря проще, однажды выраженной сделкой воли не только совершенно достаточно, но и изменить ее потом уже нельзя. Именно поэтому невозможно, недопустимо и ошибочно в каждом действии по реализации ранее выраженной воли снова и снова требовать ее выражения или подтверждения. Ведь такие представления имеют в своей основе неприемлемое допущение, что сделка может быть односторонне пересмотрена после ее совершения. На самом деле достаточно того, что осуществляется обязательство, возникшее из действительного волеизъявления. Все последствия такого исполнения заранее оговорены, и никакой дополнительной воли на эти последствия требовать недопустимо. Бесспорное рассуждение Эннекцеруса о том, что достаточно выразить волю на «непосредственные последствия сделки», а ко всем прочим — «косвенным» — последствиям затем «приводит правопорядок» <1>, я бы все же уточнил тем, что все возникающие из действий сторон сделки последствия неуклонно создаются правопорядком именно в силу уже выраженной и не подлежащей пересмотру воли, в которой все последствия заранее содержатся <2>. Среди тех постулатов, которые и создают правопорядок, наряду с некоторыми иными (например, запретом лишения лица права помимо его воли), имеется и постулат недопущения изменения воли после совершения сделки. ——————————— <1> Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Т. 1. Полутом 2. М., 1950. С. 110. <2> Выше этот механизм обсуждался применительно к конструкции «автоматизма».
В игнорировании этого вполне очевидного и при том фундаментального механизма и коренится источник ошибки удвоения воли и других подобных ей и вытекающих из нее ошибок. Сделанные выше выводы нам нужны, во-первых, чтобы обнаружить то действие сделки, на которое до сих пор не обращалось внимания, а во-вторых, чтобы тем самым показать суть связи сделки и ее исполнения, а именно то, что для юридического результата исполнения дополнительная воля сторон не нужна и этот результат заранее уже содержится в сделке и поддерживается правопорядком. Некоторых оговорок требует ситуация расторжения договора. Если договор прекращается соглашением, то все ясно. Суть соглашения — отмена первоначальной воли. Именно так она и отменяется: если лицо обязалось, то освободить его от обязанности может только тот, кто получил право на эту обязанность. Несколько сложнее, если договор расторгается односторонним отказом или решением суда. В этом случае обнаруживается воля сторон на случай прекращения договора (если договор предусматривает односторонний отказ, то тем самым, конечно, возрастает практическое значение таких условий). Она может быть прямо выражена в договоре или содержаться в законе. Но даже если в законе имеются определенные правила на случай прекращения договора (скажем, норма п. 2 ст. 782 ГК РФ), они становятся условиями договора, поскольку стороны выбрали этот договор. Тем самым предусмотренные законом последствия расторжения договора также уже заранее содержатся в сделке. В этом смысле следует согласиться с А. В. Егоровым в том, что обязательства, возникающие при прекращении договора, являются в конечном итоге договорными, хотя автор отстаивает этот тезис, как представляется, с излишней категоричностью, вплоть до полного исключения требований о неосновательном обогащении из сферы нормы ст. 453 ГК РФ <1>. ——————————— <1> Егоров А. В. Ликвидационная стадия обязательства // Вестник ВАС РФ. 2011. N 9 — 10.
Кондикционные требования о возврате исполненного имеют субсидиарное действие (п. 3 ст. 1103 ГК РФ). Это, как представляется, проявляется в том, что требование о кондикции может быть заявлено лишь в том случае, если обогащение (сбережение или приобретение) не имело оснований ни в том, как стороны определили содержание сделки, подлежащей исполнению, ни в том, как они договорились о ее расторжении или условились на случай ее расторжения. Говоря о действии сделки, нельзя вместе с тем не увидеть, что сделка, являясь действием, обладая материальностью, тем самым имеет свойства факта, т. е. явления объективной действительности, которое может быть воспринято другими людьми. Это свойство сделки в принципе позволяет использовать ее в качестве того внешнего обстоятельства, с которым можно связать какие-либо юридические последствия, т. е. факта юридического. Следовательно, сделке можно присвоить то значение, которого она на самом деле не имеет, просто пользуясь ее качеством факта. В этом смысле сделка столь же пригодна для механических целей правового регулирования, как истечение срока, рождение ребенка или, скажем, двенадцатый удар курантов <1>. ——————————— <1> Поэтому сделка может служить фактом, знаменующим переход права собственности, при том что для передачи (создания) права собственности требуется состав по крайней мере из двух фактов (в этом проявляется воздействие системы традиции). Тогда договор, выражая волю на отчуждение (это обязательно для купли-продажи), одновременно может выступать и как факт, с которым стороны связали переход права собственности (так называемая французская, или консенсуальная, модель перехода права собственности). Таким образом, здесь сохраняется конструкция состава, необходимого для передачи права собственности.
После того как договор заключен, все действия его участников будут исполнением возникших обязательств. И в этом качестве они могут быть представлены как сделки, прекращающие обязательства, либо как поступки. Во втором случае на первый план выступает реальное качество акта исполнения, его полезность, которой принципиально лишена сделка (об этом говорилось выше). Но если акт исполнения не может быть тем фактом, с которым закон связывает переход права, то закон и должен указать иной способ передачи права. Для этого используется, например, конструкция распорядительных сделок. Распорядительная сделка иногда понимается как чистый акт воли, направленный на передачу права <1>. Кажется, что распорядительная сделка сохраняет лишь то свойство сделки, что она рассматривается как неполезное, невещественное действие. ——————————— <1> Вдаваться в дискуссию об иных вариантах, скажем, в виде прощения долга, мы не будем.
Однако ближайшее рассмотрение показывает, что это не только не невещественное действие, но и вообще не действие. «В любом волевом усилии в той или иной степени присутствует мышечное напряжение» <1>. Иногда такое усилие невелико, как говорил Савиньи, но оно все же есть всегда. Но вот для цели передачи права не обнаруживается ровно никакого мышечного движения. Как говорят те, кто признает соответствующие конструкции, передача права осуществляется сама собой, т. е. без всякого движения, без всякого действия. ——————————— <1> Маклаков А. Г. Общая психология. СПб., 2001. С. 386. (Серия «Учебник нового века».) То же пишут многие авторитетные психологи (обзор точек зрения см.: Ильин Е. П. Указ. соч. С. 137 и сл.). Блаженный Августин замечал, что поскольку движение век находится в нашей воле, то и зрение находится, стало быть, во власти воли.
Если иметь в виду, что сделка — всегда действие, а действия по передаче права не бывает <1>, то приходится признать, что и распорядительная сделка (в том числе и вещный договор, о котором уже говорилось) — фиктивная конструкция. Связь ее с реальностью проявляется лишь в том, что она так или иначе прибавляется (конечно, условно) к какому-либо факту. Этим фактом может быть передача вещи, но может быть и другой факт, избранный в этом качестве актором или законом. ——————————— <1> Ниже мы специально останавливаемся на сделках о передаче права (например, цессии). Они уже затрагивались и выше. Рассматриваемые нами сделки — договоры, поэтому они не могут быть представлены исключительно как действия по передаче права уже хотя бы потому, что создают и иные последствия, в частности устанавливают обязательства, прежде всего денежные. Но и если их взять исключительно как действия, переносящие право, то нужно вновь подчеркнуть, что права не передаются, а устанавливаются. Именно поэтому действий по передаче права не существует.
Заметим, однако, что нигде закон не допустил вариант присвоения одной сделке вида двойной сделки, каждая часть которой порождает свои последствия. В этом недопущении удвоения факта, на мой взгляд, проявляется механика устроения фикции. Трудности обсуждения правил этой механики в немалой степени объясняются значительной ролью интуиции в установлении фикции <1> (отчасти этим можно объяснить и такой замечательный феномен, как убеждение в реальности того или иного фиктивного феномена, присущее многим юристам). ——————————— <1> В тексте закона фикция может быть иногда обнаружена с помощью таких слов, как «считается», «признается», но и это не является универсальным и надежным критерием.
Позволим все же высказать некоторые предположения. Фиктивный феномен не может, видимо, оказаться атрибутом иного, реально существующего юридического факта, его частью, стороной. В качестве фиктивного отбирается вполне самостоятельный феномен — факт (лицо, вещь), отличный от иных фактов: юридическое лицо не может быть прибавлено ни к какому иному лицу, но всегда отлично от всех прочих; фиктивное бытие помещения в нашем законодательстве начинается с того, что оно решительно противопоставляется реально существующему зданию, и т. д. Если это так, то фиктивное действие не может быть одним из свойств реального действия. Если передача вещи существует реально, то она не может иметь иных качеств, которые в ней реально не существуют. Поэтому предположение, что сознательный акт передачи вещи, кроме того, что в нем на самом деле имеется, содержит еще сделку по передаче собственности, вступает в конфликт с той логикой, которую мы можем обнаружить в известных фикциях. Может быть, уместно и то объяснение, что право не в состоянии исказить природу действительного акта (факта). Оно может лишь сконструировать отдельный фиктивный акт по подобию реального. Распорядительная сделка как общая конструкция оправдана лишь удобством и, как любая фикция, должна вводиться законом. Какие же неудобства преодолевает эта фикция? Если оставить механизм передачи права только естественным свойствам сделки, то право будет всецело зависеть от сделки. Но если момент передачи права приурочивается не к сделке, а к другому факту, то укрепляется право, получив независимость от сделки. Отсюда такое свойство распорядительных сделок, как их абстрактность <1>. Вообще говоря, если распорядительная сделка не абстрактна, смысла в этой конструкции, пожалуй, и не имеется. Видимо, именно поэтому рассуждения о распорядительных сделках в российском праве (обычно теория считает их каузальными; чаще всего это обнаруживается в интерпретации традиции) имеют довольно отвлеченный, в том числе от практики, характер. ——————————— <1> См., например, материал из германского права по этим вопросам: Крашенинников Е. А. Основные вопросы уступки требования // Очерки по торговому праву. Вып. 6. Ярославль. 1999; Он же. Содержание субъективного гражданского права // Очерки по торговому праву. Вып. 13. Ярославль, 2006 и др. Нужно все же заметить, что абстрактность, легко получаемая фиктивным актом (сомнительно иное — доступна ли для фикции каузальность), может быть, вероятно, присвоена и акту нефиктивному, но тем же образом, каким утверждается фикция, т. е. прямым указанием закона, нормой права.
Обсуждая механизм распорядительных сделок, мы должны перейти к другому обстоятельству. Такая сделка сама собой переносит право. Но мы уже могли видеть, что обязательства по передаче права не бывает. Из этого мы можем заключить, что если конструкция распорядительной сделки используется для интерпретации исполнения обязательства, то мы снова получаем фигуру удвоения, сигнализирующую не только об отклонении от действительности, но и о нарушении сложившихся приемов установления фикции. И на самом деле, как мы видели, достаточно того, что воля на отчуждение права выражена; помимо этого специальных волевых актов, вновь подтверждающих данное намерение, для передачи права не нужно, а точнее, их не может быть. Если при этом иметь в виду, что действие по передаче права в принципе невозможно, то мы приходим к неизбежному выводу, что договора об отчуждении права достаточно для перехода права, поскольку право не связано в обороте с вещью (как связано прежде всего право собственности). В этом случае сделка сама служит тем фактом, который рассматривается правопорядком как основание перехода права. Например, в силу п. 4 ст. 1234 ГК РФ моментом перехода исключительного права является момент заключения договора о распоряжении этим правом, если иное не предусмотрено договором и не требуется государственной регистрации <1>. ——————————— <1> См.: Павлова Е. А. Указ. соч. С. 65.
Если при этом мы представим, что договор создает обязательство, которое сразу же и исполняется, то исполнение придется примысливать к договору (в отличие от реального договора, в котором все же есть действительное действие по передаче вещи, есть и кауза этой передачи, созданная договором). Такая фикция оправдана, только если передаче права мы придадим свойства абстрактности и тем самым укрепим положение получателя прав и оборота в целом. Точно так же следует расценивать и договор о передаче права требования (цессии). Здесь, так же как и во всех случаях, когда предметом сделки является право само по себе (включая и договор купли-продажи имущественных прав (п. 4 ст. 454 ГК РФ)), достаточно одного договора для передачи права. Для удобства момент перехода права может быть увязан с любым фактом: моментом платежа, истечением срока и т. п. Для этого также достаточно сделать оговорку в договоре. При отсутствии специальной оговорки фактом, к которому приурочен переход права, является сам договор купли-продажи права требования (или иной подобный ему), как это уже было показано выше. Дополнительных действий для передачи права совершать не нужно (и невозможно) в любом случае. Выше говорилось, что для передачи права собственности необходим юридический состав не менее чем из двух фактов. Для передачи права требования, исключительного права и тому подобных объектов, напротив, достаточно одного договора (который служит основанием передачи права по умолчанию), однако стороны могут своей волей предусмотреть специальный дополнительный факт (например, факт платежа), знаменующий передачу права. Но никак нельзя увязать переход права с действием по передаче права (в том числе с действием по исполнению такого обязательства). Такое условие на самом деле удвоит соглашение, а практически заведет его в тупик, сделав неисполнимым. Если право подлежит госрегистрации, то основанием регистрации будут те факты, о которых только что сказано, в том числе и только договор, если никаких иных фактов, с которыми увязан переход права, не указывает договор или закон. Повторим, что никакого обязательства по передаче права, равно как и никакого действия по передаче права, не существует, и его конструирование возможно только в виде фикции. Сразу замечу, что такая фикция в виде абстрактной сделки цессии (распорядительной сделки) весьма и весьма желательна. Она сама собой прекратит разрушительную практику оспаривания договоров об отчуждении прав по различным основаниям, имеющим отношение не к действительности уступленного права, а к иным отношениям цедента и цессионария. Сам факт, что преобладающие у нас (чаще всего, впрочем, не подвергшиеся рефлексии) представления о существовании двух актов: договора купли-продажи прав и затем акта о его передаче (цессии) — нисколько не препятствуют массовой практике оспаривания сделок по уступке права именно как сделок каузальных, лишний раз говорит о том, что если фикция намеренно не учреждена законом, то блуждание юристов в конструкциях, бессознательно позаимствованных в иных правовых системах, никакой пользы не приносит. Когда мы обсуждали изложенное выше с А. М. Ширвиндтом, он высказался в том духе, что если идея об известном подчинении механизмов недействительности сделки и реституции конъюнктуре, видимо, приемлема, то для отбрасывания принципа разделения (не абстрактности — этот принцип не вышел за германские пределы) нужны дополнительные основания ввиду его универсальности. Если понимать под универсальностью проникновение идеи разделения из германской во французскую литературу, то я, пожалуй, считал бы этот пример скорее говорящим против идеи разделения ввиду случайности и, как мне кажется, неубедительности предельно условного помещения французскими цивилистами исполнения обязательства dare в сам договор купли-продажи без всякого, конечно, действия по исполнению этого обязательства. Да и сама идея разделения принципиально мной не отрицается — отрицается только, как недопустимое, удвоение воли, когда и если к нему сводят принцип разделения. Выше было показано, что разделение действия купли-продажи на вещный и обязательственный эффекты не требует вторичного выражения воли сторон на отчуждение для создания вещных последствий. А там, где эта воля конструируется, она либо выступает как фикция, либо как акт, имитирующий сделку (примером могут служить соответствующие факты из германского правопорядка), восходящий все равно к фикции, о которой просто не думают юристы <1> (можно, стало быть, говорить о «театрализации фикции»). Что касается самого использования фикции, то в известных пределах и при сознательном отношении к нему, как уже говорилось, этот прием оправдан и уместен. ——————————— <1> Применительно к нашему праву такую иллюстративную функцию могли бы играть и иногда играют различные заявления о «подтверждении» (но ни в коем случае не об отказе) воли на отчуждение на стадии передачи объекта, скажем, выраженные в акте приема-передачи. Имеется и неверная тенденция (о ней мы здесь тоже говорим) придать значение повторного волеизъявления об отчуждении, скажем, заявлению о регистрации вещного права, хотя это заявление актом распоряжения частным правом не является и являться не может. Соответственно, не содержит оно и волеизъявления на отчуждение.
Но замечание А. М. Ширвиндта уводит глубже. Идея разделения вытекает из того, что купля-продажа сама по себе может только передавать владение, и обязательственная сила продажи — только в передаче владения. В то же время право собственности присваивается покупателю не действиями стороны, а силой правопорядка. Д. В. Дождев обозначал это как развитие купли-продажи и собственности в разных плоскостях <1> (хотя он склонен мою интерпретацию его высказывания принимать с оговорками). ——————————— <1> Дождев Д. В. Основание защиты владения в римском праве. М., 1996. С. 110.
Правопорядок, право в целом, проявляет свое отношение к сделке об отчуждении прежде всего в двух формах: во-первых, виды договоров об отчуждении вещи ограничены законом (п. 2 ст. 218 ГК РФ), и эти договоры не могут быть непоименованными, а во-вторых, установленная законом типизация договоров не оставляет сторонам возможности избежать впечатанное прямо в договор об отчуждении вещное действие сделки, которое сторонам не дозволено менять каким угодно образом. Стороны вправе лишь указать на тот или иной факт как момент перехода права — никак иначе их воля на вещный эффект влиять не может. Воля на отчуждение (приобретение) при этом выражена сторонами уже самим выбором указанного законом для этих целей договора (купли-продажи и др.). Соответственно, идея удвоения, пожалуй, сводится к тому, что действие этих двух разных по своей природе сил: воли продавца на передачу владения и силы закона, присваивающего эффект перехода права собственности исполненному договору <1> об отчуждении вещи помимо воли сторон, — юристы пытаются объяснить исключительно из самого договора, только из воли его участников, предполагая единую природу действующих сил. А на самом деле их природа различна. ——————————— <1> Известные исключения могут быть объяснены все же в конечном итоге как вариант накопления состава, как это здесь было показано (прежде всего когда договор выступает в виде двух фактов: сделки об отчуждении и факта (момента) перехода права собственности). Однако определенная неочевидность этого рассуждения в отдельных случаях служит еще одним обстоятельством, затрудняющим восприятие предложенного нами объяснения.
Но, поскольку действуют две силы, они не могут не обнаружить себя именно как две силы. Одним из таких проявлений (при различной оценке его адекватности) как раз и выступает принцип разделения действия договора отчуждения на вещный и обязательственный эффекты.
Продажа чужого
Имеется немало актуальных проблем, в центре которых находится то или иное понимание сделки, ее роли в механизме перехода (точнее, установления) прав. Среди них последнее время наиболее острым был вопрос о последствиях продажи чужой вещи. Наше право основано, как известно, на запрете продажи чужой вещи. Такой запрет имеет неправовое происхождение, как, видимо, и все запреты (заповеди). Отменить или упразднить их средствами юридической техники и (или) исходя из задач правовой политики, стало быть, невозможно. Можно заметить также то, что основные запреты включают в себя и нравственные предписания и попытки отказа от них грозят утратой правом признания со стороны общества. Итак, если договор об отчуждении совершен не собственником (или иным лицом, управомоченным на отчуждение вещи), он ipso iure становится недействительным. Суть запрета на продажу чужого неизбежно влечет противоправность волеизъявления об отчуждении (продаже) чужой вещи. А такое волеизъявление, как было показано выше, совершается только один раз — в момент заключения договора о продаже. Повторные изъявления воли на отчуждение вещи, как уже говорилось, не только не совершаются на самом деле, но и принципиально невозможны. Хорошо известно, что стабильность гражданского оборота, которая вовсе не является продуктом тех базовых заповедей, о которых говорилось выше, находится в более или менее глубоком конфликте с принципом верховенства воли собственника, необходимой для отчуждения вещи. Средством смягчения этого конфликта является защита добросовестного приобретателя, т. е. лица, незаконно получившего имущество по недействительной сделке. В самом центре добросовестности содержится недействительная сделка по продаже чужого, иными словами, все существующие конструкции добросовестности построены именно на запрете продажи чужого. Поэтому нужно признать неглубокими и ошибочными мнения (увы, довольно расхожие), что защита добросовестного приобретателя якобы упраздняет запрет продажи чужого. Напротив, интенсивное развитие средств защиты добросовестного приобретателя, накопившее с 2005 г. весьма большой арсенал, запрещает не только исходя из фундаментальных соображений, но попросту с позиций текущего правоприменения пересмотр запрета на продажу чужого, вместе с которым отпадет не только недействительность сделки по продаже чужого, но весь этот арсенал. Между тем накопление средств защиты добросовестности привело наше право к вопросу, который находится вне этого механизма, — к ответственности за эвикцию. Дело в том, что норма ст. 461 ГК РФ, по существу, парализована. (Известно, впрочем, что механизм эвикции, сложившийся в римском праве, затем оказался усеченным и утратившим в немалой мере свое действие, в том числе и в германском праве.) С одной стороны, продавец чужой вещи должен возместить покупателю убытки после отсуждения у того вещи (как предполагается, по виндикации). С другой стороны, купля-продажа чужой вещи недействительна, а недействительная сделка исключает ответственность (ст. 167 ГК РФ). В то же время ответственность за эвикцию крайне необходима практически: она может стать серьезным средством оздоровления оборота. Ведь если это обязательство будет действительным, оно может быть, как и любое обязательство, предметом обеспечения — поручительством, залогом и т. п. Купля-продажа «отравленных» объектов, к которым сегодня относятся, скажем, такие важные активы, как земельные участки, перестанет отпугивать наиболее цивилизованных и наиболее нужных нашей экономике инвесторов. Станет возможным вовлечение некриминального банковского капитала и т. д. и т. п. В этом вопросе есть консенсус, который закреплен в п. 43 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. N 10/22 (далее — Постановление N 10/22). Следующая проблема: как положения п. 43 Постановления N 10/22 будет реализованы практически, как эти положения понимаются? Замечу, что п. 43 Постановления N 10/22 удивительным образом ограничился воспроизведением нормы ст. 461 ГК РФ, к которой не добавлено ничего иного, никакого толкования или разъяснения, что само по себе указывает, безусловно, не столько на его уникальность, сколько на трудность и конфликтность вопроса. Приведу некоторые из известных объяснений (суть полемики уже затрагивалась выше). Во-первых, считается, что купля-продажа чужого действительна, потому что это «еще не отчуждение, а только обязательство». Отчуждение, согласно этим взглядам, должно произойти потом, в процессе исполнения обязательства о передаче права, а если продавец передает чужое, то он якобы отвечает за невозможность исполнения. Между тем мы могли видеть, что никакого второго отчуждения в купле-продаже не существует в принципе, что этот взгляд вступает в недопустимое противоречие с тем, что однажды выраженная в сделке воля не может быть пересмотрена, не может повторяться и подтверждаться. Выше было также показано, что в принципе не существует и обязательства по передаче права: если права передаются (на самом деле — устанавливаются), то это происходит в самом договоре о передаче права, без возникновения обязательства. Нет и никакого действия по передаче права, отличного от договора о его передаче. Следовательно, не существует и самой ситуации ответственности за невозможность исполнения обязательства по передаче права. Если право не получено покупателем, то договор просто признается недействительным, что исключает всякую ответственность (ст. 167 ГК РФ). В то же время покупатель чужой вещи не вправе требовать возмещения убытков от продавца за непередачу права с одновременным оставлением вещи себе (а ведь именно так должна была бы выглядеть ответственность за невозможность исполнения). Если же вещь возвращается, это реституция, следующая за аннулированием сделки. Ответственность по ст. 461 ГК РФ — это ответственность не за невозможность исполнения, а за исполненное обязательство и только на случай отсуждения вещи у покупателя. Если вещь не отсужена, не отобрана, хотя бы обнаружилось, что она чужая, т. е. ее собственником является третье лицо, норма ст. 461 ГК РФ неприменима. Стало быть, убеждение в действительности продажи чужой вещи может существовать лишь до тех пор, пока его сторонник не найдет время додумать до конца свою идею, чтобы увидеть ее невозможность. Во-вторых, чтобы обойти эти очевидные противоречия, говорят, что продажа чужого якобы регулируется правилами п. 2 ст. 455 ГК РФ о продаже будущей вещи. И это не так. Чужая вещь продается всегда как наличная, а не как будущая. Впрочем, с принятием Постановления Пленума ВАС РФ от 11 июля 2011 г. N 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем», которое ясно противопоставляет продажу чужой и продажу будущей вещи <1>, эти взгляды, видимо, уйдут в прошлое. ——————————— <1> См. подробнее: Скловский К. И. Комментарий к Постановлению Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 N 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем» // Закон. 2012. N 3. С. 90.
Кроме того, в этом случае неприменимо правило ст. 461 ГК РФ, которое увязывается непременно с неосведомленностью покупателя о принадлежности продаваемой вещи третьему лицу. Однако если содержанием договора является соглашение сторон о том, что вещь в момент продажи не принадлежит продавцу, но будет им приобретена впоследствии (п. 2 ст. 455 ГК РФ), то покупатель не может затем возложить ответственность за эвикцию на продавца, так как ему заранее известно о том, что купленная вещь не принадлежит продавцу. В-третьих, те цивилисты, которые нашли время убедиться в неверности идеи о действительности продажи чужого, иногда находят выход в утверждении о существовании в нашем законодательстве германской конструкции вещного договора. Возразить против этого нечего, кроме того, что ГК РФ и ГГУ — это разные законы, имеющие много различий, и прежде всего в части приобретения права собственности. Достаточно сравнить § 929 ГГУ и ст. 218 и 223 ГК РФ. В-четвертых, большинство цивилистов в согласии с традицией российского права стоят на недействительности продажи чужого. Но тогда содержание п. 43 Постановления N 10/22 будет восприниматься как новое правило, суть которого не очень понятна. Фактически п. 43 Постановления N 10/22 отличается от нормы ст. 461 ГК РФ уточнениями, которые уже содержатся в гипотезе ст. 461 ГК РФ, — ведь, как правило, именно чужая вещь и может быть отобрана у покупателя по виндикации. В то же время в постановлении суда, толкующего и разъясняющего закон, не могут просто воспроизводиться существующие нормы закона. Кажется, что все же только для указания на новизну правила Постановление N 10/22 добавляет не только упоминание чужой вещи, что само по себе и без того очевидно, но и указание на то, что вещь отсужена у покупателя по виндикации, что также, конечно, очевидно. Тем не менее появление данных уточнений само по себе лишает нас, видимо, оснований считать это простым повторением известной нормы закона. Значит, речь идет о другом. Речь идет, надо полагать, о том, что продавец чужой вещи лишается возможности сослаться на недействительность продажи и обязан в любом случае возместить покупателю убытки, если вещь у того отобрана по основаниям, возникшим до продажи. Нужно исходить из того, что для установления этого правила нет нужды отказываться от принципиального запрета продажи чужой вещи. Напротив, если мы устраним запрет на продажу чужого, то разрушится виндикационный иск, как он изложен в ст. 301 — 302 ГК РФ, при том что именно такой иск, как уже говорилось, заложен и в гипотезу ст. 461 ГК РФ. Следовательно, для сохранения сложившейся системы защиты права достаточно наряду с традиционным запретом на продажу чужого ввести отдельную ответственность за одно только заявление о том, что продаваемая вещь принадлежит продавцу, и сохранить действие этой ответственности при недействительности продажи. Выше уже говорилось, что последствия такого, сравнительно несложного и в высшей степени справедливого механизма (ибо кто может усомниться в справедливости ответственности за ложность заявления о принадлежности вещи продавцу?) могут иметь громадное оздоровляющее воздействие на оборот имущества. По моему мнению, эффект будет сопоставим или даже превосходить все иные имеющиеся паллиативы (в том числе правило п. 2 ст. 223 ГК РФ с его широкими толкованиями) в этой части. С точки зрения юридической техники выход видится на пути отделения ответственности за эвикцию от судьбы самой продажи, т. е. придания ответственности за эвикцию качеств абстрактности, независимости от (не) действительности договора. В этом случае сохраняется без потрясений система нашего права, основанная на вполне справедливом запрете продажи чужого, сохраняются также и все созданные в последние годы механизмы по защите добросовестного приобретения имущества. Преимущества этого решения видятся не только в том, что оно сохраняет сложившуюся систему ГК РФ, но и в том, что предлагаемая абстрактная конструкция вводится сознательно, а не путем искажения и перетолковывания закона. Ответственность за эвикцию в этом смысле возникает не потому, что действительна продажа чужого, а потому, что мы вводим условную фигуру разъединения ответственности за эвикцию и договора купли-продажи вещи, делая одну сделку (по установлению ответственности на случай эвикции) независимой от другой. Как представляется, содержащееся в каждой продаже явно или подразумеваемым образом заявление о том, что вещь принадлежит продавцу, никому не заложена и т. д., приобретает значение самостоятельного обещания, за нарушение которого продавец несет самостоятельную ответственность, даже если продажа в целом и оказалась ничтожной. В формальном смысле этот механизм может быть сопоставлен с третейским соглашением, сохраняющим силу независимо от действительности того договора, в который оно включено. Само по себе обещание, видимо, не фиктивно, ведь оно есть на самом деле, причем оно всегда заложено в продаже, имплицитно в ней содержится, как говорит Р. Циммерман, хотя состоявшееся решение имеет с фикцией то общее, что, вопреки этой имплицитности, обещанию придается значение отдельного факта, порождающего отдельную от судьбы сделки ответственность. Заявление о продаже своей вещи не создает обязательство, а лишь устанавливает ответственность, сближаясь в этом отношении с гарантией (удобство которой также и в том, что она не связана с виной). Несомненно, искусственный элемент здесь — абстрактность, отрыв от судьбы продажи в целом. Именно для этого необходимо создание специальной нормы. В практическом плане — а п. 43 Постановления пока, насколько известно, не стал еще широко практикуемым инструментом, — впрочем, суду совсем не нужно выбирать одну из приведенных выше теорий, независимо от того, на какую из них ссылаются стороны. Суду достаточно установить, что продавец продал чужую вещь. И этого одного достаточно для взыскания убытков. В плане теоретическом мы получили наконец решение, которое прямо противопоставлено тому, что договор купли-продажи является одной сделкой, одним фактом, решение, в котором этот факт искусственно представляется как два факта с разными последствиями и разной судьбой. Это решение восходит к конструкциям абстрактности и отчасти к фикции. Мы теперь можем перейти к установлению сходного абстрактного механизма и в сфере цессии, отказавшись от бессмысленных и бесплодных усилий по ее подчинению германскому праву либо столь же малоуспешных попыток найти в этой сфере те факты, которых там нет.
Пределы реституции
Другая сторона существования сделок связана с последствиями их недействительности, поскольку именно возможность лишения сделок их юридического эффекта — та их особенность, на которую прежде всего обращают внимание и которая иногда представляется самой важной. На мой взгляд, феномен сделки сам по себе таит немало содержания и неясных моментов (об этом говорится выше). Но, кажется, это содержание принимается обычно без обсуждения: многое просто не замечается или принимается без критики (о чем также мы пытались говорить). В то же время постоянно возникающие дискуссии о различных вариантах недействительности сделки, изменения закона в этой части заставляют предположить, что как раз данная область подвержена изменениям, что ей присуща известная самостоятельность и что, тем самым, недействительность сделки, в отличие от самой сделки, суть которой, конечно, неизменна, не составляет ее автоматического следствия, что это скорее реакция данного правопорядка на сделку, что, стало быть, сделка первична по отношению к данному праву. Впрочем, об этом мы тоже уже говорили. Исходя из известной изменчивости механизма, устанавливающего основания недействительности сделки, конкретные формы последствий ее недействительности, я бы считал полезным дать некоторую общую оценку соотношения действия сделки и ее последствий, а тем самым и последствий ее недействительности в рамках действующего в России правопорядка. Может быть, начать следовало бы с оценки Постановления N 10/22, поскольку оно закрепило существенные изменения правопорядка, произошедшие за последние полтора десятилетия. Нетрудно заметить, что Постановление N 10/22 не только развило и детализировало нормы Кодекса применительно к конкретным ситуациям, что и полагается ему по жанру, но и создало ряд новых конструкций, особенным свойством которых является то, что они рождены под сильнейшим давлением судебной практики и имеют в значительной мере эмпирическое происхождение. Прежде всего я бы отметил целую серию новых исков (в том числе и запретов на иски), что не может не напоминать известную из истории права систему исков при всех очевидных, конечно, отличиях. Скажем, появились иски владельца для давности об истребовании вещи <1> и устранении нарушений владения (п. 17 Постановления N 10/22). Едва ли могут быть сомнения, что владелец для давности в силу предписаний п. 17 располагает также и исками об исключении имущества из описи (освобождении от ареста), и иском о признании (предметом признания, видимо, является владение для давности, тем более что оно теперь стало более защищенной и прочной позицией). ——————————— <1> В результате не исключена ситуация, когда каждая из сторон виндикационного иска ссылается на добросовестное приобретение спорной вещи, что, кажется, является беспрецедентным в истории права решением.
Возникли иски об отсутствии права, допустимые в строго определенных фактических обстоятельствах (что и напоминает нам систему исков), исключающих возникновение ситуации, когда вещь утрачивает всякую принадлежность. При иных предполагаемых фактических обстоятельствах исключен иск о признании права собственности. Хотя суд обязан принять всякий иск, даже вступающий в противоречие с установленными Постановлением N 10/22 комбинациями фактов, в чем проявляется общее предписание ст. 11 ГК РФ (и что оказывается формальным поводом отрицать возникновение у нас системы исков), решение суда оказывается все же предопределенным соответствующими формулами, если они будут обнаружены либо опровергнуты. Главное же состоит в том, что те способы защиты права, которые предусмотрены законом, сразу существенно расширились, причем не дополнением перечня ст. 12 ГК РФ, но именно, в отличие от нормы ст. 12 ГК РФ, указанием на определенные сочетания фактов, дающим право (отбирающим право) на определенный иск, как указанный в законе, так и вновь сконструированный. Появились, можно сказать, наряду с общими способами защиты и специальные, и суть их соотношения, естественно, в том, что при наличии специального средства общее становится неприменимым. Отвлекаясь от этого довольно увлекательного сюжета, я бы все же вернулся к более общей теме взаимодействия права и практики его применения и некоторым результатам этого процесса. Обширная дискуссия о соотношении реституции и виндикации, завершившаяся определенным и понятным выводом, поучительна не только в том смысле, что дискуссии могут завершаться с пользой, но и демонстрацией тех преобразований, тех не всегда предсказуемых метаморфоз, которые обретает юридический механизм в жизни, в практике применения. Дело в том, что текст § 2 гл. 9 ГК РФ, особенно ст. 166 и 167, нормы которых и были в центре дискуссии, на мой взгляд, отнюдь не имел врожденных пороков, которые стали причиной недоразумений. Более того, текст отличался той глубиной и последовательностью, которые при корректном толковании вообще не могли приводить к противоречиям, прежде всего к тому использованию реституции для параллельной вещной защиты в обход виндикации, которое и стало поводом для возникновения одного из наиболее серьезных кризисов в становлении ГК РФ <1>. ——————————— <1> Можно указать, например, и резко ограничительное толкование цессии в конце 1990-х гг., что также не имело почвы в тексте закона.
В этом смысле текст проекта ГК РФ, в котором настойчиво проводится совершенно правильная идея об ограничительном действии реституции и шире — об ограничении практики аннулирования незаконных сделок, на мой взгляд, уступает с точки зрения юридической техники прежнему тексту, поскольку, в частности, он не смог избежать повторений <1>, которые неизбежно будут приводить к частным противоречиям. Но эти повторения, кое-где доходящие до дидактичности, вообще закону не присущей, — реакция авторов на тенденции практики. ——————————— <1> Любое тождество, введенное в закон, правоприменение превращает в нетождество, а тем самым в противоречие.
Между тем практика без всякой рефлексии (впрочем, рефлексия — дело науки) полагала, что незаконность сделки сама собой дает возможность любого вмешательства, которое заведомо не может быть ничем ограничено. Незаконность здесь толковалась (и толкуется, пожалуй, до сих пор) как факт, исключающий обсуждение пределов судебного вмешательства. При этом не обращается внимания на то, что законность вообще не принадлежит к основным началам гражданского законодательства (ст. 1 ГК РФ). Сложившаяся еще в советском гражданском праве широко распространенная концепция незаконной сделки как правонарушения в известной мере поддерживает упомянутые выше представления практики. Между тем, коль скоро обе стороны сделки предполагаются правонарушителями, то предоставление защиты истцу (либо стороне сделки по иску третьего лица) вступает в неразрешимое противоречие с самой идеей реакции на правонарушение в частном праве: получается, что правонарушение преследуется путем защиты виновного правонарушителя <1>. Тем самым концепция быстро приходит в логический тупик, который никого не интересовал, пока не обнаружились разрушительные последствия этого подхода для гражданского оборота. ——————————— <1> При этом норма ст. 167 ГК РФ не допускает взыскания убытков и безразлична к вине и доброй совести сторон недействительной сделки, отрицая, следовательно, главные качества деликта.
Остается приемлемым (и верным) иной подход: недействительность сделки — это частный конфликт, разрешаемый по общим правилам с исключениями, указанными в самом законе. Среди них — защита не только права, но и интереса (последнее обстоятельство обнаружило свою точность: поскольку недействительная сделка не приводит к возникновению, изменению, прекращению права, то объектом защиты неизбежно становится не право — оно недействительной сделкой не может быть затронуто, — а интерес). Другое следствие того, что защищается не право, — наличие публичного элемента: поскольку защищается не право, защита приобретает внешний, объективный характер, когда защищаются не частные права, а сложившийся вовне порядок как общая ценность, что нам известно, например, из механизма владельческой защиты, также исключающей спор о праве. В этом плане суд, в частности, взыскивает полученное не только с ответчика, но и с истца, несмотря на отсутствие иска о реституции другой стороны спора. Публичный элемент в некоторой степени проявляется и в праве суда применить последствия ничтожной сделки по собственной инициативе. Нужно заметить, впрочем, что на практике суды крайне неохотно прибегают к этому своему полномочию, верно ощущая суть отношений в этой части. Вытекающая из оценки спора о недействительности сделки как частного спора, судьба которого предопределяется, во-первых, волей истца, а во-вторых, — и это, пожалуй, еще важнее — объективной возможностью реституции (отсутствующей в громадном числе случаев к моменту предъявления иска), картина гражданского оборота, в составе которого значительную часть составляют недействительные сделки, и является тем познавательным результатом, который должен наконец стать фактом юридического сознания. Фактом юридической и экономической действительности эта картина являлась всегда: коль скоро недействительная сделка не нарушила частных прав и интересов (либо это нарушение объективно неустранимо), она поглощается и усваивается оборотом точно так же, как и действительная. Из признания этого положения вытекает необходимость пересмотреть место реституции (для краткости так обозначим механизм аннулирования сделки судом, включая все варианты специальных последствий недействительности сделки) в системе нашего права. Ведущей идеей здесь может быть лишь уже обозначенная и подтвержденная теоретически и — главное — практически идея ограничения реституции. Как уже говорилось выше, текст ГК РФ сам по себе не дает оснований для расширительного, временами доходящего до тотальной экспансии и сокрушения оборота толкования реституции, идущего от подверженной «полицейскому сознанию» практики. Стало быть, эта идея направлена не столько на изменение закона (который, скорее всего, может быть именно изменен, но не улучшен), сколько против совокупного действия нескольких процессов как идеологического, так и практического (в некотором смысле — естественного, или, точнее, стихийного) характера, которые как раз и обнаружились довольно явственно в сфере реституции, играющей, пожалуй, для дальнейших исследований особенностей отечественного правосознания ту же роль, которую играли горох или дрозофилы для генетиков. В этом пункте вернемся к обсуждению действия сделок. Я не буду затрагивать здесь вопрос соотношения поступка и сделки, которые равно являются действиями целенаправленными, при любых неясностях в понимании цели приводящий к размыванию границ между ними. Одним из приемлемых критериев я бы считал такой, как принципиальная неутилитарность (материальная неполезность) сделки (при утилитарности поступка), о чем говорилось выше. Представляя, далее, что мы понимаем под сделкой именно сделку, определим теперь ее действие, состоящее, как известно, в том, что сделка порождает, изменяет или прекращает гражданские права и обязанности. Несомненно, на первом месте среди эффектов, создаваемых сделкой, стоит обязательство. Именно оно создается, изменяется, прекращается сделкой. Но наряду с созданием (изменением, прекращением) обязательств сделка имеет иные варианты действия, которые, видимо, можно разделить на две группы. В первую я бы отнес передачу права. Имеются в виду, например, передача права требования, исключительного права, права на долю в праве общей собственности <1>. ——————————— <1> Передача права собственности одной сделкой об отчуждении имущества при этом не осуществляется. По отношению к праву собственности договор купли-продажи достигает только «промежуточного правового результата» (Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. / Отв. ред. Е. А. Суханов. Т. I. М., 2010. С. 342 (автор главы — В. С. Ем)). Установление права собственности у стороны договора об отчуждении имущества или некоторых иных договоров с вещным эффектом (например, подряда, простого товарищества (в части создания общего имущества)) происходит наряду с исполнением обязательства, причем от воли сторон обязательства не зависит сам вещный эффект (что позволяет говорить о его автоматизме; это понятие обсуждалось выше).
Выше уже было показано, что ни обязательства по передаче права (в том числе наделения правом, обеспечения возникновения права и т. п.), ни специального действия по передаче права (распоряжения правом) не существует. Можно говорить лишь о сделке, «по которой» передается право. Эта сделка и есть акт распоряжения правом. С точки зрения существа действия сделка по передаче права не отличается от сделки по установлению права, которого ранее ни у кого не было (передача права, повторимся, — это всего лишь метафора: права всегда устанавливаются (прекращаются)). Так, одной воли достаточно для установления сервитута, ипотеки и т. п. Здесь также не возникает обязательства по созданию (передаче) права. Это сходство, а пожалуй, и тождество, значительно упрощает картину и избавляет от необходимости сложных классификаций, которые, впрочем, обычно завершают разработку явления, тогда как мы имеем дело, скорее, с его распознаванием <1>. ——————————— <1> Из попытки классификации сделок за пределами сделок, создающих обязательства (движение правоотношения), предпринятой М. А. Рожковой (Рожкова М. А. Ординарные сделки и сделки, направленные на защиту прав // Сделки: проблемы теории и практики: Сб. ст. / Под ред. М. А. Рожковой) видно, пожалуй, что время для такой классификации еще не наступило. В германском праве, особенно применительно к односторонним сделкам, вопрос проработан достаточно подробно.
Следовательно, можно говорить просто о сделке, направленной на передачу (создание) права без возникновения соответствующего обязательства. Такие сделки имеют общую природу с прочими и одинаковы с точки зрения последствий их недействительности. На самом деле особенности этих сделок важны не только с точки зрения их недействительности. Важно понимать их действие и в рамках правопреемства (в частности, не возникает конструкция преемства в обязательстве), и в рамках не очень пока точно понимаемых аспектов соотношения обязательства и договора — когда договор стремятся понимать не иначе как форму, в которую всегда помещено одно или несколько текущих актуальных обязательств, тогда как весьма часто договор в данный момент времени никак не связывает обязательствами стороны (либо по крайней мере одну из них), но служит условием возникновения такого обязательства при наличии определенных в договоре (законе) фактов. Тогда состояние в договоре означает подчиненность этой возможности будущего обязательства, а его расторжение будет означать не освобождение от обязательства, а освобождение от возможности возникновения обязательства в будущем. Поэтому, кстати говоря, расторжение договора само по себе нетождественно прекращению обязательства (и во всяком случае расторжение договора всегда включает в себя больше, чем только освобождение от наличного обязательства, по крайней мере условия такого освобождения) или, что еще более характерно, среди оснований прекращения обязательств отсутствует такое, казалось бы, естественное, как соглашение сторон, тогда как именно сделка (в том числе факт, указанный в сделке) — имманентный способ не только возникновения, но и прекращения договора <1>. ——————————— <1> По этой причине формулировка п. 4 ст. 1235 ГК РФ о прекращении лицензионного договора в силу факта, отличного от сделки (в том числе предусмотренного сделкой), вызывает сомнения в части ее соответствия общим нормам гл. 29 ГК РФ и уже вызвала серьезные практические коллизии, для устранения которых приходится, например, использовать такую конструкцию, как «восстановление договора» (которое нужно отличать от возобновления (пролонгации) договора на новый срок: «восстановление» договора мыслится в его первоначальных рамках). Между тем закон не считает прекратившимся в аналогичной ситуации договор залога в случае гибели вещи (пока сохраняется возможность замены предмета залога).
Иным следствием из того факта, что наличие договора не указывает непременно на наличие в любой момент обязательства, является тот, что обязательность договора (п. 1 ст. 425 ГК РФ) отнюдь не означает существования обязательства, как это иногда говорят <1>. ——————————— <1> Ряд аспектов соотношения договора и обязательства рассматривается А. В. Егоровым: Егоров А. В. Многозначность понятия обязательства: практический аспект // Вестник ВАС РФ. 2011. N 4. Во многом соглашаясь с автором, я бы все же заметил, что используемые им понятия обязательства в широком и узком смысле не кажутся легко применимыми, поскольку ГК РФ оперирует только одним понятием обязательства. Во всяком случае в соотношении с договором обязательства (всегда во множественном числе) — это то, что создается и прекращается единственным договором (ст. 420, 453 ГК РФ). А обязательство в широком смысле (употребляется автором в единственном числе) трудно отличить от договора, и во всяком случае такое различение доступно далеко не всем практикам и не всем судам. Некоторые германские авторы, на которых ссылается А. В. Егоров, говорят, например, об «обязательственном организме». Даже если это поэтическое определение подвергнуть прозаической обработке, все равно вполне понятно, что его помещение в ГК РФ и в практику весьма сомнительно.
Действие (обязательность) договора состоит, как уже сказано, только в том, что при указанных в нем фактах (в том числе при истечении сроков) возникают, прекращаются, изменяются права и обязанности, прежде всего, конечно, обязательства, но также и иные. Одним из фактов может быть сам договор, и в этом случае обязательство (иное право) возникнет вместе с договором, но это частный, хотя и самый распространенный случай. А как только договор прекращен, эти же факты уже не повлекут для сторон тех последствий, которые им создавались. В то же время формулировка п. 2 ст. 453 ГК РФ о том, что при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, означает лишь то, что все наличные обязательства <1> прекратились вместе с договором, независимо от того, сказано ли об этом в соглашении или решении суда. Но норма п. 2 ст. 453 ГК РФ никак не означает, конечно, ни того, что в течение всего действия договора всегда имеются наличные, актуальные обязательства, ни того, что расторгнут может быть лишь такой договор, в котором в момент расторжения возникло и не прекратилось хотя бы одно обязательство. ——————————— <1> Будущие или возможные (при условиях, отличных от истечения срока) обязательства не могут прекратиться, потому что они не возникли и уже не возникнут. В то же время прекращение имеющихся (а это, как правило, просроченные, неисполненные, т. е. нарушенные, обязательства) должно по общему правилу влечь убытки, поскольку договор расторгнут судом вследствие существенного нарушения (п. 2 ст. 450, п. 5 ст. 453 ГК РФ). Если же договор расторгнут соглашением сторон (п. 3 — 4 ст. 453 ГК РФ), то последствия неисполнения тем самым стали предметом соглашения, и требование об убытках отпадает. Для случаев расторжения договора соглашением п. 2 ст. 453 ГК РФ действует в том смысле, что, поскольку стороны не договорились об ином, все имевшиеся обязательства, в том числе нарушенные, прекратились. Можно, видимо, сформулировать и другие презумпции; если существовали обязательства, исполняемые с прекращением договора (например, возврат арендованной вещи), то они будут считаться возникшими по умолчанию, хотя едва ли можно себе представить соглашение о прекращении аренды или иного аналогичного договора, в котором будет обойдена судьба арендованной (или вообще чужой) вещи. Повторюсь, о будущих (условных) обязательствах не нужно даже такого умолчания: они уже не возникнут, если договор прекращен. Кроме того, серьезный договор содержит такое громадное количество условий (большая часть которых никогда не наступает), что даже простое выявление и перечисление их практически едва ли возможно. А ведь эти условия и формулируются на случай различных обязательств. Это же, пожалуй, можно сказать и о срочных обязательствах, имеющих ту же судьбу, что и условные. Те же последствия, что и соглашение о расторжении договора, имеют, конечно, условия договора, специально сформулированные на случай расторжения (сохранение обеспечительных мер к обязательствам из расторжения договора и др.). Об этом подробно пишет А. В. Егоров, обосновывая свои предложения по изменению нормы ст. 453 ГК РФ (Егоров А. В. Ликвидационная стадия обязательства), о чем мы уже говорили выше. На практике, конечно, могут возникать различные неполные соглашения: стороны могут договориться только о прекращении договора, так или иначе выразив при этом волю на дальнейшее обсуждение последствий расторжения, и т. д. Эти аспекты выявляются толкованием соглашения о расторжении договора, как, впрочем, и любого соглашения. Еще в большей степени это относится к случаям одностороннего отказа от договора или решению суда о расторжении договора, поскольку истец прямо не поставил перед ним соответствующие требования. Во всяком случае при отсутствии соглашения о последствиях расторжения договора, в том числе и в форме квалифицированного умолчания, будут действовать нормы закона либо договора об ответственности за неисполненное обязательство и др. (выше мы показали, что в конечном итоге источником обязательств будет воля сторон, выраженная в договоре). Применимы, наконец, и нормы о неосновательном обогащении, но только субсидиарно (ст. 1103 ГК РФ). С точки зрения теории мы здесь будем иметь ситуацию с прекращением действия договора на будущее время, что само по себе, видимо, и является собственно прекращением договора.
Не говоря уже об условных сделках, которые, конечно, могут быть расторгнуты до наступления условия, может быть расторгнут и любой иной договор, в котором уже прекратились или еще не возникли те или иные обязательства. Например, если по лицензионному договору право использования исключительного права предоставлено лицензиату, а тот выплатил вознаграждение лицензиару за весь срок использования, то никто не мешает сторонам досрочно расторгнуть договор, хотя бы это уже не влекло прекращения каких-либо обязательств. В другом случае, если заказчик уже внес аванс по договору подряда, а подрядчик должен приступить к работе после окончания зимних морозов, вполне возможно расторгнуть договор в тот момент, когда у заказчика еще нет обязательств по платежам, а подрядчик еще не обязан начать работы. В связи с этим, может быть, имеет смысл затронуть известную дискуссию о том, существуют ли обязательства до срока исполнения. Оспаривая суждения тех, кто полагает, что до наступления срока обязательства нет, С. В. Сарбаш, приводит два аргумента: во-первых, имеется договор, во-вторых, обязательство есть, но оно «иногда называется «несозревшим» <1>. ——————————— <1> Сарбаш С. В. Исполнение договорного обязательства. С. 320.
Первый аргумент, что договор уже есть, как раз ничего, как мы видим, и не доказывает. Теперь давайте обсудим, можно ли называть обязательство до срока «несозревшим» и что это значит. Ну, во-первых, скорее всего, это значит, что на самом деле обязательства нет, — именно поэтому пришлось придумывать метафору, не имеющую точного юридического смысла и уж, конечно, никак не становящуюся более убедительной от использования кавычек (я бы лишь отметил здесь вообще присущую автору и вполне оправданную в данном случае осторожность; более того, учитывая, что С. В. Сарбаш не стал развивать и усиливать тезис о «несозревших» обязательствах, удостоив их «незрелость» кавычками <1>, проявленная им сдержанность заслуживает, как представляется, почтения). ——————————— <1> Изложение известной литературы по этому поводу см.: Васнев В. В. Срок вступления договора в силу // Вестник ВАС РФ. 2012. N 1.
Во-вторых, права в принципе неспособны к развитию, становлению, созреванию. Права возникают исключительно моментально (дискретно), сразу в полном объеме. Именно поэтому закон часто указывает на юридический факт, с которым связывается возникновение права (обязанности), как на момент. Когда этот термин прямо не употребляется, мы все равно обнаруживаем именно моментальное действие юридического факта. Можно говорить о постепенности применительно ко времени, но, как известно, закон оперирует сроком, который как раз и отличается от времени дискретностью: срок без одного дня — не срок вообще. Но время-то, безусловно, текло. Впрочем, в любом случае юридический факт — это не право. Факты как явления материального мира (а материя существует в физическом смысле как непрерывность, континуум) еще могут обнаружить в той или иной степени длительность, протяженность в пространстве и во времени, хотя эту протяженность закон, однако, так или иначе стремится все же вполне решительно устранить. Но субъективные права (обязанности) — явления идеальные, они не могут постепенно становиться, накапливаться, конденсироваться, созревать и т. п. Они либо есть, либо их нет. Соответственно, обязательства могут существовать или не существовать. Обязательства до срока, конечно, не существуют — не существуют потому, что «недозревших», «недоросших» обязательств (как и прочих «недозревших» прав и обязанностей) не бывает. Их можно именовать (и в таком смысле понимать соответствующие нормы закона, говорящие об обязательствах до срока) как возможные либо будущие обязательства (согласились же мы наконец принять термины «будущее право», «будущая вещь»). Но сказать «возможное (будущее) обязательство» — это в то же время значит сказать, что сейчас обязательства нет. Никаких промежуточных состояний между возможностью и действительностью не бывает. А случай, например, досрочного исполнения (если оно дозволено) можно в этом плане интерпретировать как превращение возможного обязательства в действительное действиями должника. Эти действия будут иметь, наряду с прочим, также и качество момента. Обнаружив две группы сделок: создающих обязательства и создающих (передающих) гражданские права без установления обязательства, — мы не исчерпываем еще всех вариантов сделок. Остается еще достаточно большая группа сделок, результатом совершения которых являются не всегда права, а если и права, то несамостоятельного или незавершенного вида, нуждающиеся в дополнении или развитии (в том числе секундарные). Именно потому, видимо, возникла необходимость в таком обозначении действия сделок, как «юридический эффект». Имеются в виду сделки по одобрению (отзыву одобрения) других сделок, наделению полномочием <1> или его прекращению, созданию, реализации преимущественных прав, отказу от преимущественных прав <2> и т. д. и т. п. Общим у них, видимо является отсутствие объекта (ст. 128 ГК РФ), или, что то же самое, достижение этого объекта посредством иных сделок (действий). ——————————— <1> Полномочие — приходится вновь и вновь повторять давно сформулированное В. А. Рясенцевым утверждение — не является субъективным правом. Полномочие не может быть нарушено как субъективное право; полномочию не противостоит чья-либо обязанность; полномочие не порождает права на иск, а между тем это все обязательные требования к субъективному праву (Рясенцев В. А. Понятие и юридическая природа полномочия представителя в гражданском праве // Уч. записки ВЮЗИ. Вып. 2. М., 1948. С. 5). Это суждение В. А. Рясенцева никем не было опровергнуто (в том числе оказались неудачными попытки найти обязанное по отношению к полномочию лицо). Ссылки на германскую литературу неубедительны хотя бы потому, что именно в полемике с германской литературой В. А. Рясенцев и сформулировал свои выводы. Да и сами по себе апелляции к германскому праву ничего не доказывают, а лишь подтверждают, что в рамках действующего российского права аргументов не находится. К доводам В. А. Рясенцева я бы добавил еще и такие: полномочие, в отличие от субъективного права, которое всегда основано на своем интересе, осуществляется только в чужом интересе; полномочие не имеет стоимости и не может быть оценено, компенсировано в деньгах или вещах; полномочие не подлежит цессии; полномочие вообще не может быть передано (передоверие не является передачей, поскольку полномочие сохраняется у первого представителя после передоверия). Заблуждение, что полномочие — это субъективное гражданское право, не столь уж безобидно. Одним из неудачных, как представляется, его следствий стала позиция, расширяющая понятие злоупотребления правом до аннулирования сделки (ошибочность идеи о недействительности сделки в результате злоупотребления правом в конечном итоге коренится в забвении того факта, что сделка не является реализацией субъективного права, о чем предупреждал в свое время Г. Ф. Шершеневич (Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 1. С. 195)), далее — до деликта, хотя во многих случаях речь на самом деле идет о злоупотреблении не правом, а полномочием. Злоупотребление полномочием действительно может перерастать в деликт, тогда как с правом этого все же происходить не может. Тем самым, конечно, не исчерпываются спорные решения, вытекающие из представлений о полномочии как субъективном праве. Можно указать и на позицию судов общей юрисдикции, отождествляющих защиту полномочия руководителя общества с защитой его трудовых прав, и многое другое. <2> Заявление о реализации преимущественного права покупки имеет, на мой взгляд, все признаки акцепта. Однако арбитражная практика лишила упомянутое заявление этих качеств, тем самым добавив его к числу сделок, создающих юридические эффекты, отличные от прав (обязанностей).
Если вспомнить о принципе запрета на лишение права лица или на обременение его обязанностью помимо его воли, которому в целом подчинен механизм возникновения прав и обязанностей, то значительная часть упомянутых сделок будет состоять в изъявлении воли на утрату права или создание обязанности (сюда можно отнести полномочие, установление опциона и т. д.). В других сделках действие этого принципа будет обнаруживаться в более сложных формах, но проследить его можно в любом случае. Почти всегда эти сделки входят в юридические составы, которые в конечном итоге и порождают обязательства или передают права, т. е. создают то действие, которое присуще первым двум видам сделок. Видимо, комбинация такого рода сделки с договором, создающим обязательства, может быть привлечена для объяснения так называемых корпоративных сделок, последствия которых в значительной мере (поскольку иное не установлено законом) зависят от воли сторон, совершающих сделку, инициирующую общую правовую связь (например, создание хозяйственного общества). Вместе с тем содержание возможных последующих актов сторон (в том числе сделочной природы: выкуп акций и т. п.) такой сделки, с одной стороны, заранее известно или по крайней мере ограничено заранее сформулированными условиями, что присуще действию обязательственной сделки вообще, с другой стороны, в тех случаях, когда участник сделки не изъявляет своей воли на совершение соответствующего акта либо выступает против его совершения, его обязанность подчиниться тем не менее действию этого акта вытекает из того факта, что в момент совершения им сделки по вступлению в корпоративную связь он заранее на это согласился. В данной части эффект корпоративной сделки сходен с эффектом уполномочивания и т. п. сделок. Итак, мы можем выделить три вида сделок по их действию: сделки, создающие обязательства и, соответственно, права требования; сделки, создающие (передающие) гражданские права (исключительные, вещные права, права требования и др.) без создания обязательств, и сделки, создающие юридические эффекты, отличные от обязательств или установления гражданских прав. Эффект сделок, не создающих обязательств и не передающих гражданских прав, можно было бы, не претендуя на концептуальность, назвать безобъектными правами, что является лишь одним из вариантов описания, которое, как представляется, в любом случае будет все же отрицательным, т. е. указывающим на то, чего нет, а не на то, что есть. Это выделение видов сделок позволяет нам перейти к интересующему нас вопросу о различиях в последствиях недействительности сделок. Самая общая реакция на недействительность сделки состоит в том, что она не порождает тех последствий, на которые она была направлена (п. 1 ст. 167 ГК РФ). В этом отношении градация сделок по разновидностям их последствий не имеет, конечно, интереса. Каковы бы ни были различия, они равно уничтожаются (точнее, считаются невозникшими) недействительностью сделки. Основные проблемы связаны с применением п. 2 ст. 167 ГК РФ, который устанавливает имущественные последствия помимо отпадения тех прав, на которые была направлена недействительная сделка. Вот здесь сразу же обнаруживается, что норма п. 2 ст. 167 ГК РФ охватывает только те недействительные сделки, которые создали обязательства, и постольку, поскольку эти обязательства фактически исполнялись. На это указывает как текст п. 2 ст. 167, так и, пожалуй, норма ст. 181 ГК РФ, которая, говоря о сроке исковой давности для споров о применении последствий недействительности сделки, также указывает на исполнение обязательства как единственный факт, с которым связывается защита. Попутно можно отметить два не самых важных пункта, оттеняющих соотношение того описания обязательства, которое дано в ст. 307 ГК и которое вытекает из его обычного понимания, с тем, как оно преобразуется для целей п. 2 ст. 167 ГК РФ. Во-первых, при изложении известных видов обязательств (передать вещь (деньги), выполнить работы, оказать услуги) появляется добавление в виде «пользования имуществом», которое самостоятельного вида обязательства не образует. Одним из объяснений такого уточнения может быть то, что при недействительности договора об использовании непотребляемой вещи (прежде всего аренды) возврату подлежит сама вещь наряду с компенсацией ее использования. Во избежание сомнений по поводу «удвоения реституции» (мне приходилось с ними сталкиваться в первые годы применения ГК РФ) либо ненужного здесь обращения к кондикции и оказывается применимым данное уточнение. Во-вторых, обращает на себя внимание то, что, в отличие от текста ст. 307 ГК РФ, такой вид обязательства, как воздержание от действия, право на компенсацию в случае недействительности сделки не дает. Последнее наблюдение важно и в том смысле, что переводит наше внимание на такой весьма существенный момент, как ограничительное толкование п. 2 ст. 167 ГК РФ. Вообще говоря, закон и не дает никаких оснований для того, чтобы придумывать такие последствия недействительности сделки, которые он прямо не предписал. Однако юридическая инерция привела к иному результату. О причинах мы уже говорили выше, в частности, в связи с проблемой подмены виндикации реституцией. Здесь можно добавить и такое свежее наблюдение. Уже после того как было принято и больше года применялось Постановление N 10/22, судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в ответ на довод ответчика, что норма ст. 167 ГК РФ не дает оснований для применения защиты способами, прямо не указанными в законе, ответила в своем определении по одному известному делу, что суд не связан буквальным текстом закона, но применяет защиту прав посредством судебного толкования <1>, и в результате сформулировала такой вид последствий недействительности сделки, как «включение в состав наследственного имущества» вместо возврата вещи сторонам недействительной сделки <2>. ——————————— <1> Суд не учел того обстоятельства, что закон толкуется применительно к фактическим обстоятельствам на предмет соответствия фактов норме, а не наоборот, поэтому сам текст закона изменениям в зависимости от конкретных фактов не подлежит. Стало быть, суждение суда, которое, судя по тому, с какой готовностью оно было высказано, стало уже, видимо, трафаретным, на самом деле ошибочно. <2> В иске, впрочем, одновременно применялось требование по ст. 301 ГК РФ, норма которой также не позволяет сформулировать способы защиты, отличные от прямо указанных в законе.
Учитывая хорошо нам знакомые тенденции судебного расширения норм о недействительности сделки (в приведенном выше случае — посредством выхода за рамки предписанных последствий), приходится специально обращать внимание на то, что норма п. 2 ст. 167 ГК РФ ограничена последствиями только тех недействительных сделок, которые были направлены на установление обязательств, причем за изъятием обязательств воздержания от действия. Что касается иных сделок, не создающих обязательств, то их недействительность непосредственно влечет общие последствия: те права и обязанности, на которые они были направлены, не возникают (п. 1 ст. 167 ГК РФ). Для защиты здесь достаточно подтверждающего прежнее право иска о признании права. Никакой необходимости прибегать к требованию «восстановления первоначального положения» не имеется, и заявление такого иска само по себе следует расценивать как не имеющее оснований в законе, попросту незаконное, особенно если оно направлено на обход нормы. Имущество по этим сделкам не передается, поэтому норма п. 2 ст. 167 ГК РФ к ним и неприменима. В то же время в силу результата этих сделок их стороны приобретают то или иное имущество не от стороны сделки, а от третьих лиц либо хотя и своими действиями, но все же благодаря правам, полученным по сделке (издательство, заключив лицензионный договор, получает доход от издания чужого произведения; цессионарий получает исполнение от должника и т. д.). В этом случае применим иск о неосновательном обогащении. Вообще говоря, кондикционный иск в связи с недействительностью сделки применяется двумя разными, хотя и сходными способами. Если имелась сделка с исполнением обязательства, то иск применяется как субсидиарное средство (ст. 1103 ГК РФ), например, в том случае, когда вещь, переданная по недействительной сделке, утрачена либо исполнение состояло в выполнении работ, оказании услуг. Если же сделка не создала обязательства (лицензионный договор, уступка права требования и др.), то кондикционный иск применяется в виде основного средства защиты взамен отпадающей в этом случае нормы п. 2 ст. 167 ГК РФ, рассчитанной только на исполнение обязательства. Эти различия применения кондикции нивелируются, если у одной стороны недействительной сделки обязательство было исполнено (например, платеж), а у другой — не возникло (передано исключительное право). Практика обнаружила достаточно острую ситуацию, возникающую на почве сделок о передаче права. В силу предписания п. 1 ст. 167 ГК РФ ничтожность сделки о передаче права означает сохранение права у прежнего обладателя. Для подтверждения этого ему достаточно заявить требование о признании за ним права, обратив это требование в форме иска против любого лица, в том числе против того, с кем он никаких сделок не совершал и кто пытался получить спорное право у третьих лиц (цедент переуступил право требования третьему лицу, исключительное право передано по сублицензионному договору и т. д.). Это требование, конечно, заявляется непосредственно в силу ст. 12 ГК РФ, за всякими рамками реституции, не являющейся вообще способом защиты права. Против такого иска не имеется никакой защиты, а принятые третьим лицом — приобретателем меры предосторожности не спасают его от утраты возможности осуществления порочно полученного права. Ввиду внешнего сходства с порочно отчужденными вещами (это сходство вытекает из того, что субъективное право как объект права приобретает в обороте некоторые черты вещи как объекта права) практика развила его до аналогии закона о виндикации и применительно к доле в праве общей собственности предложила приобретателю защиту в виде заявления о доброй совести <1>. ——————————— <1> Пункт 42 Постановления N 10/22. Учитывая сходство сделок по передаче прав без установления обязательства, к которым, помимо передачи доли в общей собственности, относятся, как уже говорилось, также цессия и передача исключительных прав, приходится ожидать обсуждения применимости этой конструкции ко всем указанным случаям. Так, в частности, и делают авторы уже цитированной нами работы (см.: Дедков Е. А., Александров Е. Б. Указ. соч.).
Достаточных оснований для аналогии, таких как пробел в законе, здесь, впрочем, не видно. Но дело не только в этом. Нужно вспомнить, что сама возможность обладателя права требовать признания за ним права против любого порочного приобретателя вытекает из действия известного нам принципа: никто не может быть лишен права против воли. Никак иначе эта возможность не объясняется, да и не нужно иных объяснений. Но коль скоро это так, защита приобретателя должна ставиться в зависимость не от его добросовестности <1>, а от иного факта: распорядился обладатель своим правом своей волей, хотя бы и по ничтожной сделке, или сделка отчуждения права была сфабрикована, право отчуждено за спиной обладателя. Добросовестность приобретателя, если она будет в этом случае уместна (что, пожалуй, неочевидно), будет заключаться в осведомленности о способах отчуждения права его обладателем. ——————————— <1> Нельзя при этом забывать о том, что «добросовестное приобретение права требования» от неуправомоченного лица в гражданском праве невозможно в принципе» (Суханов Е. А. О понятии ценных бумаг // Частное право и финансовый рынок: Сб. ст. Вып. 1 / Отв. ред. М. Л. Башкатов. М., 2011. С. 12). Это суждение равно применимо к любому праву, не сопряженному с владением вещью. Та же позиция может быть обнаружена и в европейском праве (хотя, она, конечно, не единственная): «Если после заключения сделки цессии договор — основание цессии или другой юридический акт признаны недействительными по правилам гл. 7 кн. 2, право считается не перешедшим к цессионарию (ретроактивный эффект цессии)» («Where, after an assignment has taken place, the underlying contract or other juridical act is avoided under Book II, Chapter 7, the right is treated as never having passed to the assignee (retroactive effect on assignment)» (Draft Common Frame of Reference (DCFR) for a European Private Law)).
Технически для этого нужно сконструировать фикцию распорядительной сделки об отчуждении права, распространив ее и на цессию. Более того, именно в сфере цессии нужда в такой фикции наиболее очевидна, а ее введение, в отличие от конструкции вещного договора, не повлечет ощутимых потрясений нашего права (эту позицию я поддерживаю уже больше десяти лет). Обсуждение этой конструкции <1> не должно, однако, ограничиться простыми отсылками к германским моделям, как это зачастую делается. В любом случае, как и всякая фикция, абстрактная распорядительная сделка должна вводиться в закон (и не иначе) осознанно и путем ясных предписаний. Соответственно, дискуссия должна вестись на почве понимания особенностей нашего права. ——————————— <1> В любом случае стороны должны иметь возможность в частном порядке лишить свою сделку абстрактности и увязать действительность цессии (лицензионного договора и др.) с действительностью основного договора. Но такое соглашение не может, видимо, затрагивать третьих лиц.
Примером такого обсуждения, направленного на поиск паллиатива, может служить работа А. В. Егорова <1>. Идеи автора, также высказывающегося в пользу необходимости учреждения в нашем праве абстрактной распорядительной сделки, не вызывают, как уже говорилось, возражений. Речь идет только о способах ее учреждения. Здесь, однако, не все идеи автора кажутся приемлемыми. Например, тезис о «реституционном требовании о возврате права», пусть даже «с кондикционной природой данного требования» <2>, не имеет, как представляется, почвы в действующем ГК РФ. ——————————— <1> Егоров А. В. Реституция по недействительным сделкам при банкротстве // Вестник ВАС РФ. 2010. N 12. <2> Егоров А. В. Реституция по недействительным сделкам при банкротстве. С. 19.
Кондикция, вообще говоря, — это требование только вещей и денег (ст. 1104, 1105 ГК РФ) <1>. Право на взысканные вещи (и деньги), конечно, присваивается взыскателю вместе с получением присужденного имущества, совпадая с ним, что, безусловно, само по себе отдельного предмета требования не образует и никакого юридического вопроса не составляет. ——————————— <1> См. также: Новак Д. В. Неосновательное обогащение в гражданском праве. М., 2010. С. 357 и сл. (автор нигде не упоминает взыскание прав даже в порядке дискуссии).
Я бы, впрочем, не исключал в отдельных случаях понимание под имуществом в натуре (для целей кондикции) доли в праве общей собственности. Что касается иных прав, то текст закона этому, кажется, сопротивляется. Но главное в том, что при действительной (абстрактной) сделке передачи права оснований для реституции нет, поэтому не видно, по какому основанию отчуждатель права может предъявить к приобретателю требование о возврате (да и о признании) права. В том и состоит ценность абстрактной распорядительной сделки, что она обещает участникам оборота невозможность утраты права никаким образом по обстоятельствам, возникшим из сделки отчуждения права и ранее. При отпадении основной сделки (купли-продажи права и др.) продавец, конечно, лишается иска об оплате, но взамен получает денежный иск о неосновательном обогащении (что возможно и сейчас, если право уже полностью или частично исполнено (см. ст. 1106 ГК РФ) <1>, но что, видимо, кажется автору недостаточным). ——————————— <1> Если право не исполнено, то цедент вообще ничего не потерял. Право у него осталось, ведь сделка недействительна, а если должник еще никому ничего не исполнил, то должен исполнить прежнему («правильному») кредитору.
Если же право (в рамках абстрактной передачи) еще остается у другой стороны сделки (а это все же частный случай), то оно может быть предметом обеспечения денежного иска наряду с прочим имуществом ответчика. Исключения могут, видимо, делаться на случай банкротства (в этом направлении сейчас развивается наше законодательство о недействительных сделках). В отношениях с третьими лицами, напротив, кондикция обычно исключена, за весьма редкими исключениями, и иск о признании права утрачивает все основания для сопоставления с кондикционным. Представляется, что внедрение абстрактной распорядительной сделки должно идти все же не по пути отыскания в ГК РФ того, чего в нем нет, а путем открытого установления законом фикции распорядительной сделки о передаче права (требования, доли в общей собственности, исключительного права). Тогда мы исходим из достаточно простого механизма: передача права условно (фиктивно) представляется независимой (абстрактной) от сделки об отчуждении права, и поэтому при падении сделки в силу ее недействительности передача сохраняет силу постольку, поскольку право передавалось лицом, имевшим это право либо полномочие (правомочие) на его отчуждение. Тогда та «виндикация права», которая ныне легитимирована в п. 42 Постановления N 10/22, становится возможной, только если право приобретено от лица, не имевшего права на его отчуждение, и при условии, что, конечно, само право еще сохранилось. Тем самым будет отброшена и «добросовестность» при приобретении права. Между прочим, мы теперь можем оценить осторожность Президиума ВАС РФ, который именно этот случай отсутствия права на отчуждение и привлек для формирования новой позиции (на самом деле — новой нормы). Переходя к выделенной нами третьей группе сделок, можно, казалось бы, ограничиться только тем выводом, что недействительность этих сделок уничтожает их эффект, в чем бы он ни состоял, — полномочие не возникает, преимущественное право, соответственно, не возникло либо отказ от него ничтожен и т. д. Однако вспомогательные функции, которые обычно имеют эти сделки, усложняют картину. Так, если недействительность согласия выявилась после совершения той сделки или иного действия, которое согласовывалось, то состав, элементом которого являлось согласие, может все же сохранить свою силу. В самом общем виде здесь представляется применимым такой подход, согласно которому ничтожность вспомогательной сделки, создающей последствия, отличные от обязательства или передачи права, полностью уничтожает создаваемый ею юридический эффект лишь в тех случаях, когда развитие юридического состава, частью которого она является, остановилось на этой сделке либо ничтожность состава прямо предписана законом. В качестве дополнительного критерия может вводиться (не) добросовестность третьего лица, т. е. его осведомленность о действительности той сделки, в связи с которой обсуждается сохранение силы за составом. Что касается обсуждаемого нами механизма, то можно заметить, что норма п. 2 ст. 167 ГК РФ здесь вообще неприменима, а положения п. 1 ст. 167 ГК РФ следует обусловить сделанными выше оговорками. К сожалению, закон не дает прямых указаний на этот счет, а практика колеблется между аннулированием всякого юридического состава, включающего недействительную сделку любого вида, и осторожно применяемыми попытками все же сохранения силы за составом в некоторых случаях (так, недействительность некоторых корпоративных актов и сделок постепенно перестает восприниматься как безусловное основание к уничтожению всего состава). Здесь мы вновь обнаруживаем борьбу с инерцией расширительного толкования норм о недействительности сделок. В проекте ГК РФ предпринята попытка существенно ограничить возможности разрушения составов, включающих, например, согласие как одностороннюю сделку. Такой сдерживающий подход должен иметь приоритет, на мой взгляд, и в иных случаях. Подытоживая сказанное выше, я бы заметил, что дальнейшее развитие вполне явственно уже сформулированного подхода к ограничению инерции аннулирования сделок нуждается в углублении и дифференциации представлений о действии сделок и соответствующих различиях в реакции на их недействительность. При этом мы должны учитывать не только логику закона, но и особенности понимания этого института практикующими юристами.
——————————————————————